№7.2023. Мария Елгаштина. Моя работа в театре кукол
(фрагменты воспоминаний)
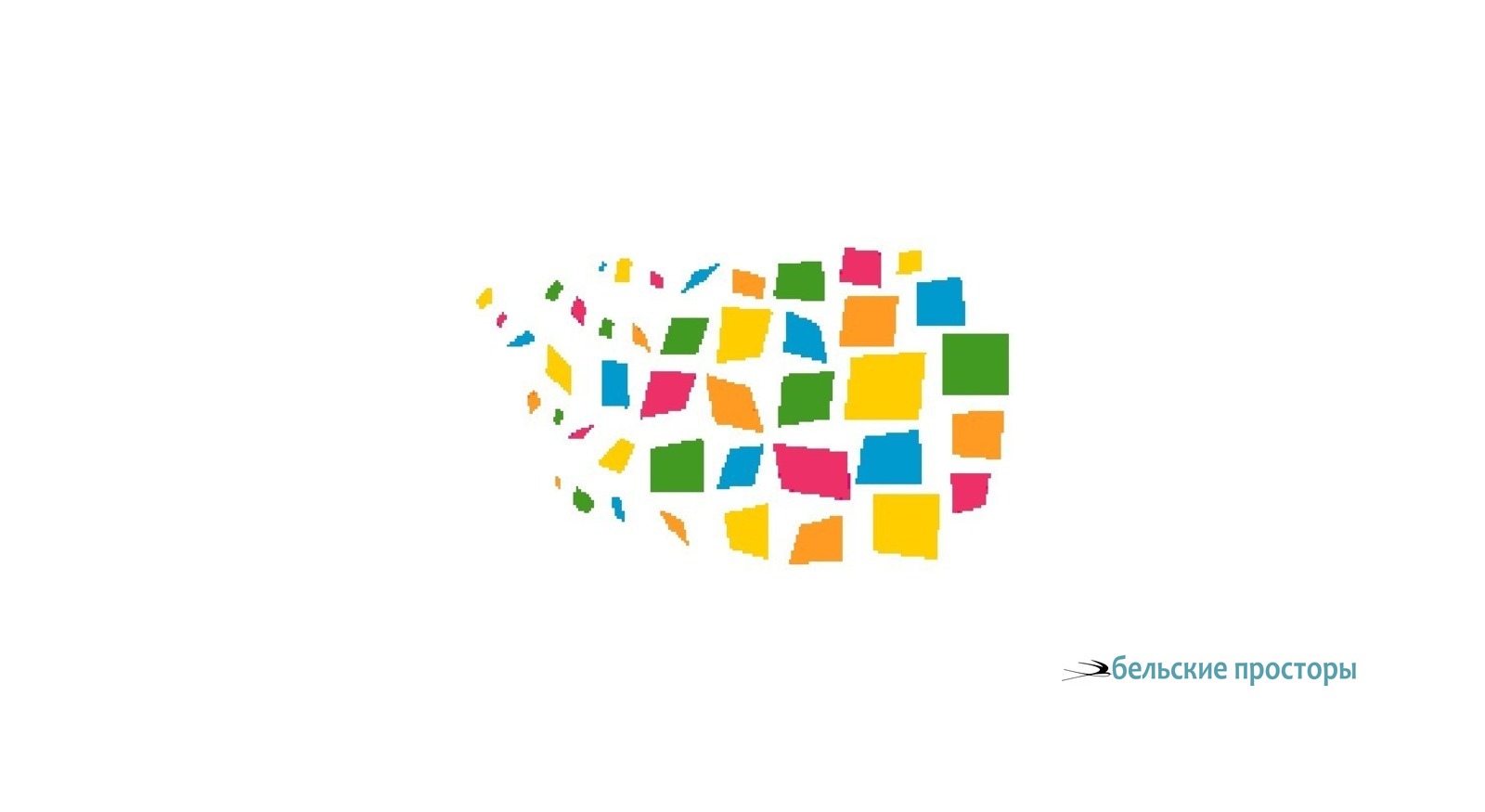
Окончание, начало в № 5
ТЮЗ и работа на стационаре
Осенью 1936 года в Уфе был открыт русский ТЮЗ. Это было большим событием в театральной жизни города. ТЮЗ занял верхний этаж Дома пионеров на улице Ленина[1], а подвальный этаж был предоставлен театру кукол. Итак, после долгих скитаний мы получили стационар, и это показалось нам необычайным благополучием. Наш молодой директор приложил много старания, чтобы сделать наше новое помещение уютным и даже красивым. Правда, вход в него через заваленный всяким хламом тёмный коридор был малопривлекателен, но зато зрительный зал на 250 человек, заново покрашенный, с красивой электрической арматурой, с большими панно по стенам на мотивы сказок Пушкина, с белым порталом, с весёлым занавесом, радовал глаз. И все это было представлено нам с рабочей комнатой в придачу – как тут было не радоваться!
Открытие ТЮЗа не только интересовало наш коллектив, но и несколько тревожило нас. Ведь ТЮЗ являлся до некоторой степени нашим соперником: как сложатся наши отношения, не затмит ли он наш театрик своим внешним блеском и актёрским мастерством, не отнимет ли от нас нашего маленького зрителя, которого мы уже успели полюбить. Мы ревниво следили за отделкой помещения для ТЮЗа: широкая, хорошо освещенная лестница, светлый коридор, застланный бархатной дорожкой во всю длину, комната для танцев и подвижных игр, «тихая» комната, где на столе разложены детские журналы, «Пионерская правда», шашки, домино, и, наконец, просторный зрительный зал и сцена с бархатным занавесом. Всё нарядно, празднично и красиво, всё здесь должно радовать детей. Потом с тревогой спускались в свой подвал: сумрачная лестница и тёмный коридор, заваленный пустыми ящиками. Но открываем дверь в зрительный зал: разве он плох? Не беда, что занавес не бархатный, зато он такой весёлый, с отделкой из пестрых конфетти, подлинно кукольный. Нет, у нас не хуже, чем в ТЮЗе, мы очень довольны и готовимся к открытию. Все работники кукольного театра, конечно, присутствовали на торжественном открытии ТЮЗа. Спектакль шёл при переполненном зале и имел большой успех, чему способствовала не только удачно выбранная пьеса «Брат и сестра», но и хорошее актёрское исполнение. Бесспорно, всё было очень хорошо, а как будет у нас! Хотя в условиях бродячей жизни театр кукол не дал ничего достойного внимания, но нельзя сказать, чтобы он бездействовал. Нет, не угасало стремление внести что-нибудь новое, интересное в наш репертуар. Помогала в этом и детская литература, обогатившаяся за эти годы произведениями таких мастеров, как Маршак, Барто, Михалков.
…Моё внимание привлекла очаровательная сказка Алексея Толстого «Золотой ключик». Я воспользовалась инсценировкой Поступальской и Благининой, сократив длинноты текста и, наоборот, добавив некоторые сцены из текста Толстого, как-то: повешение Буратино на дерево, превращение полена в деревянного человечка, ныряние черепахи и пр. Эти сцены, невыполнимые в человеческом театре, не представляли затруднений в исполнении кукол и были очень забавны. Несколько затрудняла концовка. По пьесе Буратино и его товарищи, открыв золотым ключиком заветную дверь, находят за ней своё счастье – кукольный театр, где они, как хозяева, будут работать свободно, не чувствуя над собой тяжёлой десницы КарабасаБарабаса. Но показывать на ширме кукольного театра второй кукольный театр было затруднительно и малоинтересно, да и вряд ли свободное творчество воспринялось бы детьми как счастье. По совету директора вопрос этот решили так: за заветной дверью Буратино находит путь в страну счастливых детей и попадает в Москву. Весело и бодро шла работа над этим спектаклем.
К этому времени в театре пополнился не только актёрский состав, но появился и администратор, и давно желанный рабочий сцены, что давало возможность шире развернуть работу. Рабочий сцены Н. Н. Караков работал когда-то в оперном театре, но по старости лет и некоторому пристрастию к спиртным напиткам оказался там непригодным. У нас же он как-то сразу слился с интересами театра и был на своём месте. Вместе с актёрами он радовался нашим успехам, наблюдал за порядком в зале, не отказывался ни от какой работы, исполняя в театре обязанности и билетёра, и рабочего сцены, и столяра. Правда, всё, что выходило из его рук, выглядело довольно неуклюже, было непрочно, но всё это ему легко прощалось за то усердие, с которым он безропотно таскал по высоким этажам на своей старой спине ящики с куклами, ширму и прочий тяжёлый инвентарь. Любил он и поворчать, вспомнить при этом свою прошлую работу в «настоящем», а не в каком-то кукольном театре, где с его помощью ставились оперы «Аида», «Черевички». Лицо его при этом расплывалось в улыбку, и можно было подумать, что именно он, Караков, и был творцом этих постановок. «Да, – говорил он, – теперь что я такое? Старый пёс Караков – и больше ничего! Делаю всё не так и никому не угожу, а посмотрели бы вы, какие декорации были в “Аиде”! Как публика принимала! А кто ставил декорации? Да всё тот же Караков…»
Вот с помощью этого добродушного ворчуна по моим эскизам и оформлялся «Золотой ключик». От плоскостных декораций мы переходили к объёмным. Москва показывалась транспарантом в глубине сцены с изображением кремлёвской стены на фоне восходящего солнца. Над созданием этого транспаранта совместно с Караковым трудился директор, любивший принимать участие в оформлении спектакля. Но, по обыкновению, он запаздывал и, не проверив свою работу на репетиции, спешно заканчивал её, когда зрители уже заполняли зал. Я волновалась, как всегда перед премьерой, горячилась и негодовала на такое промедление. К счастью, всё сошло благополучно: когда Буратино и его товарищи в окружении пионеров запели популярную в то время пионерскую песню, её неожиданно подхватили зрители – детские звонкие голоса заполнили зал. Получился весёлый торжественный конец, какого я и не предвидела. На другой день пришел директор ТЮЗа Платонов познакомиться с нашей работой, посмотреть спектакль.
– Мне дочка, – сказал он, – уши прожужжала, видела вчера ваш спектакль и в полном от него восторге: «Вот это спектакль так спектакль!»
Очевидно, и у Платонова спектакль оставил хорошее впечатление. У нас установились с ТЮЗом дружеские отношения, тем более что мы были одного месткома и превосходство его нас больше не тревожило.
Рабочий день начинался рано и был заполнен до отказа. За дальностью расстояния приходилось выходить из дому, когда небо ещё горело румянцем зари. В то время только проводилась первая трамвайная линия по улице Ленина, а пока в ожидании открытия движения мы бодро шагали большими шагами по шпалам. День, когда побежал первый вагон, такой яркий и нарядный, вылился в праздник. На остановках весь день собирались кучки любопытных, мальчишки встречали вагон радостными возгласами и с гиканьем, что-то крича и смеясь, бежали за ним. В этот день их катали бесплатно, и они были в восторге. Знакомые приветствовали друг друга улыбками и поздравляли с праздником. Для нас, работников театра, трамвай был большим облегчением: мы нередко собирались на репетиции вечерами и работали, не спеша расходиться по домам. Работали весело, бодро, никто не жаловался на усталость, и к премьере готовились как к большому празднику… Это были годы расцвета театра. Он рос на глазах и из маленького балаганчика превращался в большое и серьёзное зрелище. Во многом этому превращению способствовал стационар. Каждый спектакль в стационаре, на сцене соответствующего размера, в оформлении кулис и портала и при должном освещении звучит по-другому и играет другими красками, чем показанный в тёмном классе среди сдвинутых в беспорядке парт. И немудрено, что наш театр так быстро превратился в интересное зрелище и быстро привлёк внимание общественности.
Актёрский состав был исключительно женским: никого из мужчин не привлекало искусство куклы, да к тому же не удовлетворял и низкий оклад. Мать директора, Л. Р. Визарова, женщина с весьма крупной фигурой, с низким голосом и хорошей дикцией, с успехом вела мужские роли, а также и роли медведей, волков и прочих громогласных животных. На молодые роли были три актрисы – Посникова, Пентегова и Костусенко. Их звонкие голоса звучали молодо, и с куклой они справлялись неплохо. Две актрисы на характерные роли – Артемьева и Талмина – пришли в театр кукол из «человеческого» театра, а потому они, как это обычно и бывает с драматическими актёрами, с большим трудом овладевали искусством куклы, и приходилось очень много с ними работать в этом направлении. Обычно актёры, пришедшие из драмтеатра, продолжают за ширмой жить жизнью изображаемого героя, они играют лицами, жестикулируют вместо того чтобы, как говорится, войти в куклу, зажить её жизнью, её чувствами и совершенно забыть себя. Искусство кукловода – очень сложное и большое искусство, и далеко не каждому оно даётся. В связи с этим за пять лет работы в стационаре актёрский состав время от времени менялся: уходили одни по той или иной причине, на их место вступали другие, но было уже какое-то основное ядро, группа работников, любивших своё дело и отвечающих его требованиям. В общем, недостатка в актёрах театр больше не испытывал. Должна помянуть добрым словом и нашу пианистку Ю. А. Таламанову. Не будучи профессиональным музыкантом, она не могла исполнять сложные музыкальные произведения, но, обладая прекрасным слухом, без труда схватывала любую мелодию, играла очень легко, ритмично, особенно танцы, что имело большое значение в нашем деле. Большим её достоинством была необычайная преданность своему делу, я сказала бы, какая-то влюблённость в театр. Болезнь унесла её в тяжелые годы войны, мы потеряли хорошего товарища, преданного своему делу и до последней возможности остававшегося на своём посту.
В январе 1937 года был выпущен спектакль «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», очень полюбившийся нам. Для спектакля была сделана специальная ширма с двумя башнями русского стиля по обе её стороны. Эти башни открывались по мере надобности: в одной происходили сцены царицы, в другой – царевны. Сидя перед ширмой в костюме «няни Пушкина» (за образец я взяла картину Ге), я рассказывала сказку, а куклы на ширме иллюстрировали основные сцены. Начинался спектакль пением хора за сценой – романса Яковлева на слова Пушкина «Буря мглою небо кроет». Раздвигался занавес средней части ширмы, открывая пейзаж бескрайней снежной равнины, шёл снег. Этот эффект достигался с помощью маленьких кусочков зеркала, наклеенных на шар. Когда на шар наводился рефлектор и шар вращался, то маленькие световые блики скользили по сцене, создавая полную иллюзию падающего снега. Сколько было радости от этой удачи! Новый голубовато-серый задник служил прекрасным фоном для зимнего пейзажа. Я не могла на него налюбоваться, и мы репетировали сцену царского поезда до позднего вечера, пока не получилось полной иллюзии движения возка и конных всадников, тянущихся бесконечной вереницей по снежной равнине.
Сидя в зрительном зале, я проводила репетицию, делая указания. Когда всё шло гладко, без накладок, голоса звучали уверенно, вовремя вступала музыка, я забывала временами, что я режиссёр: смотрела, слушала и наслаждалась, всё мне казалось трогательно прекрасным! И вместе с тем я изумлялась: пять лет театр влачил, казалось, жалкое существование, терпел всякие лишения, и за всем этим я не замечала, как он креп, рос и теперь совершенно неожиданно встал предо мной во весь рост, как настоящий доброкачественный профессиональный театр, могущий удовлетворить не только маленького, но и взрослого зрителя. Это был тот самый театр, о котором я когда-то мечтала, и я видела, что труды мои не прошли даром…
Война и шефская работа
Никогда, вероятно, не забудется, не побледнеет в памяти тот страшный день, когда радио возвестило о начале войны. На перекрестках улиц люди останавливались перед репродукторами и слушали сообщение правительства. Слова падали, как тяжёлые свинцовые капли, на лицах слушающих читалось напряжённое внимание и старание осознать всё значение случившегося. Я стояла в толпе и слушала. В первую минуту было ощущение полной растерянности, мешавшей разобраться даже в собственных делах. Казалось, что со страшным словом «война» вся жизнь сразу остановилась...
А ведь только накануне, в яркий и радостный день, полный всяческих планов, театр выехал на гастроли на Урал; я получила отпуск, который собиралась провести под Москвой, и билет на вечерний поезд уже лежал у меня в кармане. Что же теперь делать? Что предпринять? Люди отходили от репродуктора растерянные. Вероятно, многие испытывали те же чувства, что и я… Поздно вечером, когда в доме все уже спали, а я всё ещё сидела взволнованная и не думала о сне, в окно тихо постучали. Это Юра, наш театральный художник, пришёл с вокзала, где он сдал в кассу мой билет и проводил московский поезд. «Не огорчайтесь, что не поехали, – сказал он мне, – ехать было неразумно, поезд ушёл пустой».
Дня через два театр вернулся, не закончив гастролей. Работники ушли в очередной отпуск. Опустился занавес, и двери в зрительный зал закрылись на ключ…
Когда через месяц в рабочей комнате вновь собрался весь коллектив, за работу взялись не сразу; надо было ещё хорошенько подумать, что делать дальше, как перестроить свою работу в создавшейся обстановке. ТЮЗ прикрыли «за ненадобностью». Могут прикрыть и театр кукол. За месяц жизнь резко изменилась. Город заполнился эвакуированными, на улицах было непривычно людно и шумно. Уплотнились квартиры, учреждения переезжали с места на место, освобождая площади под госпитали. Вся жизнь была полна тревожного движения, всё ближе чувствовалась война, все мысли были сосредоточены на фронте, и другим интересам, казалось, не было и места…
– Вот когда театр начнет обслуживать бойцов, вы поймёте, какое нужное дело вы делаете, – сказал мне директор, когда однажды я поделилась с ним своим настроением.
Он был, несомненно, прав: театру надо было немедленно перестраиваться на работу для взрослых и подыскивать соответствующий материал.
В один грустный серый день две девушки в военной форме вошли в наш зал и тоном, не допускающим возражения, дали распоряжение немедленно очистить помещение, нужное для других целей. Директора с нами уже не было, он был призван и отправлен на фронт.
И вот застучал топор, затрещали доски. Юра с Караковым спешно разбирали портал, снимали занавес, ломали весь тот уют, который мы устраивали с такой любовью. Весь день мы работали, перетаскивая театральное имущество наверх, в помещение ТЮЗа, где в распоряжение театра кукол были предоставлены сцена, зрительный зал и рабочая комната. К вечеру в опустевшем зале нашего театра валялись лишь стружки да обрывки бумаг…
Новоселье не радовало: не верилось в его прочность, да и сцена была велика и не приспособлена для нашей работы. Однако нельзя же было сидеть сложа руки! Кругом кипела жизнь, сложная, напряжённая, никто не оставался праздным наблюдателем, никто не думал об отдыхе. На счастье, появился и новый директор, крепко взявший в свои руки бразды правления. Это была женщина, эвакуированная из Одессы, – Батрова Е. М. В хорошо сшитом элегантном костюме, в горжете из пышной лисы она имела внушительный директорский вид, ходила крупными шагами и говорила с большим апломбом, хотя и мало понимала в том деле, за которое взялась. Но она горячо отстаивала интересы театра и оставила по себе неплохую память. Начали работать над репертуаром для взрослых. Для этой цели появились специальные сборники эстрадных номеров. Задумали спектакль и для школьников: подвернулась подходящая пьеса, созвучная сегодняшнему дню, – «Митька в Кащеевой стране», где в лице Кащея изображался Гитлер. Кукла была сделана с портретным сходством. Спектакль мог бы быть интересным, но не успели мы его показать, как пришлось расстаться и с этим помещением… Однажды, придя на работу, мы нашли дверь закрытой изнутри на ключ, и на наш стук никто не отозвался: оказалось, что ночью из Москвы прибыли члены Коминтерна и заняли наше помещение. «Ждите, когда люди проснутся и откроют, быстро собирайте ваше имущество и уходите», – так объяснил нам гражданин весьма внушительного вида. Уселись мы на ступеньках лестницы и стали ждать, а Батрова спешно отправилась в управление – узнать о дальнейшей судьбе театра.
Наконец дверь открылась и мы вошли. Всё помещение до отказа было занято людьми и завалено их багажом. Хмурые, бледные люди с измученным видом спали на стульях, на столах, на полу, на ящиках. Везде валялась одежда, ремни, чемоданы, и ясно было, что нам здесь места нет. Никто не был расположен разговаривать с нами, и мы молча, с каким-то виноватым видом принялись среди общего беспорядка разыскивать и собирать наше имущество.
Под дождливым серым небом, кое-как упаковав кукол, мы перебрались в здание Театра оперы и балета, где в то время в большой тесноте ютились все театры. Четыре небольшие комнаты занимала там и филармония, одну из которых управление и предоставило театру кукол. Но директор филармонии встретил нас далеко не любезно и не соглашался потесниться. Долго шли бурные переговоры между ним и Батровой, энергично отстаивавшей свои права… Наконец при содействии начальника управления мы были водворены в одну из комнат и вздохнули с облегчением: мы обрели какой-то кров. Стол, три стула, рояль и ящик с куклами заполнили комнату для отказа, оставалось небольшое пространство, где можно было раскинуть ширму, но для проведения репетиций я вынуждена была садиться за рояль, чтобы что-нибудь увидеть. Спектакли приходилось рассчитывать только на детские сады, школы же, работавшие в 3–4 смены, не имели возможности предоставить площадь для спектакля. Ничего хорошего, заслуживающего внимания мы в эти дни и не могли дать: трудно было обновлять репертуар, трудно было лепить кукол, вообще со всех сторон было трудно. Ко всему этому прибавились ещё и бытовые заботы: уплотнение жилища, недоедание, стояние в очереди за хлебным пайком. Нелегко было сохранять бодрое настроение. И часто вспыхивали размолвки между актёрами, которых не замечалось прежде…
Вот тут-то и пришла на помощь шефская работа, заставившая всех подтянуться и вернувшая нам и энергию, и увлечение своим делом. Никогда я ещё не чувствовала такого большого значения театра кукол, как в эти тяжёлые дни, когда он сделался любимым гостем госпиталей, принося отдых и веселье, а может быть, и хороший сон больным и усталым бойцам. Мы долго наравне с другими театрами добивались включения нашего театра в план обслуживания госпиталей, и когда, наконец, были привлечены к этому делу, то бодро взялись за работу. У нас уже заранее были приготовлены две программы: одна включала нашу любимую и веселую «Щуку»[2], вторая – целый ряд небольших эстрадных номеров, из которых на первом месте стоял скетч Ленча «Сон Гитлера». В годы войны этот скетч разыгрывался почти всеми театрами кукол. Затем шла «Хирургия» Чехова, частушки на военную тему, пляски и пр. Обе программы принимались одинаково хорошо.
Чётко остался в памяти наш первый шефский спектакль. Он шёл в госпитале в помещении Сельхозинститута. Все работники были в приподнятом настроении, пришли с букетами последних осенних цветов… Когда я, как обычно, перед спектаклем вышла приветствовать зрителей и сказать несколько слов об искусстве кукол, я растерялась и не сразу смогла заговорить. Вид бойцов, искалеченных войною, безруких и безногих, с повязками на голове, с бледными измученными лицами, острой болью ударил меня в сердце, и я не сразу обрела самообладание. А когда наконец, подавив волнение, заговорила, то сказала совсем не то, что собиралась сказать. Не об искусстве куклы говорила я, а говорила бойцам о том, что сердца наши всегда с ними, что мы гордимся их отвагой и мужеством, счастливы, что можем чем-нибудь доставить им радость… Я увидела, что в глазах некоторых актёров стоят слёзы, да и все мы были растроганы и взволнованы.
Но вот на ширме появился Петрушка, уселся беззаботно на грядку и обвёл зрителей весёлым взглядом. Поздоровавшись, он объявил, что на фронте у него много приятелей и сейчас он будет писать письмо одному из них. Он требовал от меня бумагу, карандаш, спрашивал совета у меня и у бойцов, что писать, и сразу появились весёлые улыбки и завязался тесный контакт со зрителем, послышался смех. И чем дальше, тем живее пошёл спектакль, и тем дружнее и громче раздавались аплодисменты.
После этого первого спектакля почти ежедневно театр получал назначение в один из госпиталей. За имуществом обычно днём приезжала машина, мы же вечером после работы направлялись в госпиталь пешком. И где только мы ни побывали: и в Нижегородку, и в Старую Уфу, иной раз в метель и непогоду, мы шли бодро, не жалуясь на усталость, гордые своей работой и обласканные тёплым приемом, который встречали повсюду. Вид искалеченных бойцов уже не пугал нас, и неизменно весело бросали мы своё «Здравствуйте, товарищи!», входя в палату тяжелораненых. Там мы устанавливали походную ширму, и тотчас на весёлые звуки баяна в эту палату приходили, а иногда и приползали бойцы из других палат – всем хотелось нашего веселья хоть на полчаса. Отказать в нём было невозможно, и мы ходили из одной палаты в другую, давая в один вечер по несколько концертов «малых» и один «большой» – в зале для ходячих больных. Трудными для нас были только выезды в госпиталь психбольницы, куда мы были прикреплены как шефы. Оказалось, что бойцы, заболевшие психически, не выносили концертов, которые им преподносили филармония и опера: они отказывались их слушать, и артисты уезжали, не выполнив до конца своего задания. Врачи решили испробовать воздействие кукол на больных, и результат получился весьма благоприятный.
Когда мы впервые вошли в госпиталь, за нами тотчас закрылась на ключ дверь прихожей. На нас надели белые халаты и впустили в зал, опять-таки закрыв дверь на ключ. Встретивший нас врач предупредил, чтобы мы не вступали в разговор с больными, а молча раскинули бы свою ширму и начинали спектакль... Больные, находившиеся в зале, лежали на диванах, иные сидели у окна и тупо смотрели на двор. При нашем появлении они не изменили своего положения и не проявили никакого интереса. Но вот первые аккорды баяна, появляется Емеля с вёдрами в сопровождении собаки (мы играли свою любимую «Щуку»). Не могу сказать, чтобы в создавшейся обстановке мы чувствовали себя хорошо, особенно когда в дверях соседней палаты за нашей спиной появился больной и, посмотрев сердито на кукол и грозя кулаком, пробормотал: «А вот я сейчас в них сапогом, сапогом…» Но спектакль шёл своим чередом. Я видела, как из палаты вынесли на койке больного: это был молодой красивый боец с тонкими чертами лица. С ним только что был нервный припадок, и в его больших чудесных глазах ещё стояли слёзы. Его койку поставили перед ширмой, и зал понемногу оживился; больные поднялись и, взяв стулья, тоже придвинулись к ширме – куклы, очевидно, заинтересовали их, а слёзы Несмеяны вызвали даже смех, и мы благополучно доиграли «Щуку» до конца. Больные собрались у ширмы, благодарили, просили приезжать ещё. Один из них, художник, шумно восторгался куклами, долго тряс мне руку, а на лице молодого красавца я с удовлетворением увидела улыбку. Куклы одержали победу! Очень был доволен врач. По его словам, он не ожидал такого успеха. «Вот, оказывается, что им было нужно!» По шефской работе наш театр кукол занял первое место в городе.
Десятилетний юбилей
4 февраля 1942 года театру кукол исполнилось уже 10 лет. ВТО решило отметить наш десятилетний юбилей маленьким торжеством. В эти тяжёлые военные дни театр кукол являлся, можно сказать, носителем радости и душевной бодрости для людей, находившихся под постоянным гнётом тяжёлых мыслей и тревоги. Куклы давали отдых, заражали своим весельем, и на озабоченных лицах зажигались улыбки. Наш юбилейный вечер являлся подлинной победой кукол, и в зале ВТО в этот вечер было празднично и весело. Несмотря на сердитую метель, бушевавшую с утра, зал был переполнен: тут были люди, интересующиеся искусством, артисты драмы, представители общественности, госпиталей, воинских частей, работники детских садов и школ.
Много тёплых слов говорилось в тот вечер в наш адрес... Особенно запомнилось выступление одной московской артистки, она говорила так горячо и убедительно, так высоко оценила деятельность театра, главным образом его шефскую работу, что растрогала всех нас, и мы почувствовали себя чуть ли не настоящими героями, делающими большое и ответственное дело. И это ли сознание, или дружные аплодисменты, сопровождавшие наш весёлый спектакль, но только все мы – работники театра – чувствовали себя в этот памятный вечер очень дружным, стойким коллективом, любящим свое дело, и были счастливы. И это чувство ещё долго жило в нас и заставляло забывать все трудности работы. Да и условия работы значительно улучшились после того, как из маленькой комнатушки нас перевели в более просторную комнату в драмтеатре и мы могли один раз в неделю давать спектакли для школьников.
Для театра наступила более счастливая полоса. В этот период удалось поставить четыре больших спектакля: «Большой Иван», «Волшебная палочка», «Снежная королева» Шварца и «Конёкгорбунок». По счастливой случайности один из актёров образцовского театра, А. П. Кусов, задержался в Уфе, не поехал в АлмаАту, куда эвакуировался театр, и стал работать у нас. Под его руководством и ставился «Большой Иван». Кусов как режиссёр был очень требователен и непреклонно строг. Но то, что он нашёл возможным поставить такой большой и сложный спектакль, говорит о том, что актёры в достаточной мере отвечали его требованиям. Работая с ним в полном контакте, я узнала много нового и полезного, что очень помогло мне в дальнейшем. Роль Ивана (в живом плане) была поручена Вере Бычковой, в то время ещё очень молодой, стройной и ловкой во всех своих движениях артистке. Анатолий Павлович указал мне на неё как на наиболее талантливую актрису нашего коллектива. Кусов много работал с ней, и в роли Ивана она была очень мила, играла с увлечением и радовалась своему успеху.
Для спектакля «Большой Иван» заказана была большая просторная ширма с закрытым наполовину верхом, по которому свободно передвигался Иван. Всё было устроено, как у Образцова. Декоративное оформление поручено было нашему молодому художнику Юре, но справлялся он с этой работой с трудом. Мешало ему отсутствие опыта, а отчасти и лень, постоянно заставлявшая его откладывать работу со дня на день. Вспоминается мне по этому поводу один забавный эпизод: в один из понедельников мы остались с Юрой после репетиции на сцене, чтобы закончить оформление ширмы, так как на другое утро предстояла сдача спектакля и работу надо было завершить во что бы то ни стало. Предстояло расписать большое полотно, драпировавшее переднюю часть ширмы наподобие зелёного холмика, заросшего травой. Чтобы Юре было веселее работать, я тоже взяла кисть и вместе с ним принялась за работу, стараясь разговором подбодрить его, но бедный Юра откровенно сознавался, что он голоден и «до смерти» хочет спать. Мне это было понятно: все мы в военные годы недоедали, а Юра, вероятно, и недосыпал, так как кроме работы в театре всегда работал ещё где-нибудь на стороне. «Ну, Юра, – говорила я, – потерпите ещё, ведь уже немного осталось, а кончить совершенно необходимо». И Юра продолжал работать. Но вот он пошел в рабочую комнату за нужной ему кистью, заверив меня, что сейчас же вернётся. Я ждала, минуты бежали, Юра не появлялся. Тогда я отправилась на поиски и в рабочей комнате застала такую картину: на двух сдвинутых вместе ящиках с куклами лежал Юра во весь свой могучий рост, раскинув руки, зажав в одной из них кисть, и спал крепким богатырским сном… Будить его было бесполезно. Я взяла из его руки кисть и отправилась на сцену. Пришлось провозиться на пустой холодной сцене до поздней ночи, а утром я опять была в театре. На сцене Юра, заспанный и хмурый, прибивал к ширме ещё не просохший холст, а в 11 часов мы сдали спектакль при полном одобрении комиссии.
То обстоятельство, что в «Большом Иване» общение человека с куклами много содействовало успеху спектакля, навело меня на мысль ввести «живой план» и в «Снежную королеву». Очень подходила для этого роль студента-сказочника, в лице которого, вероятно, автором изображён сам Андерсен. На эту роль был приглашён молодой актёр драмы Миша Бубен. Работа с ним принесла мне много радости. Никакого зазнайства, никакого пренебрежения к куклам, с которым я не раз сталкивалась при появлении в нашем театре драматического актёра, у него не было. Это был дисциплинированный, скромный молодой актёр, обладавший приятной внешностью. Когда он появлялся перед ширмой в облике Андерсена и, сняв цилиндр, весело приветствовал публику, она неизменно отвечала ему дружными аплодисментами…
Следующим спектаклем намечалась пьеса местного автора, заслуженного артиста башкирской драмы Шамукова, которую он написал для башкирской группы. Пьеса эта, построенная на материале башкирского фольклора, так понравилась мне, что с разрешения автора я обработала её и для русской группы. Музыку для «Волшебной палочки» я попросила написать композитора Ахметова. Прежде чем дать согласие, он выразил желание посмотреть наш спектакль. Ширма, задрапированная белым материалом с серебряными снежинками, весёлый, очаровательный сказочник перед ней, дружески пожимающий руки куклам, Снежная королева (кукла на тростях) с её холодным надменным видом и страшные разбойники, со зловещим смехом открывающие рты, – на всё это он смотрел изумлёнными глазами и после спектакля сказал мне: «Я постараюсь написать вам хорошую музыку, я с удовольствием буду писать для такого театра, ведь я и не представлял себе, что театр кукол – это такое прекрасное зрелище».
Башкирский театр кукол
В годы войны башкирский театр кукол слился с русским под единое руководство. Это слияние содействовало сближению работников обеих групп и дало мне возможность ближе познакомиться с работой башкирской группы и помочь ей, насколько это возможно при незнании башкирского языка. После того как национальный театр кукол возник под руководством Мансуровой и начал свою деятельность по колхозам как передвижной театр, он как-то скрылся из поля моего зрения. Появляясь в городе раза два в год, в периоды весенней и осенней распутицы, актёры не заходили в наш театр, и только администратор Хамзин, человек деловой и интересующийся своим делом, время от времени появлялся у нас в театре, чтобы воспользоваться моим советом и набраться опыта. Он оставлял весьма приятное впечатление, да и вся группа, состоявшая из шести актёров, одного баяниста и рабочего сцены, оказалась вполне работоспособной. Если принять во внимание тяжёлые условия её работы с ежедневными переездами с места на место, можно было только удивляться, как бодро и хорошо справлялись они со своим делом. Приятно было то, что все их постановки сохраняли свой национальный колорит, что особенно ярко выявлялось в пении и плясках. Помимо спектакля они выступали и в эстрадных номерах. Танцы им ставил артист филармонии Исмагилов, и они исполняли их ярко, темпераментно, с предельной силой выразительности.
Шамуков принимал большое участие в работе башкирской группы, он написал для них несколько пьес: «Русалка», «Шурале» по мотивам Тукая. Особенно удачна была его последняя пьеса «Волшебная палочка». Автор сам ставил её, и должна сказать, что в исполнении башкирской группы этот спектакль, глубоко национальный по духу, прозвучал значительно ярче, чем в русской группе.
Стационар
С осени 1946 года театр начал вновь работу на стационаре. Это было подвальное помещение в здании Театра оперы и балета. И хотя там было сыро и темно, но после тесноты и всяких неудобств мы получили в своё распоряжение помещение в семь комнат с широким фойе, со сценой и зрительным залом. И уже строились планы, как мы теперь широко развернём работу, как уютно обставим все комнаты… Но все эти розовые мечты скоро уступили место действительности: фойе и две комнаты были отданы ВТО, одну комнату занял Союз композиторов, ещё одну – Дом народного творчества. На нашу долю остался лишь небольшой зрительный зал: сцена, которую весной, при таянии снега, заливало водой, тесный художественный цех и канцелярия, где помимо бухгалтера помещался и директор со своим письменным столом и где для режиссёра уже не оставалось места. Но и такие условия работы казались нам вполне приемлемыми.
Мы открыли сезон в новом помещении сказкой «Царевналягушка». В тексте, написанном мною, я придерживалась певучести народных сказок. Декорации в стиле билибинских иллюстраций, а также и костюмы вязались с текстом, спектакль получился вполне цельный и значительный. Эффектной получилась сцена, когда Василиса расплескивала вино и на авансцене появлялись голубые озера с плывущими под музыку лебедями. Танец Василисы на царском пиру ставила артистка балета. Куклу вели два кукловода: один управлял головой и туловищем, другой – руками. Танец под музыку Серова был изумителен по плавности и красоте движений и по требованию зрителей обычно бисировался.
Волнующе проходила сцена возвращения Василисы с пира, когда она застает Ивана за сожжением лягушечьей кожи. Подлинным отчаянием звучал голос нашей Веры Бычковой на словах: «Иванцаревич, что ты наделал!» Она бросалась к окну и улетала, обернувшись белой лебедью. Трюк этот проделывался просто: куклаВасилиса, загороженная от зрителя фигурой Ивана, быстро снижалась, а за окном взмахивали лёгким белым шарфом. Фантазия зрителя дорисовывала остальное – получалась полная иллюзия улетающего лебедя…
В этом спектакле, казалось, воплотилась моя давнишняя мечта: мне удалось передать в нём всю прелесть народного эпоса с его яркими, знакомыми с детства сказочными образами, ширь и красоту русской природы и выразительность народной речи. Я достигла того, о чём давно мечтала…
Ободрённая успехом «Царевнылягушки», я с удовольствием взялась за «Аленький цветочек», строя свой текст согласно фабуле Аксакова. Я уговорила директора пригласить для оформления спектакля художника русской драмы Молодяшина, обладающего большой выдумкой и тонким вкусом. И его постановки были не только глубоко продуманы, но и необычайно красивы. …Макеты были задуманы очень интересно и полны всяких чудес. Лес, где блуждал купец, спасаясь от разбойников, показан был всего лишь двумя деревьями, но на тёмном заднике он казался густым и таинственным. Необычные по форме деревья своими огромными ветвями, похожими на лапы, преграждали путь купцу и неожиданно опускались при его приближении, загораживая ему дорогу. Во дворце Чудища передвижением вручную тонких витых колонок создавалась иллюзия целой анфилады комнат, по которым проходила изумлённая Настенька. В одной неожиданно появляются мраморные вазы с растущими в них красивыми цветами, в другой бьёт фонтан с поблёскивающими струями воды, которые так хорошо передаются целлофаном, в следующей – стол, уставленный всевозможными яствами, и, наконец, в последней – оттоманка для отдыха с раскинутым над ней балдахином, увитым гирляндами роз. Всё это было необычайно красиво, и я уже предвкушала успех этого чудесного спектакля, но тут возникло неожиданное препятствие: директор вдруг потребовал разделить актёрский состав на две бригады и ставить спектакль не на 8 человек, как предполагалось, а на 4 – с тем чтобы другая бригада могла выехать на гастроли. Иначе, по словам директора, театр не выполнит финансовый план, а театру с этого года отказано в дотации. Это требование директора упало на меня как снег на голову. Я категорически отказалась перестраивать «Аленький цветочек» на четырёх человек. Перестроить – это значило не только обеднить, но окончательно испортить, сломать хорошо задуманный, интересный спектакль, отказаться от многих сцен и прекрасных декораций. Мне казалось это совершенно невозможным. Я считала, что только хорошие, доброкачественные спектакли оправдывают существование того или иного театра и привлекают зрителя, а потому качество спектакля я и ставила в основу своей работы. Директор же, пренебрегая этой стороной дела, упирал главным образом на количество спектаклей, чего требовала финансовая сторона дела…
Двадцатилетний юбилей
В последних числах декабря 1952 г. театр небольшим торжеством отметил своё 20летие. Всё было хорошо организовано, нашему помещению был придан праздничный вид. В фойе устроена выставка эскизов, декораций и кукол. Среди прекрасных кукол работы Веры Фёдоровны[3], расставленных на подставках, скромно стояли куклы и моей работы, уже изрядно потрёпанные, говорившие о первых шагах театра. Тут был и Городовой из «Каштанки», и жеманные девицы из крыловского спектакля «Урок дочкам». Торжественная часть проводилась в зале перед сценой; присутствовали представители от школ, от детсадов, от всех театров, от госпиталей и воинских частей, от Союза художников и других организаций. Говорились приветствия, подносились адреса, читались телеграммы. Поздравили театр и Образцов, и мой старый друг и учитель, скульптор Ефимов.
Много тёплых слов было сказано и в мой адрес. ВТО поднесло мне книгу Горчакова «Режиссёрские уроки Станиславского», что доставило мне огромное удовольствие. Небольшие настольные часы подарил коллектив театра. Очень тронуло меня подношение одной маленькой девочки, постоянной зрительницы наших спектаклей: смущаясь и краснея, она подошла к столу, за которым сидел президиум, и, поставив передо мной небольшой флакон духов, тихо прошептала: «Спасибо!»
После торжественной части был показан спектакль «Сказка о мёртвой царевне». Когда я вышла из-за занавеса в своём костюме Няни и низко, по-народному, отвесила в публику поясной поклон, я была встречена шумными аплодисментами. Взволнованная и растроганная, села я на своё место, и голос у меня немного дрожал на первых словах сказки, но скоро я с этим справилась и читала текст с особенным подъёмом. Хорошо прошёл этот вечер. Весь коллектив был в приподнятом настроении, забылись все распри и неудовольствия, и опять, как в былое время, я чувствовала себя спаянной со всем коллективом, и слова, которые были мне сказаны при подношении подарка: «Все мы вас любим и уважаем и рады работать с вами», звучали в этот вечер так искренно и так глубоко тронули меня!
Конец работы
На этом, казалось бы, должна была закончиться вся моя театральная деятельность: мне исполнилось уже 80 лет, и работать в полную силу становилось всё труднее. Директор уже не возражал против моего намерения покинуть театр, и оставалось лишь получить на то разрешение министерства. Я со дня на день ждала приказа об освобождении меня от работы, как вдруг совершенно неожиданно для меня, да, пожалуй, и для всего коллектива, был переведён на другую работу директор, положение которого в театре я считала незыблемым. На его место был назначен Ибаков, администратор башкирской труппы. Он уговорил, можно сказать, упросил меня не покидать театр, обещая всякие льготы в смысле часов работы и общей нагрузки. Я понимала, что с моим уходом и уходом директора, уже разбиравшегося до некоторой степени в театральной работе, театр остаётся в весьма затруднительном положении, а ведь, несмотря на усталость, я не могла оставаться равнодушной к его судьбе.
Я согласилась остаться до приискания мне заместителя. Так прошло ещё два долгих и нелёгких года. С приисканием заместителя ни Ибаков, ни министерство не торопились: видимо, они были спокойны за работу театра, пока она находилась под моим руководством. И они были правы: я до последнего дня старалась удержать театр на достигнутой высоте. Но за большие постановки, требующие большого напряжения сил, я уже не бралась…
В результате моей настойчивой переписки с некоторыми режиссёрами я получила наконец письмо, дающее мне надежду на освобождение от работы. Это было письмо от Н. В. Мисюры, режиссера Куйбышевского театра кукол, с выражением желания перейти на работу в уфимский театр. Письмо его давало мне основание видеть в нём опытного специалиста и надежду на то, что он, молодой и полный сил, возьмёт крепко в свои руки и поведёт театр к новым достижениям.
В сентябре 1955 г. я покинула выращенный и горячо любимый мною театр, передав его под руководство Мисюры.
[1] Позже в этом здании по ул. Ленина, 61, долгое время находился Уфимский авиационный институт и Уфимский авиационный техникум.
[2] Спектакль «По щучьему велению» (главным образом его конструктивное решение) был скопирован М. Н. Елгаштиной с одноименной постановки ГЦТК под руководством Сергея Образцова.
[3] Вера Фёдоровна Волкова – бутафор и художник по куклам.
