Евгений Крашенинников. Самоубийство как убийство
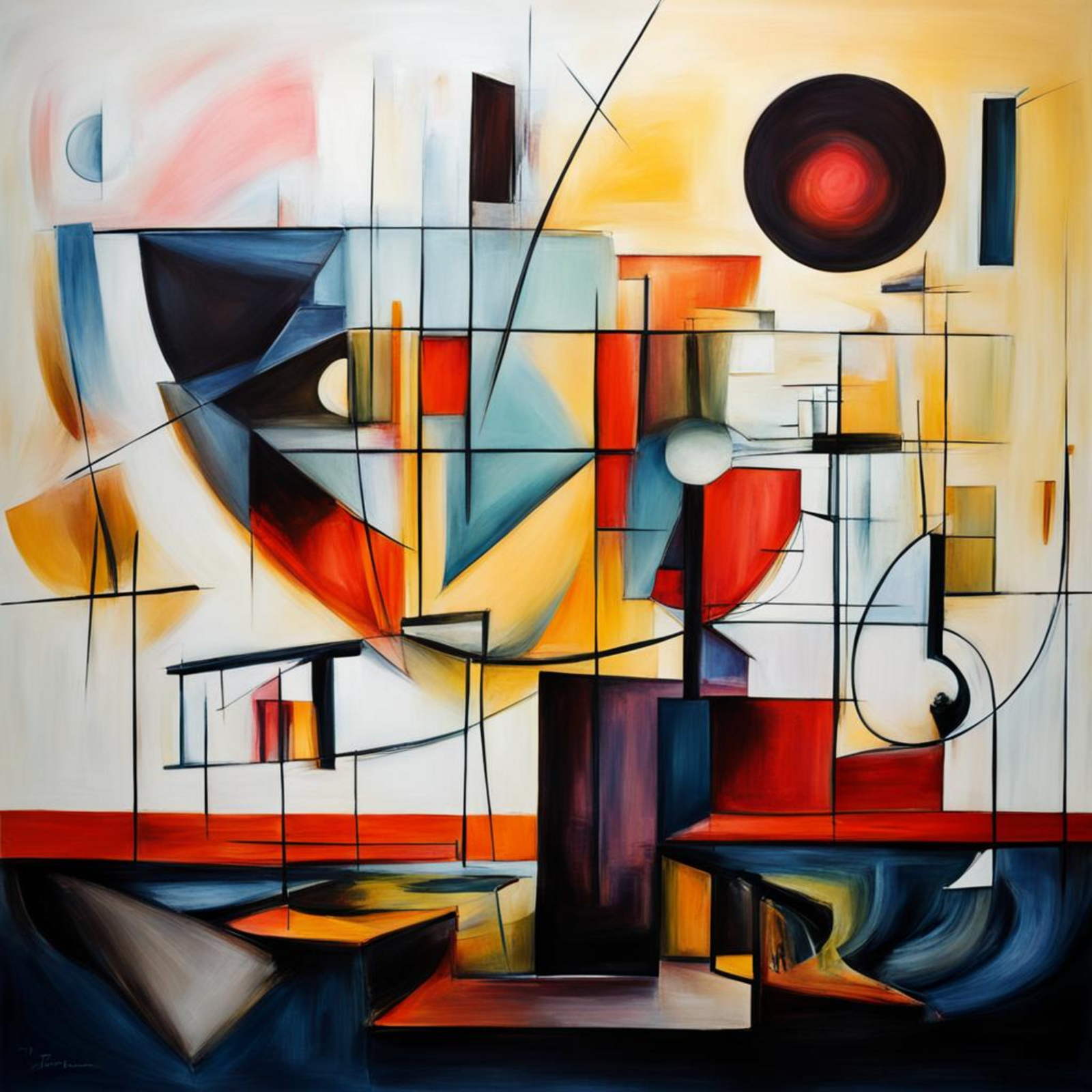
Захожу я однажды в продуктовый магазин. Сейчас уж и не вспомню зачем. Может, за продуктами… Но это неважно. А в магазине у прилавка с продавщицей разговаривает мужичок. Приличный вполне, хотя и с некоторой посеревшестью организма. Разговор был ни о чём – о жизни; да и разговор ли (я услышал-то всего, по сути, одну фразу – может, она была у мужичка не только последней, но и первой, ну а продавщица вообще молчала).
Так он и говорит: «Ну вот, дочери уже восемнадцать, школу окончила, теперь и не знаю, зачем жить…».
Понимаете, меня потрясла не логика этого заявления (мол, раньше знал, зачем жить: чтобы дочь школу кончила… или: а что – в какой-нибудь техникум теперь дочь нельзя ли спровадить, чтобы цели обновить…); меня удивила сама возможность взаимосвязи смысла жизни с чем-то ну настолько несоизмеримым!
* * *
Это – для пока живых.
Любой разговор о тяжёлом, о трагическом, о непоправимом можно вести двояко: для тех, кто уже пережил, и для тех, кто пока избежал. И оба раза говорить правду.
Когда мы говорим после того, как человек ушёл из жизни – по своей воле извилистыми путями болезненного жития, то мы говорим о надежде; о надежде и для него, и для оставшихся – о посмертной надежде.
Но, когда мы разговариваем о возможной беде, то мы говорим другую часть правды: не о надежде, а о вере, о твёрдом знании, что есть в жизни то, что изменить невозможно, и что такое же есть в посмертной участи.
* * *
В своё время, меня, как и большинство моих знакомых, смущало (а кого-то и возмущало), что самоубийц раньше хоронили за оградой кладбища. С одной стороны, какая разница, где лежать, – да хоть развеяться по ветру. Для неверующего всё равно: из праха возник, в прах и уйдёшь; верующий знает, что Бог, творящий из ничего, восставит тебя в новом теле вне зависимости от того, в каком состоянии находятся твои бренные останки. Но всё равно: почему же за оградой? Ну совершил человек непоправимое – так пожалейте, положите среди близких…
А дело тут не в жалости же было… Жалеть можно и нужно всех, и никак это не связано с местом упокоения (кстати, лежащего за оградой ещё жальче). А просто потому, что нельзя было врать, так как ложь – она же зло и ведёт ко злу. Люди знали, что все в жизни делают много гадостей. Есть гадости помельче (регулярно провоцировать ближних на скандал… добродушно бухать ежедневно…), есть гадости покрупнее – убить, украсть, блудить. Но всегда – всегда – остаётся возможность раскаяться. Я говорю именно о раскаянии, а не о пьяных слезах о загубленной жизни; раскаяться – то есть искренне решить больше не грешить и приложить все усилия, чтобы желание стало реальностью.
Правда, это всё не так часто бывает, но шанс есть у всех и всегда. Правда, те, кто откладывает раскаяние в блуде на время подступающей импотенции, а раскаяние в запойном питии до запрета лечащего врача, чаще всего раскаяться просто не успевают – потому что садиться играть с дьяволом всегда проигрышно, он играет краплеными картами, и смерть приходит всегда неожиданно.
Ну как, вы поняли, почему самоубийц не хоронили в ограде?
* * *
Серёжа Прокофьев, тогда уже молодой человек, проснувшись как-то утром, получил письмо. Даже не письмо, а записочку, такую себе вполне бытовую. Записка была от его друга, самого близкого на тот момент: они вместе «рассекали» по пригородам Петербурга, наслаждаясь молодой вольницей, бурлившей в их крови. Так вот, как-то после одной из прогулок допоздна, Серёжа, прочухавшись, продравши глаза, прочитал: «Привет! Знаешь последнюю новость – я застрелился». И имя друга.
Думаю, в наше время он ещё бы смайлик поставил…
Я бы не хотел получить такую записку.
А что хотел его друг? Кстати: друг? Тот, кто напишет нам такую записку – шутничок эдакий – друг он нам? И искупает ли его самоубийство (а он на самом деле застрелился – в этом-то и дьявольская усмешка) эту последнюю… ммм… шутку?..
И тогда возникает подозрение, что человек не просто хотел уйти из жизни (для себя самого); он хотел и других потянуть – в последнем движении, в последней строчке. Туда, за собой. Во зло.
* * *
Однажды один молодой уфимский поэт покончил с собой. Это не так давно было. Хотя…
Вы, возможно, подставляете сейчас какие-то вам знакомые фамилии. Не знаю, не знаю я, как часто поэты в Уфе и окружности заканчивают жизнь свои произволением… Я об одном слышал; стихов его я не читал – да он их, возможно, и написать-то не успел особо. И вот он покончил с собой, обставив всё поэтически. То есть пошло. И вот друг мой – поэт уже без эпитетов (вроде «молодой» или «уфимский») – написал мне в эсэмэске: «Трагичная красивая смерть…».
Смерть красивой не бывает. Смерть – зло. Это не значит, что её нужно бояться. Это не значит, что смерть Роланда нельзя воспевать в ронделях. Это значит лишь то, что к ней нельзя стремиться, ибо это стремление к распаду, к безобразному. Ко злу.
Ну и эсэмэска тоже не лучший способ говорить о смерти.
А красиво ушедший… Очень жалко его, очень… И жалко до конца… Потому что конец известен…
* * *
Кстати, несмотря на доверие к читающей публике, я всё-таки вернусь к теме захоронения за пределами кладбища. Но перед этим ещё небольшое отступление. Почему некрещёных не отпевают в церкви? (Мне трудно судить об исламских традициях, но, как минимум, читатель может сравнить.) Чтобы вы сами смогли ответить на этот вопрос, достаточно просто прослушать или прочитать текст заупокойной службы. Это не служба скорби; это богослужение надежды: надежды на то, что Бог примет ушедшего от нас в Царствие Свое. Как и обещал, ибо Бог своих обетований не отменяет. Но для того, чтобы оказаться там, надо же и жить так, как Он учил. А если ты так не жил… И какой шанс оказаться с Богом после смерти, если ты не был с Ним при жизни?
И Бог не отменит Своего обетования, что в Царство войдёт малое число праведников – тех, кто не грешил, а если грешил (ибо все всё-таки грешат: хотя и очень, очень по-разному), то искренне раскаялся в грехах своих.
А про самоубийцу мы точно знаем, что он раскаяться не успел, так как последним делом в его жизни был смертный грех, нарушение заповеди, полученной Моисеем на горе Синай: не убий. А самоубийца убил. Убил человека. Убил себя. И больше ничего не успел и не успеет сделать.
И поэтому даже у Чикатило был шанс – шанс покаяться. А у самоубийцы шанса нет.
* * *
И поэтому говорить о самоубийстве страшно.
Страшно за повесившегося в пансионате Союза писателей Шпаликова.
Страшно за отравившегося Радищева и выбросившегося из окна Башлачёва.
И именно поэтому десятки людей ищут, кто всё-таки мог убить Маяковского и Есенина. Потому что они их любят. А любовь – это то, что вечно. И хочется, чтобы она и протянулась в жизнь вечную. А если тут всё-таки самоубийство, то путь, конечно, идёт в вечность – но не в жизнь. В вечную смерть. По сравнению с которой самая распрепоганая жизнь покажется раем.
И не зря Николай Первый с переизбытком отрицательных чувств относился к участникам любых дуэлей. Потому что Церковь в то время однозначно относилась к дуэлянтам, как к самоубийцам. Ибо последнее их желание перед смертью было или убить другого, или готовность быть убитым самим. Это не готовность солдата, потому что солдат всё равно хочет жить. А здесь ты делаешь всё, чтобы тебя убили, – ну или убить самому.
И поэтому друзьям Лермонтова пришлось приложить немало усилий, чтобы всё-таки похоронить его в ограде кладбища. Потому что тогда к смерти относились серьёзно. И устраивать профанацию прощания с надеждой на встречу в мире ином было бы тоже оскорблением истины. Что не мешало Николаю Гумилёву просить в голодном зимнем Петрограде священника отслужить панихиду по рабу Божьему Михаилу, потому что надежда на Божье прощение всегда сохраняется. Безнадёжная надежда…
* * *
Почему Лермонтов подставил себя под пулю? А Цветаева накинула петлю?
Нам ли осуждать их?
Но дело же не в осуждении… Дело в том, что сказать живым. Тем, кто ещё не…
* * *
Почему так часты самоубийства у подростков? Причём не сейчас, а всегда. И везде. И в нашей стране. Только сейчас пишут об этом, а раньше не писали. Сравниться с подростками могут только пенсионеры.
Заметьте, это категории не по уровню жизни, например (то есть идут на самоубийство не те, кто очень бедно живёт или в данный момент перенёс тяжёлые физические муки; идут очень разные в этом отношении люди). И наличие этих двух групп уже наводит на мысль, что если мы поймём, например, про пенсионеров, то мы поймём и про подростков.
Помните пенсионера в магазине? Ну того, с которого я начал этот текст? Нет, он, надеюсь, жив. Но что могло его подвигнуть к тому, чтобы поставить на жизни… нет, не крест, а тёмное пятно? Он не знал, зачем жить.
* * *
Когда человек в расцвете существования, вопрос о смысле его не теребит; у него есть на это бессмысленная отговорка: зачем я живу?! – а чтобы жить!
Как будто это ответ… Ведь на самом деле можно переспросить: то есть? Чтобы жить? А это что? – И в ответ мы получим какое-нибудь банальное: чтобы пить, с мужиками-бабами якшаться и зверьё бить по голове. И вот тут уже можно спросить серьёзно: а это-то зачем?
И когда такой вопрос возникает в шестьдесят, а ответ на него ты дать не можешь, то тогда и количество будущих лет неизвестно чего становится обузой. Потому что такой пенсионер знает, что в его жизни ничего не было. Не было смысла. Не было жизни. И длить её незачем.
И подросток не знает. Потому что у него тоже не было. Но не было лишь потому, что эта жизнь разворачивается в будущем, а он-то пока в настоящем. И если он живёт только настоящим, то и жить дальше ему незачем.
* * *
Почему учителя по продолжительности жизни занимают второе место с конца среди представителей всех профессий? Потому что они живут кругами: год, год, каникулы, каникулы… У них каждое лето – конец цикла…
Как-то лет десять назад брали интервью у Ростроповича. И корреспондент брякнул (корреспонденты почему-то очень любят не вопрос задать продуманный, а так – брякнуть): «Мстислав Леопольдович, а давайте вы в нашем театре оперу поставите!» А Ростропович человек-то культурный; он и вопрос воспринял как серьёзно заданный. Поэтому он достал блокнотик, листает его и говорит: «Так… в этом и следующем году не могу, тут занято всё… Дальше свободны второе, третье и четвёртое мая – но там мне, скорее всего, придётся выступать на таком-то фестивале: просто они программу верстают обычно за полтора года, так что я через год точно могу сказать… А – вот! – тут свободно: через шесть лет с четвёртого по одиннадцатое июля у меня пока ничего нет, так что можно поставить подготовку оперы на эти дни!»
Ростроповичу было куда жить. Это не означает, что он не мог умереть раньше. Но это бы уже зависело не от него.
Если нам некуда жить, если мы не выстраиваем нашу жизнь в будущее – то мы, по сути, в какой-то мере самоубийцы…
И если мы не ведём детей в будущее, не помогаем им видеть это будущее: их будущее, их в их собственной жизни, планируемой и непредсказуемой, понятной и неизведанной – то мы и их оставляем в дне сегодняшнем. Без жизни.
И чем дальше растекается горизонт, чем дальше отодвигаются границы будущего, чем дальше перспектива, тем больше шансов для жизни.
А если это перспектива вечной жизни…
Из архива: октябрь 2012 г.
