№8.2023. Виктор Хрулёв. Леонид Леонов: психология литературного творчества
Окончание
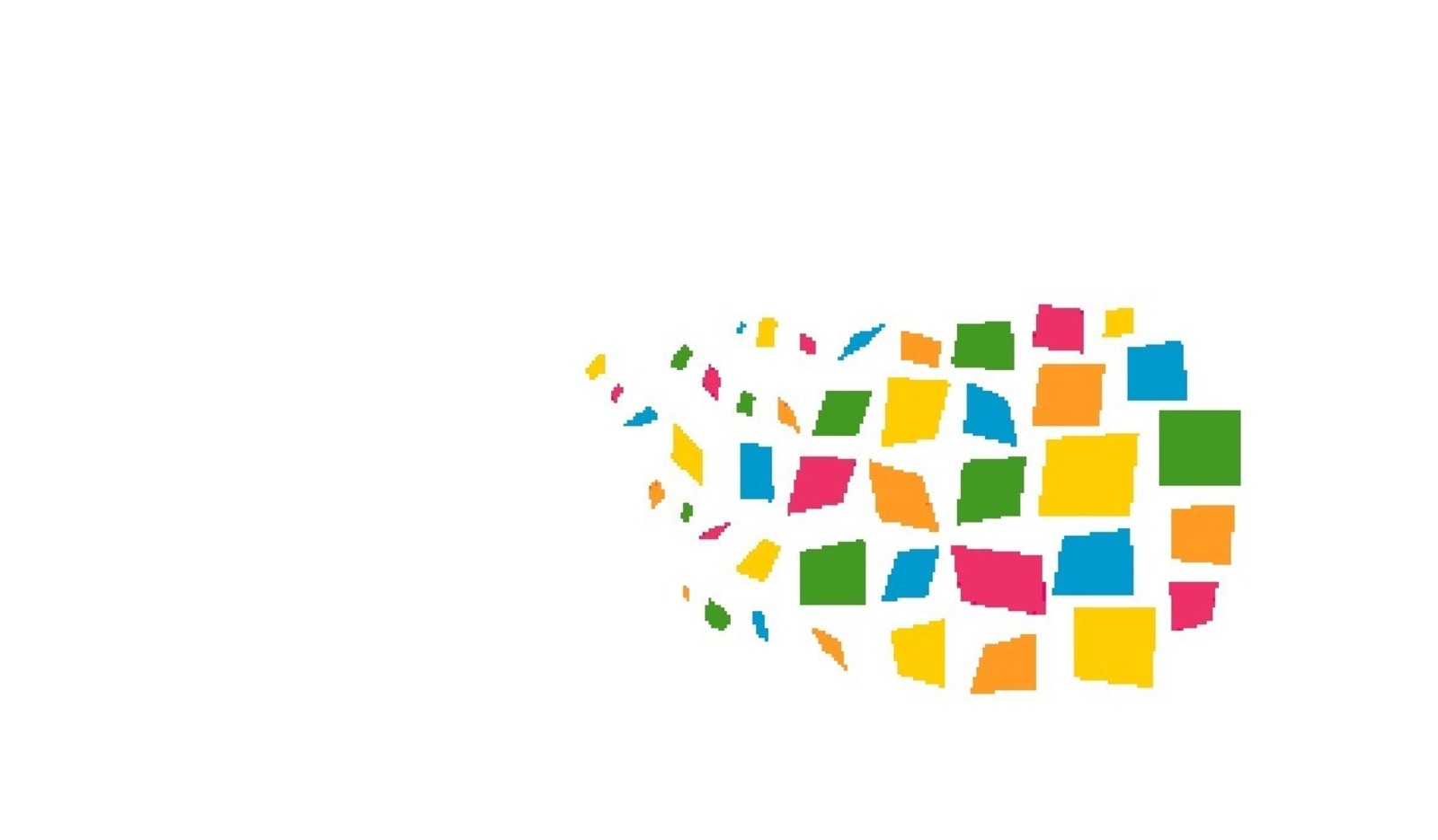
6
Память о прошлом, прежде всего о гражданской войне и жестокостях того времени, не угасала в сознании писателя. Она служила основой его творчества с 1920-х годов от романа «Барсуки» (1924) до повести Evgenia Ivanovna (1963). Незримо, а подчас и явно присутствовала при создании «Пирамиды». Иногда она даже оттесняла работу над конкретным эпизодом романа, побуждала писателя «выговориться», освободиться от груза тягостных картин. Было видно, что впечатления молодости остались самыми яркими и мучительными в его жизни. А на склоне лет они еще острее бередили душу, требовали хоть сколько-нибудь разумного объяснения.
Писатель всегда чувствовал разрушительность того, что происходило в начале ХХ века. С годами все полнее открывался масштаб беды и чудовищность того, что совершалось с народом России. Однажды, прервав работу, он заметил: «Не могу понять, как можно было так обращаться с людьми… В Крыму в 1920-е годы хозяйничали венгр Бела Кун и его подруга Розалия Землячка. Вели себя беспощадно. Тысячи офицеров, моряков уехали в эмиграцию. Они представляли реальную опасность. Тогда большевики обратились к ним с призывом: “Возвращайтесь… Нам нужны опытные офицеры. Будете служить новой России. Преследовать вас не будем…” Русские эмигранты – патриоты. Они поверили и стали возвращаться. Их встречали, везли в степь на регистрацию. А там из окопов вылезали пулеметчики и всех расстреливали… И так день за днем. Десятки тысяч… Бела Кун и Землячка разъезжали на тройке. Лихо… Дама романтическая. Волосы развеваются, в глазах – страсть»[1].
Леонов от внутренней боли закрывал глаза рукой. Картины прошлого вставали перед ним… Погасить память невозможно: «Людей набивали в баржи, закрывали люки, а баржи топили в море».
Подобный эпизод подтвержден и в воспоминаниях дочери писателя Наталии Леонидовны. Рассказ передан по просьбе писателя в косвенном виде без прямой речи: «…Затем судьба привела их в Одессу, где тоже прошла кровавая буря, – туда приезжала Землячка и вместе с Бела Куном расстреляла, как теперь говорили, около 40 тысяч человек. Про Бела Куна страшные вещи рассказывали – видимо, свирепствовал он по берегам Черного моря люто. Уже теперь, в наши дни, мы узнаем, как поступал этот человек – или нечеловек – со своими жертвами: велел привязывать камни к ногам и бросать их в море. Так стояли они страшными призраками на дне морском долгие годы, пугали подводников, не привыкших к таким чудовищным зрелищам»[2].
Обо всем этом Леонов знал не понаслышке. Он пробыл в Красной армии около трех лет. С армией прошел от Екатеринослава через Крым до Одессы. Служил журналистом в дивизионной газете. Ожесточение 1920-х годов проходило на его глазах. И те эпизоды прошлого, которыми он делится с близкими, поражали своей будничностью и жестокостью.
Леонов вырос в строгой семье с ее нравственными понятиями, верой и преданностью Отечеству. Ему довелось познакомиться с представителями прежней московской интеллигенции (художники, издатели, музыканты, писатели), читать в их кругу свои первые рассказы. Профессиональные оценки и советы были для него значимы. Общение с известными специалистами оказало глубокое влияние на духовное становление молодого сочинителя. Он проникся г у м а н и з м о м русской культуры. Ему были близки слова Пушкина о любви к «родному пепелищу» и «отеческим гробам». Более того, в благодарности к прошлому и привязанности к нему он видел, по словам поэта, завет Творца:
На них основано от века,
По воле Бога самого,
Самостоянье человека
И все величие его.
Потому так остро воспринял гонение на верующих, отказ от традиций России, разрыв социальных и семейных связей. Во всем этом молодой литератор видел опасность исторического раскола, утрату единства народа. В романе «Вор» Леонов специально отстаивает уважительное отношение к почве, на которой взросло настоящее: «Прошлое неотступно следует за нами по пятам, уйти от него еще трудней, чем улететь с планеты, вырваться из власти образующего нас вещества» (III, 127).
«Память рода человеческого о былом» (III, 129) неуничтожима и спасительна. Она предохраняет людей от забвения и повторения ошибок. Ибо «нельзя в завтрашнее без вчерашнего войти» (III, 130).
В 1990-е годы эйфория от вседозволенности, разграбления страны и быстрого обогащения оказалась сильнее чувства самосохранения. Стихия хищничества торжествовала над разумом. Недальновидность современников повторялась вновь. Но теперь уже по отношению к недавнему прошлому. И Леонов увидел в этом признаки надвигающейся катастрофы. Потому так печален конец «Пирамиды», где говорится о сносе старо-федосеевской обители: «Столбы искр взвивались в отемневшее небо, когда подкидывали новую охапку древесного хлама на перемол огню. Они красиво реяли и гасли, опадая пеплом на истоптанный снег, на просторную окрестность по ту сторону поверженного наземь Старо-Федосеева, на мою подставленную ладонь погорельца» (2, 684).
«Исполинские костры», «пепел», «поверженный наземь некрополь» и «ладонь погорельца» – это знаки большой беды, накануне Великой Отечественной войны. Но в них проглядывала и еще большая опасность: не только «гибель цезаря и великой державы» (2, 683), но «предчувствие апокалиптического заката» (2, 682). И эту тревогу за будущее писатель передавал в романе.
При создании «Пирамиды» Леонов испытывал сомнения и опасения по поводу дерзких вопросов (философских, мифологических, религиозных), которые ставил в произведении. И хотя он использовал разветвленную систему оговорок, уклончивости от прямой связи с происходящим, это не снимало ответственности за изображенное. И вызывало его обеспокоенность. Леонов советовался с учеными и религиозными деятелями. И, видимо, получал поддержку своим раздумьям. Существенным было и еще одно обстоятельство. Писатель воспринимал себя переводчиком, талмудистом, выполняющим «задание неба». И отказаться от этого назначения он был неволен. Эта участь поддерживала в моменты смятения души и сознания от происходящего в мире.
7
В начале 90-х годов близкие Леонову люди пытались убедить его, что роман нужно скорее заканчивать и публиковать, но писатель был неумолим: «Нет, нет. Роман не готов. Работы на годы...» Однажды к нему приехал известный литературовед из ИМЛИ им. А. М. Горького и предложил опубликовать хотя бы несколько глав в журнале. В гостиной состоялся обстоятельный разговор, на который писатель пригласил и меня. Доводы литературоведа были справедливы и потому задевали писателя: «Читатели не видят, что делает Леонов. Публикации вызовут интерес. Станет известно, что роман близок к завершению. Опубликованные главы падут на благодатную почву духовного кризиса и вызовут сильный резонанс…» Леонид Максимович внимательно слушал эти суждения, даже соглашался с ними, но положительного решения не принимал. Затем спросил меня: «А что Вы думаете об этом деле?» Я предложил другой путь: не дробить общее впечатление от романа и не печатать по главам, а ускорить подготовку за счет новых помощников или редакционной группы. Реакцию можно было предвидеть: «Здесь спешить нельзя. Сочинительство – дело штучное», – заметил он. После дополнительных уточнений Леонов отказался давать главы для опубликования. Между тем внешняя ситуация действительности складывалась не в пользу романа.
Динамика распада великой державы опережала самые худшие прогнозы. Свобода слова была обескураживающей. Публицистическая смелость газетных и журнальных публикаций, открытое обсуждение самых острых вопросов невольно обесценивали общественное воздействие еще не законченного произведения. Разумеется, ситуация кризиса не влияла на философские и исторические обобщения в романе, на масштабность прогностических выводов, но ситуативная соотнесенность его с историческими событиями ослаблялась. Как роман мысли, итогов о ХХ веке, «Пирамида» не зависела от преходящих обстоятельств, но общественная потребность в подобном произведении именно в этот период оставалась нереализованной.
Однако писатель словно не замечал этого и продолжал скрупулезно доводить главы до совершенства. На все попытки ускорить процесс подготовки он отвечал решительно: «Нет, что Вы. Тут рукав торчит, там тянет... Нужна общая подгонка материала». Возможная потеря читательского интереса его не беспокоила: «Роман не зависит от текущих событий. Там вопросы крупнее... Речь идет о возрастном эпилоге человечества. К тому времени с Россией может произойти многое...» Леонид Максимович недоговаривал то, что мучило его, заставляло по ночам подходить к письменному столу и вслепую делать записи на листах бумаги. Его пугали трагические видения, которые он скрывал даже от близких. Однажды поделился со мной своими ночными наваждениями:
– Вижу магазин, очередь, на земле трупы, все стоят молча и делают вид, что не видят их. Перешагивают, идут дальше. На лицах ожесточение и равнодушие...
– Мы перешли рубеж, за которым начинается безразличие...
– Иногда мне кажется, что Россия уже кончилась... Может быть, ей суждено исчезнуть с карты мира?
– Мы так долго испытывали наш народ, что у него образовалась нечувствительность к боли.
– Недавно один знакомый, немолодой уже человек рассказал: «Иду по улице. Никого не задеваю. Вдруг сбоку – хлоп по плечу. Поворачиваюсь; стоит парень, глаза мутные, смотрит враждебно. Спрашиваю: “За что?” А он яростно так закричит: “Ни за что! Я в Афгане людей убивал! А ты кто?” Психически сломлен. Его корежит ожесточение. А сколько вокруг таких людей!» Леонид Максимович закрыл в отчаянии лицо руками: «Боже мой! Что творится в мире!»
Однажды Леонов стал вспоминать, как чутко руководители СП СССР реагировали на изменение идеологической конъюнктуры и как резко меняли свои отношения с товарищами по перу. В качестве примера привел А. Фадеева, который был вхож в его дом, даже дружил с ним, а в трудную минуту резко охладел: «Когда меня били в печати, жена пошла к Фадееву на дачу хлопотать о поддержке. Он не принял ее: был занят гостями. Разговаривал поучительно со второго этажа. А рядом выглядывала красная физиономия Ермилова. Этот эпизод я ввел потом в роман “Русский лес”. Когда опасность миновала, А. Фадеев стал относиться ко мне дружески, как будто ничего не произошло».
Разговор естественно перешел к произведениям «Разгром» и «Молодая гвардия». Леонов высоко оценил «Разгром», а дальше образно охарактеризовал драму писателя: «Представьте: большая птица, дан старт, разбег. Машет крыльями. Сильней, сильней. Еще взмах, сейчас оторвется от земли... а взлететь не может. Не хватает сил. Талант есть, а взлететь не может».
Я спрашивал Леонова о его отношении к ряду писателей (М. Горький, Б. Пастернак, М. Булгаков, М. Шолохов, И. Бабель, Вс. Иванов, А. Солженицын), к политическим деятелям (И. Сталин, Л. Брежнев, М. Горбачев). Многие из его оценок 90-х годов получили позднее подтверждение в опубликованных книгах: «Леонид Леонов в воспоминаниях, дневниках, интервью». М., 1999; «Век Леонида Леонова. Проблема творчества. Воспоминания». М., 2001; Александр Овчаренко. В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968–1988 годов. М, 2002, и др.
Здесь можно добавить к ним еще один эпизод. Однажды в конце 80-х годов в купе поезда Уфа – Москва моим попутчиком оказался пожилой журналист Соколовский. К сожалению, не знаю его имя и отчество. Он приезжал в Башкирию по заданию редакции и теперь возвращался домой. Узнав, что я готовлю диссертацию о прозе Леонова, неожиданно сказал: «А мне пришлось быть свидетелем ссоры М. Шолохова и Л. Леонова». Естественно, это сообщение чрезвычайно меня заинтересовало, и он рассказал, как это произошло.
В 1948 году Соколовский, по происхождению поляк, был переводчиком коменданта города Вроцлав (Польша). В конце августа там проходил Конгресс деятелей культуры в защиту мира. В составе советской делегации находились Шолохов и Леонов. Шолохова поселили в особняке и затем туда же привезли Леонова. Вечером, спустившись в холл, Шолохов попросил пригласить Леонова, чтобы побеседовать за рюмкой коньяка.
Завязавшийся разговор перешел в профессиональное русло. Заговорили о том, кто и как развертывает своих героев и насколько это удачно получается. (Здесь нужно заметить, что никаких близких отношений между двумя большими прозаиками не было и творчески они развивались в разных направлениях. Шолохов был приверженцем эпической линии Л. Толстого, а Леонов – философско-психологической линии Ф. Достоевского. Но сам факт их общения и потребности в нем свидетельствует об интересе друг к другу.)
Шолохов стал говорить, что Митьку Векшина он изобразил бы совсем не так. Леонов заметил, что и Григория Мелехова можно было дать иначе. Начался жесткий разбор, в ходе которого оба писателя отстаивали свои позиции. Закончилась горячая беседа тем, что Шолохов решительно встал и заявил, что не будет находиться под одной крышей с Леоновым, и потребовал расселить их. Был поздний вечер. Пришлось обращаться к коменданту, тот, не решаясь действовать самостоятельно, позвонил в Москву и, получив согласие, выполнил просьбу. Оба писателя потом выступали с речью на конгрессе.
Возможно, Соколовский где-нибудь и опубликовал информацию об этом инциденте, но в литературоведческих работах она отсутствует. Когда я спросил об этом факте у Леонова, он не проявил интереса к вопросу, заметил лишь: «Не помню».
В указанной книге А. Овчаренко приводится следующий разговор литературоведа с Леоновым: «Заговорили о Шолохове.
– Мне кажется мы с ним очень разные. Может быть, вы правы, в чем-то даже противоположные. Почему-то у нас никогда не происходит настоящего разговора. Несколько раз виделись в больнице. Он прост, разговорчив.
– Здравствуй!
– Здравствуй!
– Как живешь?
– Хорошо. Пишется?
– С трудом.
– Мне тоже. С невероятным трудом.
Вот самый длинный наш разговор. Я не верил, что он сыграл определенную роль в избрании меня в Академии наук»[3]. (М. Шолохов в 1972 году во время выборов в АН СССР неожиданно приехал в отделение ОЛЯ и пригрозил, что выйдет из Академии, если не изберут Л. Леонова. Тем самым М. Шолохов, являвшийся академиком и членом ЦК КПСС, защитил своего соратника по перу от недоброжелателей. – В. Х.).
В книге А. Овчаренко дан и еще один разговор с Леоновым и признание писателя: «Я работал... по 12–14 часов в сутки. И вот думаю, что останется? Может быть, надо было вместо десяти томов работать по-другому, как Шолохов. Он вложил всего себя в “Тихий Дон”, писал его без всяких оглядок. И “Тихий Дон”, конечно, останется. “Судьба человека” – прекрасный рассказ, но слабее. Помните, когда Андрей пьет водку? Разве так этот эпизод надо писать? Вот он стоит перед жрущими фашистами: лежат куски мяса, сала. Он должен был бы сказать: вот вы жрете, а у меня умирает с голоду друг. Дайте мне еды, я отнесу ее другу, хотя это его не спасет, а потом я покажу вам, как умеет пить и умирать русский солдат. Я говорю это только вам, чтобы с помощью моих слов не набрасывали тень нечистоплотные люди. Шолохов действительно был очень талантлив.
– Да, но при вашем варианте вы бы имели леоновскую, а не шолоховскую “судьбу человека”, – возразил я.
– И это верно»[4].
Данный эпизод подтверждает различие подходов писателей к одной теме и даже сцене. И одновременно он свидетельствует о внутреннем интересе друг к другу.
Леонов знал себе цену и привык к тому, что жизнь окружающих людей соотносилась с его творческим графиком. И в свои 90 с лишним лет оставался властным человеком. Он мог вспылить, наговорить резкости близким, но потом при трезвой оценке осознать несправедливость и принести свои извинения. К помощникам относился бережнее: от них зависел каждодневный результат его работы. В профессиональном же плане был диктатором, и требования его были неумолимы.
Однажды мне пришлось быть свидетелем того, как писатель резко отчитывал в прихожей известного литературоведа, автора исследования о его творчестве, который задержал на 3 дня возвращение рукописи нового романа. Леонов выслушал извинения и объяснения причин, но не принял их и проводил критика крайне рассерженным. Свою неумолимость объяснил так: «Я рисковал рукописью. Он мог ее потерять, отдать читать другому, переснять, наконец. Три дня молчит. Застать его невозможно: то на лекции, то на совещании. А что я должен думать?» Речь шла об одном из четырех экземпляров рукописи романа. Допущенная необязательность не укладывалась в его сознании. Конечно, он был прав по существу, но форма выговора показалась мне излишне категоричной.
8
Работать помощникам было непросто, но в профессиональном плане это общение открывало п р о ц е с с творчества изнутри. Леонид Максимович ревниво следил за тем, чтобы в надиктованном тексте не пропал ни один знак и ни одна буква. Для того чтобы можно было вернуться к прежнему тексту, все варианты складывались стопками на подоконнике широкого окна в той последовательности, как они создавались. Варианты сохранялись до тех пор, пока фрагмент не был завершен и введен в текст романа. Леонид Максимович не разрешал выносить из квартиры ни одного листа из суеверия или опасения, что его варианты могут быть использованы кем-то или нанести урон делу. Писатель считал, что никто не должен видеть процесс его работы и знать о ее содержании, пока она не завершится публикацией романа.
Присутствие помощника и устойчивый ритм работы стимулировали творческий настрой, поддерживали надежду на то, что роман может быть завершен. И, наоборот, всякий «сбой» или нарушение привычных условий выбивали из этого состояния, усиливали сомнение. Ради дела художник не щадил ни себя, ни окружающих.
Однажды в воскресенье я простудился. Опасаясь занести инфекцию, позвонил Леонову и предложил побыть один день в изоляции. Писатель уже в воскресенье был вне работы, и еще один день простоя был для него нежелателен. Помолчав, он заметил: «Приезжайте. Будем работать». Естественно, я сделал все возможное, чтобы заблокировать простуду. Съел несколько головок чеснока, выпил лекарство, прогрелся, но ночью почувствовал, что простуда не проходит. Утром, продолжая чихать, приехал и начал работу. Леонид Максимович сел рядом и недовольно заметил: «От Вас разит как от бензиновой бочки». Я развел руками. Закрывшись платком, начал записывать под диктовку продуманный им в воскресенье текст. Время от времени торопливо отворачивался в сторону, чихал, менял платок. Леонид Максимович был сосредоточен и, казалось, не замечал моего состояния. Работа продолжалась в обычном ритме. Я, естественно, переживал, как бы не стать виновником его простуды, но, как говорится, Бог миловал. Через три дня почувствовал себя лучше. Интенсивная работа стала защитным барьером на пути болезни.
Подготовка текста «Пирамиды» проходила мучительно и упорно. Надо было видеть, как воля художника преодолевала последствия возраста, физической слабости, отчаяния в поиске нужного единственного слова. Роман не отпускал его ни днем ни ночью. Он жил им и не хотел допустить, чтобы произведение оказалось незаконченным. Даже вечером после напряженного дня, погружаясь в кресле в отрешенное состояние, писатель продолжал думать о нем в своих видениях и время от времени говорил об изменениях в уже подготовленных разделах.
Художественный вкус мастера, его взыскательность к каждой фразе, ее тонусу, ритму делали автора заложником филигранной работы. Но иного пути он не знал и не хотел знать. «Я не имею права писать хуже, чем раньше. Скажут: был мастер, стал ремесленником. Я не могу позволить себе поблажки».
Недоверие к себе подчас невольно переносилось на свой текст и окружающих, провоцировало мнительность, которая изматывала автора и создавала трудности помощнику. Иногда писателю казалось, что пропущен знак (запятая, тире) или соединительный союз, и он просил прочесть прежний текст заново, с точным указанием знаков, повторить отдельные места несколько раз, чтобы убедиться: все на месте так, как это отложилось в его памяти. В процессе уточнений иногда возникали размолвки, когда писатель начинал настаивать на том, что в тексте должен быть союз или другой знак. Приходилось обращаться к последним вариантам и убеждаться, что этого знака не было и окончательный вариант переписан точно. Видимо, в процессе наращивания текста возникали какие-то интонационные, ритмические требования, которые побуждали автора вносить микроскопические изменения в прежний текст и выстраивать его так, чтобы «разбег» фразы не задерживался и читатель не спотыкался на лишних слогах.
Природная рачительность и экономность Леонова проявлялись в том, как он относился ко всему, что имело хоть какую-то материальную ценность и могло быть использовано в дело до конца. В этом проявлялось уважение к человеческому труду. «Все созданное умом и руками должно служить до конца», – считал он. Ненужные бумаги относились в подсобную комнату в коробку, чтобы летом увезти их на дачу и сжечь. Рабочие записи делались на оборотах отпечатанных стенографических отчетов писательских пленумов, решений.
В первый же день работы писатель предложил, чтобы я записывал диктуемый текст карандашом: потом легко можно было его стереть и внести исправления. Экономились время и бумага. Я знал, что свои рукописи Леонов писал именно так. Он с удовольствием показал мне коробку отличных толстых английских карандашей VENUS, привезенную ему знакомым, и передал два использованных карандаша для работы. Однако на практике они быстро стирались, приходилось отвлекаться, чтобы их заточить. Это нарушало непрерывность работы. Кроме того, записи ручкой были более четкими и быстрыми. Через несколько дней писатель внял моим доводам, и я перешел на шариковую ручку, но приходилось в день по несколько раз переписывать исправленные тексты набело.
После прочтения промежуточной рукописи романа близкими ему людьми Леонов ждал серьезных и, надо полагать, высоких оценок. Но роман производил сложное неоднозначное впечатление. Читать его было трудно, а осмыслить за короткое время масштаб проблем, поднятых писателем, просто невозможно. Конструктивная незавершенность произведения была видна и вызывала вопросы. Говорить об этом писателю было неудобно. В результате высокие оценки романа содержали недоговоренность. И Леонид Максимович чутко улавливал недосказанное и относил это целиком на себя...
Он неоднократно вспоминал изречение древнего арабского поэта: «Чернила стоят столько же, сколько кровь мученика». Все подлинное, на взгляд писателя, рождается тогда, когда выстрадано жизнью, оплачено напряжением ума и памяти. «Труд сочинителя требует полной отдачи, без остатка… И каждый день. На это уходит вся жизнь», – с горечью констатировал он, оглядываясь на прожитые годы.
9
Еще один аспект проблемы: соотношение в авторе художника и человека, личной биографии и творческой фантазии, сам путь отражения собственной жизни в жизни героев произведений. Здесь важно проследить, кáк личное отношение Леонова к революционной перестройке и социализму на разных этапах развития связывалось с соображениями безопасности, с прагматизмом поведения.
Современному исследователю предстоит понять и то, в чéм автор оказывался невольником обстоятельств, а гдé действовал по внутреннему побуждению, и кáк потребность в личной и творческой свободе, в бунте против ограничений, налагаемых официальной идеологией, уживалась со страхом перед возможной расправой. За этим вопросом встает и другой: как внутренние противоречия и необходимость откупаться от догматических нормативов времени сказались на жизненной позиции и психике героев, мучительности их судеб и коллизий.
Патриотизм писателя и философское осмысление жизни сочетались с осторожностью, с желанием не ссориться с властью, добиваться исполнения творческих замыслов независимо от того, насколько удачными или неблагоприятными оказывались условия работы.
Наконец, еще одна грань психологии творчества: отношение Леонова к женщине, любви и отражение личного жизненного опыта и воображения в его произведениях. Какое место занимает эта тема в творчестве художника? Сказал ли он новое слово в раскрытии ее, обогатил ли человека ХХ века новым взглядом на вечные вопросы отношений мужчины и женщины?
Ставя эти вопросы, мы вступаем в тонкую область творческого развития, для понимания которой необходим не только достаточный объем накопленных материалов, позволяющий делать убедительные наблюдения и строить версии. Здесь предстоит учесть два обстоятельства. Одно: Леонов – писатель-мыслитель. И он живет не эмоциями, а разумом. Основу его творчества составляет мысль. Она служит связующим звеном между сочинителем и читателем, между ценностями прошлого и современностью. Одновременно – это и особенность авторского сознания, наделенного индивидуальным способом обобщения и постижения времени.
Мысль писателя – это и духовная реальность, которая становится частью общего бытия, олицетворением взрывчатого состояния мира и одновременно неуничтожимой потребности в красоте, совершенствовании себя и реальности. «…Литература – это мышление; следовательно, писатель – это мысль, а мысль – это производное от сердца, разума и гражданской совести», – отмечал Леонов и уточнял: «…книга – это прежде всего отчет о прошедших у вас процессах мышления» (Х, 359). Эта идея, выраженная афористически емко, – центральная в эстетике писателя.
И в житейских отношениях Леонов больше полагался не на чувства, а на разумность. Он не позволял себе поддаваться стихии чувств, увлечений, порыву страсти. Его вспыльчивость и эмоциональная реакция вскоре укрощались трезвостью оценки и практической целесообразностью. Писатель не позволял себе выпасть из рабочего состояния.
Другое – необходима дистанция, пролегающая между исследователем и жизнью автора, а также близких ему людей, необходима подготовленность специалистов и читателей к пониманию сложных граней личности писателя.
Проблема психологии творчества ставится в «Пирамиде» и специально через судьбу кинорежиссера Сорокина и его размышления, через судьбу Дюрсо, диалоги Юлии Бамбалски и Сорокина, через авторские признания. В беседах и размышлениях персонажей о творчестве много сокровенного, близкого автору. Тема творчества занимает побочное место в «Пирамиде», но она просвечивает сквозь роман, сопровождает основные этапы его развития.
Роман трагичен и горек по своему настроению. Писатель не отнимает у человека право на последнее чудо: отсрочить расплату за преступления перед природой, но вместе с тем не находит основания в пользу исключительного варианта. По его мысли, современная цивилизация идет к тупику, а человечество – к вырождению. Писатель не довольствуется обоснованием данного вывода, а стремится заглянуть в завершающие фазы трагического процесса, представить механику и картину того, кáк это может произойти. Леонов щадит читателя, позволяя лишь прикоснуться к зловещей теме с помощью аналогии, образных зарисовок, иронических намеков: «Гротескное вступленье к старо-федосеевскому апокалипсису... представилось мне вдруг всего лишь виньеткой в стиле Доре – с забавным харями и монстрами на фоне непроглядного мрака, в котором просматривались уже вовсе не смешные лики» (2, 301).
Роман «Пирамида» – не приговор и не истина в последней инстанции, хотя в нем есть пророческие откровения. Это версия, раздумье о возможной судьбе человечества. И одновременно – это земная боль, обращенная к нашему сердцу и уму, боль, таящая робкую надежду на то, что благоразумие остановит сползание цивилизации к пропасти.
В критических откликах на роман есть не только высокие оценки, но и попытки умалить его значение, дискредитировать упреками в конформизме, искусственности сюжета, традиционности художественной манеры. Эти упреки не опасны для автора, ожидавшего крупного, бесстрашного анализа своего творчества, в котором был бы раскрыт драматизм его развития, неизбежные противоречия с учетом исторических, социальных, культурных обстоятельств России в ХХ веке. Писатель надеялся на достойное истолкование своего творчества, и сам мучительно осмыслял пройденный путь.
Роман «Пирамида» (1994) не был прочитан и оценен по достоинству в конце ХХ века. Между тем развитие событий последнего периода (от всеобщей пандемии, утраты здравого смысла и балансирования мира на грани самоуничтожения) соответствует угрозам, которые представлены в романе. Притом динамика их развития в реальности оказывается стремительнее, чем это предсказывал писатель. Но, видимо, время для прочтения и осмысления этого философско-художественного послания Леонова еще не наступило. И кто виноват в этом? Автор романа, динамика исторического процесса или читатель? Сказать непросто.
Опасность нарастающего противостояния в мире, положение России как осажденной крепости могли бы вызвать интерес к роману и воспринять происходящее в нем с особой вдумчивостью. Но произошла уже смена поколений. Свидетели советской эпохи уступают дорогу тем, кто знает о ней лишь по воспоминаниям. Новое поколение, родившееся в 1990-е годы, воспитано на других ценностях и другой литературе. Культ индивидуализма, материального достатка, успеха любой ценой оттеснил представления советской эпохи. И новые читатели воспринимают роман как часть уже пройденного пути. При нынешнем падении культуры, образования и общей развитости молодежь уже не способна осилить классику ХIХ века. Что же касается советского времени, то оно воспринимается как неудачное прошлое со своими иллюзиями.
Иначе говоря, роман остался непрочитанным и невоспринятым в течение последних 28 лет. Но этот срок слишком мал, чтобы считать, что «Пирамида» не нашла своего читателя. История причудлива и непредсказуема. В ней многое может произойти и стать сюрпризом для современников. Будем надеяться, что благоразумие и ответственность приблизят читателей к крупнейшему явлению литературы второй половины ХХ века.
Следует сказать, что критик Леонов обладал редкой проницательностью, логикой, четкостью доводов, уничтожающей язвительностью. Те, кому довелось видеть, с какой решительностью художник отбрасывал прошлые варианты романа и уплотнял их до нового состояния, в котором фраза должна звенеть от напряжения и емкости, знают меру его требовательности. Суд Леонова над самим собой – суровый суд. Однажды он заметил: «Я мог бы написать о себе самую беспощадную критическую статью, потому что знаю свое творчество изнутри и вижу его несовершенство. Но если не делаю этого, то только потому, что сам питаюсь из данного источника». Преклонение перед искусством и принадлежность к цеху писателей не позволяли Леонову открыть ряд сторон своего творческого процесса. Но наряду с этим существенно и другое признание: «Я мог опубликовать свои вещи значительно раньше. И читатели простили бы несовершенства моего рукоделия. Но я их не могу простить. Потому что я пишу для себя»[5]. Высший суд над писателем – его собственный суд.
Есть и другое обстоятельство, с которым неизбежно придется сталкиваться тем, кто ставит под сомнение значение романа и прозрений писателя. Суть в том, что общая культура, эстетический вкус и интуиция Леонова преодолевают и растворяют в себе сознательные или бессознательные движения к компромиссу, стремление сохранить репутацию человека, лояльного к общественной системе и ее идеологии. Эстетическое чутье писателя вносило коррективы в сомнения и страхи даже в самые жестокие 30-е годы и представляло на суд читателей чистый продукт творчества, в котором автор п о д н и м а л с я над собственными слабостями. Художник растворял в себе политика, идеолога, очищая первоначальные замыслы от всего инородного, неорганичного.
Более того, писатель извлекал уроки из собственных просчетов и мужественно обнажал их читателям, чтобы предостеречь собратьев по перу. В одной из статей («Голос родины»), написанной в 1943 году, Леонов рассказывает о просчете, который он допустил в пьесе «Нашествие», когда отклонился от присущей ему манеры изображения. В статье отстаивается право художника сохранять свой почерк и руководствоваться творческим чутьем даже в тяжелейших обстоятельствах войны. В 4 акте «Нашествия» первоначально планировалась беседа Демидьевны с Аниской на квартире у Талановых. Но Леонов, потрясенный фотографией Зои Космодемьянской и документами о ней, решил «взамен бокового, отраженного показа событий... нанести фронтальный удар почти плакатного воздействия» (X, 122), на которое, признается он, «всю жизнь и толкали меня, применяя самые сильнодействующие средства» (X, 122).
Последствия этого отступления оказались удручающими. По признанию Леонова, пришлось «сломить себя и ввести в четвертом акте уйму ненужных мне по логике действия, почти посторонних лиц, написать почти чужеродную в пьесе сцену в подвале и дать Мосальскому фразу, на которую я бы ни за что не пошел в других условиях: в ответ на реплику Ольги: “Она беременна”, офицер отвечает: “Веревка выдержит, мадмуазель!”» (X, 122). Опыт работы над «Нашествием» подводит писателя к непреложному правилу: «...художнику ни при каких обстоятельствах нельзя отступать от своих творческих убеждений, потому что внутренний голос безошибочно подскажет ему, как нужно вести себя в искусстве, чтобы потомки не упрекнули его за равнодушие или поспешность...» (X, 122).
Глубокий кризис, в который была ввергнута в 1990-е годы Россия, завершился отрезвлением общества. Простодушная доверчивость к тем, кто искушал народ «новыми» ценностями, сменилась пониманием эволюционности развития. И здесь уместно напомнить мысль Леонова об отношении к собственным ошибкам: «Через знание, через радарное свойство мысли мы жаждем продлить себя в веках. Притом не одними только удачами... интересуемся мы, но также историей неоправдавшихся поисков, пускай даже без завершительной победы, – трагедиями великих научных ошибок, потому что это наши о б щ и е ошибки, и было бы безумным расточительством выкидывать из памяти людской мучительные и, может быть, наиболее ценные уроки заблуждений» (X, 457). Это написано в 1962 году, но кажется, что вызвано нынешними событиями и действиями тех, кто спешит растоптать прошлое, лишить народ памяти, попрать его достоинство и веру. Мысль Леонова предостерегает от поспешности и метаний с одной стороны на другую, напоминает об ответственности за принимаемые решения.
***
Обращение к творческой лаборатории Леонова, к тому, что характеризует его духовные и художественные искания, позволяет увидеть сложность самого процесса мышления, поиска истинного решения. Природа творчества художника – всегда тайна, и не только для читателя, но и для самого автора. И если перед нами сочинитель, способный беспощадно взглянуть на себя со стороны и одновременно зафиксировать хотя бы некоторые процессы творчества – его наблюдения представляют несомненную ценность для исследователя.
Леонов, отличавшийся остротой восприятия, масштабностью мысли и горячностью темперамента, незадолго до издания «Пирамиды» заметил: «Я смиренно принимаю свою судьбу и не надеюсь на внимание в нынешних условиях»[6]. И это не лукавство, а спокойное достоинство автора, который сделал все, что было в его силах, сказал то, что хотел, и теперь независим ни от современников, ни от будущих читателей.
[1] Из разговора с писателем (1992).
[2] Наталия Леонова. Из воспоминаний // Леонид Леонов в воспоминаниях, дневниках, интервью. М., 1999. С. 60.
[3] Александр Овчаренко. В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968–1988-х годов. М., 2002. С. 125–126.
[4] Там же. С. 218–219.
[5] Из разговора с писателем (1991).
[6] Из разговора с писателем (1994).
