№12.2022. Пелагея Сбитнева. Из прошлого.
Пелагея Ивановна Сбитнева (1902–1996) родилась в селе Загорское Свято-Троицкой Волости Уфимского уезда Уфимской губернии. Училась в Загорской земской школе, с 1919 по 1921 гг. училасьв 3-й советской школе 2-й ступени в Уфе. С 1921 по 1923 гг. работала учителем в деревне Покровка Иглинского района Башкирии. В эти же годы занималась в драматическом кружке в селе Загорское подруководством учителей Огородниковых. Работала воспитательницей и заведующей детскими садами г. Уфы с 1931 по 1954 гг. Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны ». Умерла в Уфе 5 ноября 1996 года. Похоронена на Северном кладбище.
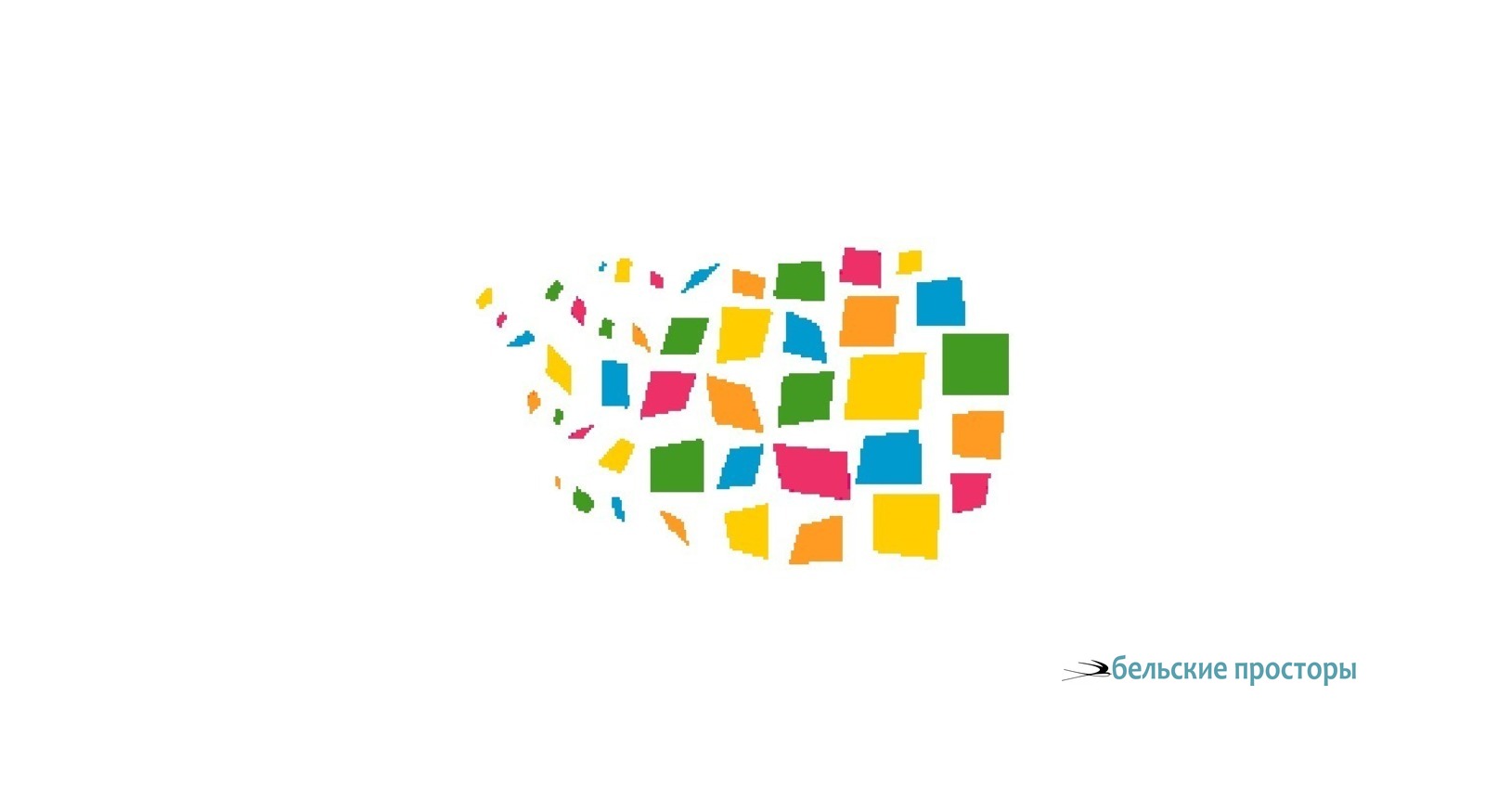
В 1960 году мне довелось побывать на родине моей бабушки – Пелагеи Ивановны Сбитневой (урождённой Светлаковой) (1902–1996) – в деревне Загорск Иглинского района Башкирии. Жарким летним днём, в Троицкую родительскую субботу, все ходячие жители деревни собрались на местном кладбище, чтобы помянуть своих предков. К некоторым из них приехали по этому поводу родственники из ближайших городов и деревень. Каждая семья расположилась под большими берёзами, возле могил своих близких. В нашем кругу оказались потомки из породнившихся семей Светлаковых, Целищевых, Скочиловых, Гончаровых и Шестаковых. Каждый старался вспомнить что-то доброе и весёлое из жизни своих предков. Муж тёти Даши – Семён Аверьянович Целищев – под смех собравшихся обносил всех чайником с домашним вином и наливал в подставленные стаканы и кружки. Рядом с нами так же сидели и поминали своих предков другие семьи, и казалось, что все жители Загорска были одной дружной семьёй. Много позже я прочёл в одной из книг, что старая Россия была семьёй семей. А тогда это был один из последних всплесков былого единства, уходившего из жизни крестьянской Атлантиды. Эту уходящую жизнь ещё успели воспеть писатели-деревенщики, близкие им по духу художники и немногие кинорежиссёры от Андрея Кончаловского до Василия Шукшина.
Моя бабушка, большую часть своей жизни прожившая в Уфе, в 1970–1980-е годы тоже обратилась к своему давнему деревенскому прошлому в воспоминаниях о своих родителях и том укладе жизни, которым жила русская деревня в начале ХХ века. К 120-летию со дня её рождения я хочу поделиться с читателями журнала «Бельские просторы» фрагментами из её книги «Воспоминания. Дневники. Письма» (Уфа: Вагант, 2010). Ценность этих простых мемуаров состоит в том, что они, в отличие от деревенской прозы, дают взгляд на давнюю крестьянскую жизнь не детей и внуков крестьян, сформировавшихся уже в советское время, а непосредственной участницы всех этих событий
Пётр Фёдоров
Родилась я 21 октября 1902 года в деревне Загорское (потом ставшее селом) Иглинского района Башкирии. Была восьмым ребёнком в семье. Всего было у матери пятнадцать человек, осталось в живых пять: Наталья – 1892 года рождения, Дарья – 1894-го, Тоня – 1896-го, я – с 1902-го [и Михаил – с 1908-го]. Мои родители приехали из Уржумского уезда Вятской губернии на починок в густом дремучем лесу. Мать моя рассказывала, как они ехали на лошади, и всё имение положили на сани, а её с сестрой посадили сверху. Дорогой пригревало солнце. Приехали в дремучий лес: на небе не было просвета. Приехали они не одни: было ещё много семей. Сначала остановились на поляне, им не понравилось там. Потом переехали километров за тридцать на починок. Жили в балагане, хлеб пекли в артельной избе, лук брали у помещика Емельяна Ивановича Круглова. Нас, детей, ещё не было. Семья была большая – одиннадцать человек (мои дедушка и бабушка, три сына, три снохи, три дочери). Жилья не было. Нужно строить дом, а хлеба сеять негде: вся земля под лесом. Купили землю у помещиков по 100 и 110 рублей за десятину под лесом. Нужно расчистить, чтобы можно было распахать и посеять хлеб. Работа была тяжёлая, техники не было. Всё делалось пилой, топором и лопатой. Первые годы хлеба не хватало. Брали у помещика Круглова затхлую муку, жили впроголодь. Зимой ткали для помещика кульё. Сырьё для кулей добывали сами. Работали по двадцать часов в сутки.
В то время, ещё до революции, о машинах никто не слыхал. Помню, Колька Шестаков бежал по улице и кричал: «Телега без лошади!» Это управляющий помещика Круглова Филька впервые ехал на машине по нашему селу.
Одевались, начиная от белья и кончая верхней одеждой, своими материалами, искусно сделанными своими руками, руками женщин. Для этого сеяли лён. Обрабатывать его – трудное дело. В течение всей осени в дождливую погоду, когда нельзя работать на поле, занимались обработкой льна. Зимой пряли: тонкие нити (так называемое волокно) пряли взрослые, потолще (почеси) – дети одиннадцати-двенадцати лет, самые толстые (изгреби – последний сорт кудели) пряли дети шести-восьми лет. Все были заняты работой. Девушки собирались на посиделки с пряхой.
Девушки ходили молотить по найму за 10 копеек в день. На вырученные деньги покупали ситец на праздничное платье, бумажные чулки. Ситец стоил 10 копеек аршин. Летом ходили полоть, жать, сено убирать, косить к помещику Круглову и латышам. Свою работу кончали быстро, так как земли было мало, от хозяйства прибыли не было. Работать приходилось полный летний день 17 часов за 20–25 копеек. А детям и подросткам (в том числе и мне) платили 15 копеек в день.
Отец моей бабушки служил в солдатах двадцать пять лет. Пятнадцать лет отслужил, направили его с пакетом (в то время мало было железных дорог) в ту сторону, где жили его родители и жена. И он заходил домой. Сколько был дома, не знаю или забыла, и опять ушёл дослуживать. Писем не получали (писать никто не умел), разве только с попутчиками передавали, что такой-то солдат жив. Прошло десять лет, у жены солдата родился ребёнок (это была моя бабушка, мать моего отца). Весной дети играли на огороде и обнаружили на усадьбе родителей труп солдата в шинели, а за пазухой документы. Прочитать эти документы было некому: в деревне не было ни одного грамотного человека. Так и закопали этого солдата, а сообщить в волость боялись: будут бить, даже могли бы убить (закон позволял). Время шло, ждали солдата, а он не пришёл. И решили, что это был тот самый отец моей бабушки. А как он оказался на усадьбе мёртвым – дело тёмное и неизвестное.
Мой отец занимался пчёлами. Его отец и дед были пчеловодами. Его дед Василий Ефремович был очень сильный человек: поедет за сеном или за дровами, наложит воз, завяжет, лошадь не может сдвинуть с места, тогда он выпрягает её, отправляет домой, и везёт воз сам. Был он невысокий, коренастый. Никогда ни с кем не ссорился и не вступал в драку: у него были такие здоровые руки, что сразу убьёт. Обуви летом не носил, ходил босиком не по дорогам, а по лесу. Кожа с ног сходит, он поставит ногу на пенёк, топором отрубит лишнюю кожу, кровь засыплет земелькой и идёт дальше. Зимой ходил в лаптях. Ел он много: пироги ржаные с морковью и капустой, шаньги. Он считал это «пелёвой», а брал чёрствый каравай хлеба и горшок молока, этим закусывал и говорил: «А пироги пусть едят ребёнки!» Жена у него была маленькая, щупленькая. Отец всегда говорил, что испортил всю породу. А мать говорила про него: «Грешный он был человек: ходил к другой. Была у него маёрисна». А кто эта «маёрисна», я не знаю.
Отец отца – Василий Васильевич (я его не знала) – умер раньше своего отца Василия Ефремовича. Мать часто говорила отцу: «весь в матушку». Мой дед не обладал таким здоровьем, как прадед, но был трудолюбивым и смекалистым, знал, где и что посеять. Отец в праздники любил выпить досыта: где сидит, тут и уснёт, но если его обнесут рюмкой по просьбе матери, поднимет голову и скажет: «Обнос хуже поноса». Спиртного не пили ни дед, ни прадед, а жена деда каждый праздник пила досыта. Раньше пили спиртное только в установленные праздники. Дед приходил из гостей один и давал команду детям: «Ребёнки, поезжайте за матерью». Отец мой и его братья приедут, вынесут её в сани, если зимой, а летом в телегу, привезут домой, положат на постель, а на второй день она, не опохмеляясь, сразу вступала в свои права по хозяйству. И никогда он её не ругал и не упрекал (по словам моей матери).
Мой отец женился на Вассе Зотиковне Шустовой, которую привезли из Вятской губернии в семилетнем возрасте. Отец моей матери – Зотик (Зот) Петрович Шустов, мать – Наталия Ивановна Шустова. Семья [матери] была небольшая: две дочери и сын Борис Зотикович, которому во время чищобы, когда он выбирал мелкие щепки, подрубленным деревом отдавило у рук пальцы. На правой руке осталось два пальца, на левой – тоже два. Больниц не было, лечился долго дома, выжил. [Потом он] заболел оспой, потерял зрение, остался калекой.
Через пять лет совместной жизни отец отделился. Получился скандал между моим отцом и дедом. Старшая сестра отца была уже замужем, пришли со своим мужем в гости к отцу (моему деду). Мать и отец мои были на работе, а девочка Наталя, трёх лет, была дома. Угощали зятя пельменями из хорошей муки, а детям дали из затхлой муки. В то время пельмени были лакомством, и Наталя оставила один пельмень своей маме. Когда отец узнал, что пельмени были разные, он поднял скандал, так как свою Наталю они любили больше зятя. Мой дед хотел наказать отца физически, отец не дался. Тогда дед сказал: «Ну, Ванька, не осилил я тебя, иди врозь». А чтобы отделиться, нужно было строить жильё. Отцу моему приходилось работать очень много, чтобы перейти на свой хлеб и не брать у помещика гнилую муку. Отец уходил зимой на заработки к помещику, тесал клёпку и возил на станцию за 15–20 километров.
Родители были неграмотные, но отец расписываться умел, так как его выбирали в деревенское начальство сборщиком денег по податям или церковным старостой. У матери через каждые полтора года рождались дети. Условий для роженицы и малыша не было: спали все на полатях и на печке, кроватей не было. Четырёхлетний ребёнок оставался нянчить только что родившегося. Тоню оставляли с «нянькой» Наталей. К зыбке был привязан рог, на нём был надет коровий сосок. В рог вливалось молоко, и сосок давали ребёнку. А Натале хотелось поиграть с ребятами. Привяжут к зыбке верёвку через окно, если услышат рёв ребёнка, дёрнут за верёвку, зыбка качается. Мать приходит в обед домой покормить малыша, а он лежит в люльке (брать на руки «няньке» не разрешалось), у Тони вся головка в молоке, и сверху сметана устоится.
Выжила, [Тоня] прожила до 84 лет. Прожила бы дольше, но в 1981 году в первых числах марта попала под грузовую машину. Прожила часа два, сказала свой адрес и умерла. Была трудолюбивая женщина. В Аше на Козинском посёлке много пришлось носить ей воды из Сима в гору. Было хозяйство: корова, свиньи, гуси, куры, сад, огород; и всё это нужно полить, и всех напоить. От перегрузки у неё на старости лет ослабли мышцы. Она стала как колесо. А энергичная была! И в согнутом положении вставала рано, сходит за хлебом, за молоком и частенько приходила ко мне с ночёвкой. Сон и аппетит был хороший, а была худенькая. А вот дочери трудолюбия не сумела привить. Дочь умеет устроить жизнь не за счёт своего труда, а за счёт купли-продажи. Поедет, привезёт, раздаст по знакомым, и пошла торговля.
Более слабые от рождения умирали от одного месяца до года. Один мальчик из последних умер в одиннадцать лет от дизентерии. Мы, пять человек (Наташа, Даша, Тоня, я и Михаил), остались в живых. Дети умирали, по словам матери, «рёвом». Ревёт и ревёт – а кто будет обращать внимание (больниц не было)? – надо работать, а он, бедный, ревёт, ревёт и умирает.
У Крысана Трубанова ребятишек было десять штук. Бывало, Авдотья, жена Крысана, пойдёт в церковь, маленьких на руках несёт, а побольше мелочь поймаются за сарафан и идут за ней. Мать Крысана была недовольна снохой, которая рожала каждый год, запрещала ей жить с Крысаном, выделила ей место для сна на полатях вместе с ребятишками, а сама спала на печке и все ночи сидела на голбце, который соединяет печку с полатями, чтобы не прокараулить Авдотью. Вдруг надумает уйти к Крысану. Видимо, свекровь Авдотьи устала от этой ватаги ребят и выхода другого не нашла, как разделить сына со снохой. Но это не помогло, всё равно ребятишки родились ежегодно.
Вот я и думаю: почему у Крысана никто не умирал, а у моей матери из пятнадцати осталось только пять человек?
В шесть лет Наталя уже не была «нянькой», а была помощницей отца: пилила с отцом лес с корня. Отец был толковый мужик: пилу направит как бритву. Ей говорит: «Ты, Наталя, только держись за ручку». Наталя с отцом, как топор за поясом, всюду помогала. Шли мы с ней по Котельнице году в 1915-м, а старушки останавливали нас и говорили: «Ох, Наталья, Наталья, ты ведь и в ребёнках-то не бывала: с пяти лет тебя отец носил, как топор за поясом, по чащобе». А мать мою отец жалел: она часто была беременная. Отец был очень трудолюбивым. Зимой ночи длинные. Он встанет, уедет за сеном или за дровами. Мороз ему был не страшен. Варежек он не носил, а если мать даст ему варежки, он их тут же потеряет: оставит где-нибудь. Отцу хотелось освободиться от помещика. В семнадцать лет Наталю отдали замуж за Сергея Никифоровича Скочилова в большую семью (тринадцать человек). Мне тогда было семь лет, а Миша, брат, был грудной. Года не прошло, мужа взяли в солдаты. Служил в Маньчжурии. Прошло три года, он ещё остался дослуживать, и четыре года прошло, его нет. Работы в этой отсталой семье была уйма. Скотины много, только одной воды нужно было принести вёдер пятьдесят-шестьдесят. Своего колодца не было. Дрова носили в дом по разрушенной лестнице, того и гляди инвалидом останешься. Свёкор был взбалмошным лентяем.
Отец наш был человек особенный – имел хороший голос и слух. И мы, все дети, тоже хорошо пели, участвовали в церковном хоре. Мне мало пришлось участвовать в нём: после революции, в 1919 году в семнадцать лет я ушла в Уфу.
Мать была экономная женщина: разносолы разные не умела делать, а варила простые щи, супы, утром на второй день снимала с супа скопившееся сало, а потом из кишок и сала или из плохого мяса варила мыло. Ничего у неё не выбрасывалось, а всё шло в дело. Самые плохие отрепи использовала на цветные дорожки. Много нужно положить труда, чтобы получить эти дорожки.
Сеяли лён на небольшом участке, т. к. нужно было сеять хлеб, просо, гречу. Земля новая, всё росло хорошо. Выросший лён нужно было рвать в снопики. Когда они подсохнут, нужно колотить: взять семя, потом эти снопики постелить на луг, где не ходит скот, после 20–25 дней собрать в вязанки и увезти к бане. Осенью, когда кончались полевые работы, лён садили в бане на жёрдочки. Бани были только по-чёрному, [поэтому их] топили очень осторожно. Лён, когда высохнет, ломали на мялках. Это была тяжёлая работа. Потом трепали трепалом в сарае, иначе ветер всё раздует, при этом отходили отрепи. В этом сарае было очень пыльно, курить было нельзя, иначе сгорит лён и сарай. Затем чесали на щепке. То, что счёсывалось со льна, называли изгребли. Затем на такой же щепке, только более частой, счёсывали пачеси. Оставалось волокно, из которого ткали холсты с узорами, кто что прядёт.
Дети шести лет пряли отрепи. Эта пряжа шла на половики. 7–8-летние пряли изгребли. 10–15-летние – пачеси. Лён пряли взрослые. Пряжу мотали на мотовило, получались моты. Эти моты отбеливали в кадках, потом сушили, разматывали, надевали на воробы, вили на трубицы. В стену вколачивали круглую полку длиной 70–80 см, на неё надевали трубицу, крутили её, и нитки волокна навивались на трубицу. После разматывания сновали на сновалках, установленных в клетях или в больших сенях. Оснуют, сплетут в плетень, потом навивали на стан. Навьют, потом нити пропускали через ниченку: один подавал нитку, другой принимал в ниченку. Если простое полотно – две ниченки, несложный узор – четыре ниченки, сложный – восемь ниченок, ещё сложнее – двенадцать ниченок. Вся работа с ниченками требовала большого ума. А кто учил? Федора – небольшая ростом, толковая женщина, обладавшая большим природным умом. И не каждый мог понять её учение. Моя мать умела установить любые кросна. Это название установленного стана. Моя мать умела ткать одеяла из шерсти без шва, но ткать пришлось мало, так как шерсти на них нужно 3–4 кг, а у нас её не было: овец было одна-две.
Мы начинали прясть с пяти-шести лет, начинали с отрепей, потом изгреби и пачеси, а взрослые и мать пряли волокно. Прясть нужно много было. Каждая невеста должна наткать будущему мужу на рубашки пестреди, холст в мелкую клеточку и на штаны в полоску холст. Да ещё нужно выткать несколько холстов на дары жениховой родне. Если родни много, так 20–25 полотенец надо, а мало – так меньше. Всю зиму пряли до боли в пальцах. Кожа слезала до мяса, надевали напалки, сшитые из материала. Устраивали посиделки. Собирались девушки с пряхами в один дом, приходили парни, и в рабочей обстановке каждый парень садился рядом со своей избранницей и тихо любовался её мастерством и красотой. С марта месяца начинали белить пряжу (каждая хозяйка на своё усмотрение). Потом начинали ткать, ставить кросна. Каждая невеста должна уметь основать, навить, принять в ниченку и в бердо. Пестредь ткать трудно, а скатерти ещё труднее в восемь ниченок (так называемыми восьмицами). Латыши не занимались льном. Они умели хорошо обрабатывать шерсть и хорошо её прясть. Ткали сукно и очень красивые и практичные шерстяные одеяла без шва. На одно одеяло требовалось 2,5 килограмма мытой шерсти. (У нас они были.) Красота одеяла зависела от умения подобрать тона красок шерсти.
Когда просватают невесту, мать её начинает кроить рубахи, штаны отдают шить девушкам, которых зовут на девичник. Тут собирается несколько кумушек, они распределяют работу с учётом мастерства девушки: лучшей мастерице шить рубаху, той, что похуже, – штаны, а кому-то вязать носки. Шили руками. Швейных машин, кроме как у лавочника, ни у кого не было.
Я помню, к нам агент фирмы «Зингер» принёс маленькую машинку. Мать говорит, что у нас нет денег. «Расплатитесь когда будут», – сказал агент и оставил машинку. Пришёл через полгода, три рубля уплатили, а машинка стоила 25 рублей. Лет пять платили, пока не рассчитались. Мать и мы стали шить соседям, особенно к Пасхе и Рождеству. Денег ни с кого не брали, работали для души, любили сделать приятное для других – создать радость.
Я умела ткать за готовым станом. В две ниченки получалось хорошо, мать одобряла мою работу. Потом перешла на четыре ниченки (холст с узорами), получалось хорошо.
В школе учились хорошо. Наталью отец не хотел отдавать на третий год, учительница уговорила отдать с ноября месяца. Даша и она окончили на похвальные грамоты, я – на свидетельство. Бестолковых не учили грамоте, а учили ремеслу и работе по дому. Наш отец говорил: «Работать надо так, чтобы из десятка не выкинули».
Он был крепкий здоровьем: болел раз в год в рабочую пору от усталости день или два. Мать, бывало, говорила: «Отец захворал, надо хоть курицу зарезать: еды ему не напасёшься». Спит и ест – вот и всё его лечение. В больнице не бывал, а умер 65 лет от диких порядков в то время. В период раскулачивания в нашем селе Загорском жили уже хуторами. Отцу достался хутор, где раньше было село. Он перестроил дом на усадьбу, запрудил пруд, развёл карасей и каждое воскресенье сидел с удочкой, ловил рыбу. А уйдёт из дома к обедне. Кончается обедня, он приходит домой, пообедают, пойдёт немного порыбачит и несёт домой килограмма два карасиков. Мать довольна, а если бы она узнала, что он не был в церкви, был бы скандал и огорчения. Мать была религиозная и никакой агитации не поддавалась, хоть умри. Земля была запущенная, много было сорняков, но отец умел с ними бороться: вырубит под корень и самый корень посолит, а вокруг корня какие-то семена бросал. В праздники отец не заставлял нас работать. Мы занимались своими делами: кто читал, кто шил или вязал кружева.
Отец мой говорил, что он получил от своего отца капитал на весь свой век, но век-то его был короткий – 65 лет. С таким крепким здоровьем он умер от малярии. Капитал, полученный отцом от родителей, передался и нам: мы, все пять человек, выжившие из пятнадцати детей, обладаем этим капиталом. Жили в бедности, деньги зарабатывать приходилось нелегко, поэтому привыкли к бережливости и экономии. Отец мой считал капиталом умную голову и умение трудиться. Для него весь интерес состоял в труде, праздники были тяжестью житейской: надо идти в церковь и проводить впустую дорогое время, особенно весной, летом и осенью. Сколько работы, а тут от безделья сам себе не рад.
Мать была очень религиозная. Её брат Борис Зотикович года два ходил по святым местам, и, видимо, это на неё повлияло. Отец частенько её обманывал: вместо церкви уйдёт в поле, огороды поправит или рыбу половит в пруду. Работал для души.
Отец наш неграмотный, а делал для своего хозяйства всё сам. В то время хозяйство было сложнее, чем в настоящее время, и требовало уменья, времени и ума. Чтобы сварить к празднику пиво, нужно было иметь особенное полукруглое корыто. Вовнутрь клали деревянные вкладыши, на них – солому-обмолоток, а на эту солому выливали запаренные в корчагах муку, солод и колос. В корыте на дне было отверстие, которое закрывалось деревянным гвоздём, в него бежало очень вкусное сусло. Потом на ту массу, что была в корчагах, наливался кипяток, проходил на дно корыта, и всё это сливалось в кадку, которую тоже нужно было сделать. Отец нас привлекал к этому делу: мы держали доски. Кадки он делал дубовые и знал, какой дуб нужен для кадок под квас, а какой – для кислушки.
Дед мой Василий Васильевич занимался пчеловодством. В то время пчёл разводили в бортях (в полых деревьях в лесу). У отца уже были колоды, из которых мёд брали один раз в год (во 2-й Спас). А в революцию у отца уже были ульи. Он их делал сам. Кислушку варили к праздникам, когда качали мёд. Центробежкой срезали с рам брусловку, потом её промывали кипятком, получалась сладкая вода. Эту воду использовали на праздничном столе. Пчёл у отца было немного, три-четыре улья – некому было ухаживать.
Я выросла в небольшой избе, в которой всё было предусмотрено: где и как хранить овощи, где и как полечиться от простуды, прогреть больного ребёнка, куда положить выходную одежду и где приютить человека, не имеющего своего жилья, инвалидов. Всё строилось в ногу с жизнью. В этой избе были названия: середа, залавок, грядка, голбец, западня. В каком году строилась эта изба, неизвестно. Кто её строил, дед мой или прадед? Отец-то мой приехал с Вятки в дошкольном возрасте.
Наша изба была особенная: в ней всё сочеталось с жизнью, т. к. в то время не было никакого транспорта, кроме гужевого. В нашем доме всё было предусмотрено, где и как хранить продукты питания: картошку, молоко, квас и овощи разные.
В подполе всё было рассчитано на сохранность разных сроков. Было окно, в которое вставлялся жёлоб, по которому проходил картофель на отведённое ему место. Бочонок для кваса, а к праздникам варили русское хлебное пиво, и эти бочонки тоже должны стоять близко к полу, чтобы не застудить горло. Лук хранили в плёнках, подвешенных на шесте ближе к стене. Для молока тоже было отведено соответствующее место. В подпол была сделана лестница от начала западни и до основания подпола. Окно сделано вовнутрь, а снаружи утепляли в морозы, следили за температурой. Западня была от пола сантиметров 40–45 с хорошей, плотной крышкой.
Полати делали в ширину избы на высоте 1 м 60–70 см, с расчётом, чтобы человек не задел головой, в рост человека средней высоты. Заканчивались полати голбцом. Голбец граничил между полатями и печью. Полати заканчивались брусом, а на брусе делалась решётка во всю ширину полатей и сантиметров 25–30 от потолка, чтобы малыш не сумел просунуть голову и упасть с полатей. На полати делалась капитальная лестница до основания голбца.
Когда к нам приезжали гости, наше детское место было на полатях. Смотрели в решётку и наблюдали за гостями. Бранных слов и матерщины у нас во всём селе не было. Были и весельчаки с юмором, рассказывали о своих соседях, были и симпатичные рассказчики.
Печи делали глинобитные: кирпича ещё не было и в помине. Печку бить собирались пять-шесть мужиков толковых. А как били, я не знаю, не видела, а прогреваться часто лазила в печку. Истопят, жар весь уберут, постелют соломы, и там мыли маленьких ребят. А кто простынет (зимы были холодные), лазили прогреваться: головой на шесток, пропотеешь, как в бане. Бани зимой топили редко: надо прогребать дорогу, носить воду. А бани строили вдали от дома во избежание пожаров.
Над печью, ближе к потолку, делали шесты. Вешали на них чулки, носки, портянки и онучи, а лапти клали под лестницу, ведущую на полати. От голбца до стены, где окна, между вторым и третьим окном, прокладывалась доска шириной 40–50 см, так называемая грядка, она служила для выходной одежды. К ней ещё прибивалась доска сбоку от стола. На грядке одежда лежала один-два дня, а потом её аккуратно складывали и уносили в сундук. Если большая семья, то сундук ставился в сенях или в чулане. А у нас отец сам делал сундуки с расчётом, чтобы можно поставить под кровать. Кровати тоже делал сам.
Каждый член семьи сам следил за своей одеждой. Отец сделал [всем своим детям] небольшие сундучки, там мы и хранили своё детское богатство. В сундук разрешалось складывать только просушенную одежду, чтобы не завелась моль.
У стены, около печи, стоял залавок, куда складывался испечённый хлеб и накрывался квашенником. Квашни были деревянные, квашенники холщовые. Место, где находилось чело печи и 3-е окно, называлось середой. Всё, что требуется для приготовления обеда, должно находиться на середе. Некоторые хозяйки вешали занавеску, которая отделяет середу от общей площади. Хорошая хозяйка следила, чтобы в избе была чистота и порядок, на лавках и на окнах не было лишних вещей. На окнах стояли цветы с яркой расцветкой.
Около каждой избы росли цветы: астры, бархотки и другие, огороженные палисадником. За цветами ухаживали дети-подростки, т. к. их оставляли дома.
У нас ничего не выбрасывалось, ни одной рваной тряпки, ни чулка, ни дохлой <…> (зимой). Хранили золу, сажу, тряпьё; всё шло в дело. Ездили специальные люди с повозками, заходили в дом или кричали: «Кошки на ложки!» Тряпьё взвешивали, шерстяное тряпьё отдельно, за него платили дороже. Мы, дети, с нетерпением ждали этих ложкарей: они продавали серу, как её ещё называли, жвачку, но она была лучше, чем американская резинка.
В селе Новотроицком, рядом с железной дорогой, некто Щиновы использовали кошачьи и собачьи шкуры: выделывали шкурки и шили зимние пальто. У Щиновых было два сына (отца я не помню): Семён и Афоня, а хозяйство было среднее, но культурное. Семёну отец отдал хозяйство, а Афоня ушёл в город, поступил учиться. Семён был женат на девушке из нашего села Загорское Матрёне Скочиловой. В праздники Семён и его жена Матрёна приезжали в гости к Скочиловым. Мне было лет семь, и я у них часто бывала, т. к. моя сестра – Наташа Светлакова – была замужем за братом Матрёны – Сергеем Скочиловым. Я с большим интересом любовалась шубой Семёна Щинова: серый мех с хвостиками, мягкий, эластичный, приятный. Они, Щиновы, делали его сами в маленькой избушке, называемой овчинной. Зимой ночи длинные. А чем заняться мужчинам?
Женщины готовили лён, пряли, ткали разные материалы, одеяла. Более культурные и толковые семьи научились от латышей ткать тонкие полотенца из хорошего волокна и скатерти. А в восемь-двенадцать ниченок делали не все, а [только] 1–2 женщины умели собрать кросна. Одну я помню, звали её Федора. Маленькая, невзрачная женщина была женой немудренького мужичишки Семёна. Кто учил Федору делать кросна для производства восьми и двенадцатицапового узорного полотна? Образцы таких работ можно найти у моей дочери Али. Федора обладала большим талантом, а никто её не замечал и не награждал. Она находила время учить, помогать другим, но почти никто не мог наладить кросна восемь-двенадцать цепов, кроме Федоры.
До революции в деревне, как и в селе, все дела общественные и личные решались обществом. Если в селе оказывались беспризорные люди, они поочерёдно находили приют у населения. В нашей деревне [таких] было трое: Павлуша, мужчина лет 40–50, слепая Мареюшка и старушка Фолиха. Вечером рассыльный предупреждал: «К вам завтра придёт, например, Павлуша». Мать клала его спать на западню. Была специальная подстилка и подушка из кудели, ватола вместо одеяла. Его постель складывалась отдельно, т. к. он был нечистоплотный. Для слепой Мареюшки и Фолихи была одна постель, у них не было вшей. Я вспоминаю, с какой радостью мы, дети, встречали Фолиху, старушку, может быть, старше меня сегодняшней. Но она была не такая, как я, а костлявая, холодная. Я-то живу под крылышком советской власти и добрых людей, и то зябнут ноги, и летом приходится надевать шерстяные носки, а Фолиха… Какие она сказки рассказывала! Видимо, дар речи заменял её слепоту (мала была я, не понимала). Ждала её, как праздника, и просила мать оставить Фолиху ещё на ночь. Ну, разве можно было! Её надо было кормить получше, чтобы не повесили ярлык скупости. Хотя моя мать жалела её: если приходила она в субботу, в бане её вымоет, оденет в свою рубаху, всё на неё постирает за счёт своего отдыха, чтобы Господь Бог её от грехов избавил. Мать была религиозная, а отец не признавал религию, говорил: «Бог-то бог, да сам не будь плох». Слепая Мареюшка была капризная, не ела, что ей не нравилось, а подавай, что повкуснее. Молока подавали ей сразу горшок, сама мешала, чтобы не думала, что оно снятое. Спать клали Фолиху, эту одарённую несчастную старушку, и Мареюшку на голбец, на специальную постель.
Творить добро человек может тогда, когда он видит окружающий его мир. Мне было лет десять-одиннадцать до Первой мировой войны. Был неурожайный год, овёс на большой полосе, расположенной близко от дома, вырос сантиметров 20, жать его было невозможно. Отец беспокоился: как убрать урожай овса? На дальние полосы жать меня не брали. Михаилу было лет пять-шесть. Все ушли жать на дальние полосы, а мы с Михаилом остались дома. Мне почему-то жалко было отца и мать: они работают в поте лица, а мы сидим, как господа. Придумала идти на ближнюю полосу убирать овёс, взяла Михаила, прикрыла дверь: приставила полено, чтобы видно было, что дома никого нет. Пришли на полосу, я стала рвать овёс с корнем, а земля сухая-пресухая. Михаил тоже рвал. Клали в пучки – колосок к колоску. Потом пристроились на коленках: стали ползать по полосе. Получалось лучше, только коленки до крови изорвали о сухую землю. Придумали коленки перевязать худыми тряпками, в которых принесли хлеб и огурцы, наш обед. Подражая взрослым, обедали на полосе. Пришли с поля родители, смотрят: изба заперта поленом. А Маришка Шестакова тут и была, указала: «Вон они овёс на полосе рвут». Отец подошёл, посмотрел на маленьких тружеников и руками развёл от удовольствия: «Кто это вас научил?» А я ему говорю: «А кто тебя учил возить дрова и сено ночью? Ты не успевал всё сделать в короткий осенний день, работал ночью».
Мы, дети, видели, как трудятся родители и взрослые сёстры, это было стимулом нашего трудолюбия. Отец наш был очень трудолюбивый человек, всегда находил себе дело. Да его и искать было нечего: оно само подсказывало и шло к нему в руки. К сенокосу нужно сделать косовище, грабли, вилы, верёвки, носилки по количеству рабочих и многое другое. Утром вставал с рассветом и весь день трудился. Всякая работа была ему сподручна. Если бы его не выгнала советская власть из избы!
Изба была настоящая, крестьянская, со своими устоями, с глинобитной печью, в которой прогревали маленького ребёнка, а иногда, в зимнюю стужу, и самих взрослых. Лазила и я: очень приятно лежать на свежей соломе, тепло. Помню, я уснула, и все испугались: подумали, что я умерла. Рядом с печью на высоте полутора метров, немного пониже основания печи был голбец. Он соединял полати с печью. Полежать на печи каждому хочется, даже поспать приятно, а когда сядешь на край печи, ноги стоят на голбце так же, как сидишь на стуле. По другую сторону голбца расположены до самой стены полати. Их можно назвать спальней, так как пять человек спят на полатях. Ребёнок спит в колыбели до двух лет, а иногда и до полутора. Если появится новый кандидат, в таких случаях малыша устраивали в маленький коробок, который ставился где потеплее. Полати заканчивались лицевой частью – решёткой различной формы, высотой почти до потолка. В зимнюю пору дети разных возрастов были на втором этаже – на полатях и на печке, на улицу не ходили.
Дети росли дома до восьми лет, им не готовили ни одежды, ни обуви. А к 8 годам приходил портной, шил пальто, шапку, пимокат валял валенки, мать шила рубашку и штаны. До школы дети не имели удовольствия поиграть на свежем воздухе: некому за ними ухаживать. Мать в своё время рожала, кормила или была на сносях. Свободного времени не было, чтобы приготовить малышу соответствующую одежду. Уму непостижимо – сколько на женщине было проблем! А помощников-то нет. А сколько времени отнимал лён!
Это такая трудоёмкая культура. Прясть его да мотать, отбеливать (не порошком, как сейчас), а потом развивать на воробах на трубицы, с трубиц основать, потом развить на стан и ткать на разные узоры (от двух ниченок до восьми). На это нужно много ума и сноровки. Мать наша умела осваивать в 8 ниченок с помощью Федоры. Я сейчас думаю: «А кто же учил Федору?» Она одна умела устанавливать кросна в восемь ниченок, так называемый восьмицеп. Каждая невеста должна была уметь соткать две-три восьмицеповые скатерти, которыми на второй или третий день свадьбы должны покрывать столы для поезжан.
Мы, ребятишки, спали на полатях на войлоке, одевались ватолой, вытканной из старых тряпок, сшивали в три-четыре полосы, и все под одним ковром. Одеял не было в помине, подушки были, а наволочки стирали только к большим праздникам (праздников было много). Одеяла шили невесте в приданое и то из клинышков: ситец был дорогой – 10 копеек аршин, а сатин и ткань ещё дороже. [Чтобы] заработать 10 копеек, надо было измолотить целый овин – это 300–400 снопов. Целый зимний день на один аршин, а летом и весной рабочий день 15–16 часов, от солнышка до солнышка. Полоть ходили к латышам и к Круглову. Бывало, Филька, управляющий имением, проедет верхом на лошади по селу, призывая на полку овса, пшеницы. На 2-й день чем свет идём. А платили 20–25 копеек за день, а мне 15 коп., т. к. я подросток. Меня не отпускали родители, но я всё равно уходила, подружки не ходили, а я любила работать у латышей: они кормили вкусно. Да, латыши умели жить!
Отец-покойник рассказывал: «Поехал я на Петровское с картошкой, принимали по 4 копейки пуд, да опрокинулся воз, не доезжая до Петровского. Встретился латыш, сказал мне: “Зачем ты мучаешь лошадь и сам мучаешься? Ты купи поросёнка, корми его этой картошкой, будешь сыт”». Многому отец научился у латышей.
Село Загорское окружали латышские колонии. С верхнего конца находилась Дубовская колония. Знала я там латыша Володьку Думпа. К семье Килевич каждое лето ездила Татьяна Евграфовна Зиновьева. Здесь произошло наше с ней знакомство. По другую сторону нижнего конца располагалась Балтийская колония, где жили латыши Барон, их дети: Август, Матильда и Анна, а также Судмал, Берзин и многие другие. В каком году они приехали, я не знаю. А жили они культурно. Работали много, но культурно, во всём у них был полный порядок, как в поле, так и дома.
А вот когда приехал Август Бром, не знаю. Был разговор, что он как приехал, сразу купил сто десятин земли. У кого купил, тоже не знаю, но думаю, что у татар. Мы в татарский лес ходили за малиной и очень боялись их. Они ловили тех людей, кто приходил к ним за ягодами, и сильно били. А вот ходили. Охота поесть ягод. А куда пойдёшь? В Злоказовском лесу нет ничего, в Кругловском тоже. Своей земли под хлеб не хватало. Плохо жили в те времена, ой, как плохо! А работали от зари до зари. Питались очень плохо: всё лето мяса крошки не видели, зимой ели суп мясной, в заговенье стряпали пельмени, а потом 3–5 литров постного масла на 6–7 недель. Не поешь маслено, а какой приварок картовница, горошница, овсяный кисель, овсяные щи. <…> Август Бром в 1918 году погиб за советскую власть, а в начале 30-х годов его родную сестру Ольгу Бром раскулачили.
До революции воров в деревне не было. А если кто захочет понажиться, особенно интересовались ленивые люди холстами, которые весной расстилали на наст отбеливать. Утром холста не стало. Собрали общество, решили некоторые дворы проверить и нашли у Герасима в конюшне эти холсты. Решили его провести по всему селу с этими холстами. Это на первый раз, а если второй раз поймают, судили строже. Нам, детям, мать говорила: «В чужой огород заходить нельзя, по следам узнают, кто был, хотя ты и ничего не трогал, а судить будут». И мы знали, что за межу заходить нельзя. Милиции и в помине не было. Был общественный суд справедливости.
Село Загорское было небогатое, но ухоженное: у каждого дома и домика был палисадничек, где росли различные цветочки. Около домов по обеим сторонам росла травка-муравка. Дорога проходила по селу не широкая: машин тогда не было.
Не помню, в каком году ватага ребят бежала и кричала: «Смотрите, смотрите, телега без лошади мчится!» И я присоединилась, бежала за этой телегой. [А это] кругловская машина проехала по нашему селу. Кругловская дача была от нашего села километрах в двух, а прямо через поскотину ещё и ближе. Уточнить сейчас не могу: все умерли, спросить не у кого.
Из главного родника текла речка Гремячка, из которой я пила воду. Мне было лет 17–18. Помню, как она была хороша. И больше я Гремячку не вспоминала до сего времени.
В селе были две лавки. В одной С. Н. Шуруев торговал мануфактурой, а другая была бакалеей Николая Семёновича (фамилию забыла). Часто я вспоминаю, какие он пёк крендели, которыми нас кормили досыта, когда кончали жать. Помню, с какой радостью ждали этого дня «дожинки», когда будем есть досыта кренделей. А если кто-нибудь из соседей позовёт подавать ниченку, рада-радёшенька: дадут за работу яичко, а за яичко в лавке дадут крендель. Помню, в лавке Н. С. продавались рожки, коричневые, длиной 15–20 см, внутри семена брякали. А винные ягоды мы не покупали сами, а подружки меня угощали.
Вскоре начались Первая мировая война, революция, голод. Много хороших людей погибло: кто в тюрьме за колоски, кто дома умер от голода, а кого за малую провинность, за 400–500 граммов зерна, осуждала тройка. Если она решит, никто не помилует.
Никон Китаев обнаружил в Бароновском овраге, недалеко от Загорского, двоих незнакомых людей, сообщил обществу загорскому, их поймали уже к вечеру. Один лет 35–40, другой – молодой. Одеты прилично: на пожилом была красная рубашка, а на другом – белая в полоску. На ночь оставили их в недорубленном срубе, а утром повели на станцию Тавтиманово. Повёл Никон Китаев, а второго, забыла кто, и моего отца, уже старого, для порядка послали. Отошли километра 2 от Загорского, они говорят отцу: «Светлаков, ты не пугайся. Мы их в той низинке похороним». Мой отец был человеком не воинственным, стал протестовать, но они были вооружены. А что старик против двух молодых вооружённых сделает? Так и погибли двое ни в чём не повинных людей. А я была лет пятнадцати, ходила к этому срубу, приносила им молока и хлеба. Они ели хлеб и по очереди припивали, т. к. горшок с молоком был один, а кружку или стакан я не догадалась взять. Убили ни в чём не повинных людей. Никон Китаев убежал в неизвестном направлении и не появлялся в Загорском. В настоящее время его нет по возрасту.
Когда белые заняли наше Загорское, все ульи были нарушены, свиньи и куры порезаны, овцы и корова убежали в лес, а на лошади мы уехали всей семьёй в Иглино. Это было в 1919 году. По дороге ехал на лошади один отец, а мы – молодые женщины и я, подросток, – бежали лесом в таком страхе, что нас вот-вот поймают беляки-колчаковцы. Шли, куда сами не знали, лишь бы не попасться колчаковцам. Ни разговора, ни вздоха, ни кашля лишнего, ни слова не могли произнести. Пробрались через сутки в Иглино и узнали, что из нашего Загорского беляков выгнали, и мы вернулись к уничтоженному хозяйству. Кроме захудалой коровы и двух овец, всё было уничтожено, изба и сараи были пустые, но целые.
Нас было 4 дочери, а мальчики умирали. Последние Михаил и Александр остались живы, но они ещё были подростки. Михаил учился в школе 2-й ступени в городе Уфе. Когда Саша умер от дизентерии в 11 лет, отец взял Михаила из города домой, так как хозяйство нужно было кому-то передать после его смерти. Наши родители были неграмотные, мало разбирались в политике, а мы все, кроме сестры Тони, хорошо учились в школе, сдавали экзамены на пятёрки и оканчивали школу с похвальными грамотами. Замуж выходили рано – в 17–18 лет, только я вышла в 24 года.
