№9.2023. Идель Гумеров. «Диалоги» Вахитова
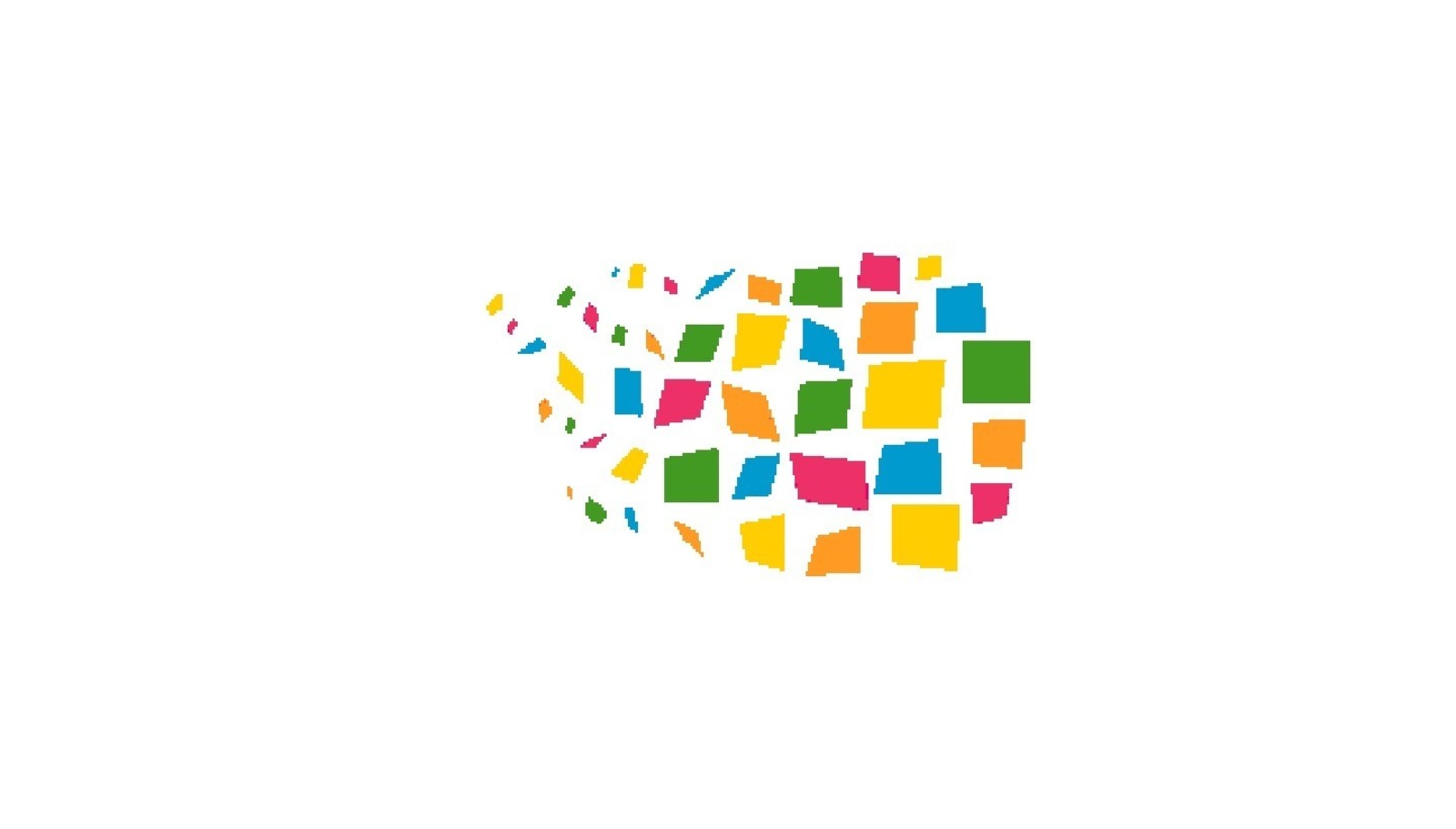
Один из наиболее влиятельных социологов XX века, француз Пьер Бурдьё считал, что невозможно существовать, не ощущая на себе «силовое воздействие» разных областей жизни – «социальных полей». Образовательные, политические, экономические, художественные, научные поля затрагивают всё общество, однако осмыслять этот процесс берётся не каждый. Рустем Ринатович Вахитов – российский ученый-философ и публицист, кандидат философских наук, доцент Башкирского государственного университета и Уфимского государственного нефтяного технического университета, старший научный сотрудник отдела этнополитологии Института гуманитарных исследований при Академии наук Республики Башкортостан – занимается как раз осмыслением человеческой деятельности с разных точек зрения – искусства, этнологии, политэкономии, социологии и образования. Мы поговорили с ним о том, как культура отражает эпоху, каково будущее отечественной литературы, что отличает образование в университете от простого получения информации, и о других, не менее важных вещах.
Идель Гумеров
– Нынешняя эпоха обещает изменения глобального масштаба. Отражается ли время начала 20-х годов в искусстве и культуре?
– Любая эпоха получает отражение и в искусстве, и в литературе, и в философии. Гегель даже говорил, что философия – это «духовная квинтэссенция своей эпохи». Но пока ещё очень трудно прогнозировать, каким образом всё это будет выражаться. Толстой однажды сказал, что в пылу сражений трудно понять, что происходит. Сегодня есть люди, которые пишут стихи, прозу, публицистику, критику, философские сочинения, а среди них есть и те, кто станет классиками. Но поскольку массив творцов огромный, разноголосица столь велика, трудно пока вычленить, увидеть будущих лидеров мнений.
– Представим, что мы переместились на десять-двадцать лет вперёд. Как оттуда будет восприниматься эстетика нынешнего времени?
– Я помню реалии эстетики соцреализма. Тогда я был ещё совсем молодым человеком. Это были позднесоветские времена, и везде господствовал изрядно потускневший соцреализм. Причём в каноны этого мировоззрения не верили, наверное, и те, кто к нему официально принадлежал. Поэтому перестройка была воспринята как глоток свободы, вышли из подполья целые направления литературы. Да и не только литературы! Мы увидели подпольное искусство, андеграунд, познакомились не только с «самиздатом», но и «тамиздатом» – тем, что выходило за рубежом. Я хорошо помню это время. Как раз тогда зародилось мировоззрение, которое условно можно назвать «русским постмодернизмом». Когда-то я писал, что на Западе постмодернизм вырос вполне естественным путём, прежде всего из структурализма. То есть сначала там был Ролан Барт, структурализм, если говорить о философии, потом произошла борьба с логоцентризмом, появился постмодернизм. Собственно, примерно то же самое происходило в литературе и искусстве – естественный процесс возникновения того, что Ален Бадью потом назовёт «большой софистикой».
У нас, мне кажется, во многом было подражание Западу, мода. Провозглашалось возвращение в лоно европейской цивилизации, тогда как в нашей собственной культуре постмодернизм не имел глубоких корней. Тем не менее русский постмодернизм отображал определённые процессы, происходившие в нашем обществе, – распространение релятивизма, представления о том, что «всё относительно», что пора отменить устаревшие моральные нормы, эстетические традиции. Началось создание «эстетики безобразного». Кстати, это хорошо прослеживается на примере кино: если до середины – конца 80-х показывали более-менее «советские» картины, где добро всегда побеждало зло, а добро чаще всего ассоциировалось с советским государством, то «перестроечное» кино и тем более кино 90-х – это перевёртыш; теперь государство и чиновники изображались как злобные, демонические персонажи, коррупционеры. И, как ни странно, какими-то симпатичными, хотя и далеко не примерными персонажами, рисуются бандиты, представители полукриминального мира, как в сериале «Бригада», например. То же самое произошло и в высоком, элитарном искусстве – мир перевернулся. Кстати, русский постмодернизм конца 80-х и начала 90-х годов был ведь во многом паразитарным, обыгрывавшим сюжеты соцреализма. Люди, которые выросли в советском обществе, помнили соцреалистические произведения, например, канонический образ Ленина, знали «мемы» того времени, лозунги.
А потом мы рухнули в «чёрную дыру» капитализма. Нам не понаслышке стала знакома проблема «маленького человека», которая поднимается в классической русской литературе. Всё-таки, что бы ни говорили о социализме, но 60–70-е годы – это время более-менее спокойного бытия, небольшой, ограниченной, но обеспеченности. В 60-е люди переселились из бараков в «хрущёвки», оттуда – в квартиры попросторнее. С 70-х благосостояние людей медленно, но росло. Люди стали ездить на курорты – в Ялту, Крым. Появились сады. То есть человек жил в какой-то социальной скорлупе, под социальным зонтиком. А в эпоху «ельцинского дикого капитализма» люди столкнулись с тем, что, например, за высшее образование и медицину нужно платить. И тогда снова всплыла тема «маленького человека» – человека страдающего, заброшенного, одинокого, пусть и нелепого, но несущего в себе обаяние гуманизма.
Мне кажется, что в литературе 2000-х произошёл реалистический поворот – возникает реализм, который прежде всего связывают с фигурой Захара Прилепина. Хотя это не только Прилепин, но и, например, Герман Садулаев, и другие. Их так и называют – неореалисты. Мне казалось, что за ними будущее, что русская и русскоязычная литература пойдёт в этом направлении, но последние годы очень многое перемешали в нашей жизни. Во-первых, у людей в связи с происходящим на постсоветском пространстве произошёл мировоззренческий переворот; во-вторых, разногласия. Сейчас рушатся семьи, родственные отношения, а тем более – отношения литературных, художественных школ. Ментально Россия сейчас очень сильно расколота, особенно это касается интеллектуальной элиты, несмотря на то, что есть большинство – «глубинный народ». Что будет дальше, трудно прогнозировать.
– В феврале этого года в «Бельских просторах» вы писали: «В наши дни Уфы как того самого города (имеется в виду как дореволюционного города) и вообще как города в европейском смысле слова не существует, и станет ли она им – очень большой вопрос». Что такое «европейский город» и «город Уфа»?
– Более десяти лет назад в Уфу приезжал очень крупный мыслитель-урбанист Вячеслав Глазычев. Он выступал с лекцией, которую мне посчастливилось прослушать. Я заинтересовался им, его теориями, купил его книгу, почитал. Глазычев доказывает, что город в европейском смысле слова – это самоуправляющееся сообщество. Европейские города Средневековья, не говоря уже об античных полисах, – это самоуправляющиеся города-республики. То есть город – не просто место, где живут люди, и не просто место, где люди занимаются не столько сельским хозяйством, сколько ремесленным или промышленным производством.
Дело в том, что город – это некое самоуправление. У нас с этим всегда было очень плохо, потому что российское государство на всех этапах исторического развития страны стремилось всё взять под жёсткий контроль, централизовать. Конечно, когда-то в средневековье русские города тоже имели своё самоуправление, особенно Новгород – самый яркий и знаменитый пример. Но мы-то с вами помним, что было с Новгородом и что с ним сделал Иван Грозный? После этого, когда начинается эпоха Московского царства и далее Российской империи, города становятся сосредоточием политической и военной власти. Были попытки организовывать самоуправление – кстати, мы сейчас с вами находимся недалеко от места, где располагалась Уфимская городская дума (ныне ул. Ленина и Коммунистической. – Прим. ред.). Показательно, что сейчас там находится Управление Министерства внутренних дел – когда-то это место было площадкой городской демократии, а сейчас там находится организация, воплощающая собой дисциплину и порядок. Были попытки ввести самоуправление и в начале XX века, и после революции. Мы как-то очень примитивно представляем себе советский период – как апологеты, так и обличители. На самом деле это очень сложный период, в котором были подпериоды. Допустим, были времена советской демократии 1920-х годов, 1960-е – это особая эпоха. Сталинизм 30-х и сталинизм 40-х – начала 50-х – во многом разные режимы. Не стоит забывать о временах Брежнева и перестройке. Но всё-таки самоуправление плохо приживалось.
Отчасти в своей статье я имел в виду это. Позиция Глазычева в том, что наши города представляют собой «совокупность слобод», которые объединены между собой линиями транспорта, общим административным управлением и названием, но город как некое культурное единство у нас – редчайший случай, например, Санкт-Петербург, потому что люди, живущие в нём, ощущают себя петербуржцами. Можно ли говорить, что люди, которые живут в Уфе, ощущают себя уфимцами? Отождествляют ли они себя с каким-то набором ценностей, метафор, символов? Для меня это дискуссионный вопрос.
До последнего времени в Уфе были те, которые жили здесь, занимались бизнесом, политикой, но ассоциировали себя с совершенно другими местами. Возьмите старшее поколение нашей национальной интеллигенции – их всех хоронят в родных деревнях! Это о чём-то говорит. Они приехали в Уфу в 60-е годы 19–20-летними юношами и девушками, прожили в Уфе всю сознательную жизнь, но тем не менее хотят покоиться в родной деревне. И это касается не только татаро-башкирской интеллигенции. Есть такая русская песня, сейчас уже малоизвестная: «Сам себя считаю городским теперь я, здесь моя работа, здесь мои друзья, но всё так же ночью снится мне деревня – отпустить меня не хочет родина моя». В наших городах очень много людей, для которых данный город – не родина. Например, возьмите жителей Черниковки, они ведь потомки рыбинцев. У меня был друг, коренной черниковец, который говорил, что у него дедушка приехал из Рыбинска: «Мы не уфимцы, мы – ярославцы!»
И все эти разговоры заставили меня задуматься: существует ли «ментальная Уфа»? Это ведь очень важно, чтобы был образ, с которым мы бы себя ассоциировали. И это то, что не остаётся неизменным – оно всё равно конструируется. На образ Уфы влияет, например, массовая культура, песни об Уфе, поэзия – как у любого другого города. Кстати, существует как минимум три «ментальных Уфы»: русская Уфа, башкирская Уфа и татарская Уфа – ведь любой татарин может сказать, что сюда и Габдулла Тукай приезжал. Уфа, отражённая в башкирской литературе, – тоже отдельная тема для диссертаций и книг. К тому же, город наш имеет сложную историю. Дело в том, что некоторые города, особенно уральские, например, как Екатеринбург или Златоуст, – это рабочие города, строившиеся вокруг заводов. И эта заводская традиция сохранялась ещё с дореволюционных времён. А в Уфе население очень сильно поменялось. Потому что до 1917 года Уфа была купеческим и дворянским городом, в котором было не так уж много татар и башкир, поскольку башкирское население жило в деревнях. А после революции Уфа становится столицей Башкирской республики. Соответственно, сюда переезжает коренная интеллигенция, представители политической власти, партийных органов. И русское население очень сильно изменилось. Мало кто, кроме историков, знает, что Уфа была «белым» городом – уфимцы в основном приняли сторону белого движения во время Гражданской войны. В Белой армии было даже уфимское воинское формирование – по-моему, в войсках Колчака. Много коренных уфимцев из-за этого осталось за границей – в Харбине, и, наверное, какая-то часть уехала в Европу. А нынешнее население Уфы – это всё-таки потомки переселенцев, приезжавших из других городов, сёл, деревень той же самой бывшей Уфимской губернии, зачастую сохранявших память о своей малой родине.
Я заметил, как в начале 2000-х появился такой феномен, как уфацентризм. Начали говорить об образе Уфы, уфимской культуре, литературе. Причём идеей уфацентризма были охвачены не только русские – это была интернациональная идея. Мне показалось, что появилось такое новое поколение, которое уже ощущает себя уфимцами и которое хочет конструировать свой образ города. Но слово «конструировать» людей очень обидело, особенно наших краеведов. Я их понимаю, потому что сам являюсь противником этноконструктивизма. В этнологии есть два течения – этноконструктивизм и примордиализм. Примордиалисты считают, что есть этническая традиция, конструктивисты считают, что образ нации конструируется. Истина, на мой взгляд, как всегда, посередине, потому что конструирование имеет место: действительно, образ народа может меняться и создаваться искусственно, но для его укоренения нужны объективные основания, в чём частичная правда примордиализма. Я не считаю, что уфимской традиции вообще нет. Возможно, имело бы смысл дописать эту статью, дополнив к «изобретению Уфы» и «традицию Уфы», что удовлетворило бы краеведов. Ведь о ней пишут десятки и сотни авторов. А о том, что образ как-то изобретается, не писал никто. Мне кажется, я первым в Уфе завёл об этом речь.
– Какими были «слободы» на примере Уфы?
– Я помню эти слободы. Я же вырос в Старой Уфе, на улице Иртышской. Мой дедушка по отцу, Ильгам Низаевич Исламов, был ветераном войны. Его призвали на Балтийский флот, он пережил блокаду Ленинграда, встретил победу в Берлине. Вернувшись в Уфу, познакомился с моей бабушкой, женился и, как участник войны, получил беспроцентную ссуду в банке, на которую купил сруб в Караидельском районе и построил дом на улице Иртышской. В этом доме родилась моя мама. Улица Иртышская, дом 33 б, – это моя малая родина. И я помню слободу Старая Уфа, в которой мы жили. Её ещё называли колонией Матросова. Потому что там рядышком когда-то находилась колония для малолетних преступников им. Александра Матросова. Кстати, в этой колонии работал воспитателем мой другой дедушка Ильяс Ибатуллович Вахитов. Там же – тогда это была школа МВД – нас принимали в пионеры. Я помню эти домишки, эти улицы, по которым коровы ходили, у каждого был свой огород. Помню сообщество людей, благодаря которому, наверное, я стал социалистом. Я помню общину, где все друг друга знали, взаимопомощь являлась чем-то естественным, люди даже не закрывали двери. Понятно ведь, что все свои, и никто не обворует. На нашей улице жил человек, который постоянно сидел в тюрьме. Он был профессиональный вор. Но самое интересное, что он ни у кого ничего не украл на слободе. И вообще чужих людей там не было. Если кто-то появлялся в Старой Уфе, то к нему сразу подходили и спрашивали: кто такой? куда и к кому идёшь? Если человек не мог сказать, к кому он идёт, если у него не было поручителя в этой уличной общине, то дальше его не пускали. И когда я уже в университете стал изучать древнейшие культуры, я обнаружил, что в античных полисах метек – человек, который не родился в этом полисе, – не мог в нём жить без поручителя. Он специально должен был иметь среди граждан, среди «политес» своего поручителя. И я подумал, что нравы закрытой общины везде одинаковые.
С большой теплотой вспоминаю людей нашей общины и их порядки. Я знаю и оборотные, тёмные стороны общины. Но мне кажется, что она была более правильным, естественным устройством общества, чем капитализм с его конкуренцией. Я с возрастом стал сторонником социалистических взглядов скорее народнически-евразийских взглядов, чем классически-марксистского толка, хотя очень уважаю и люблю марксову традицию. И теперь понимаю, что экзистенциальные корни моего мировоззрения уходят туда, в Старую Уфу.
Поскольку слободы были закрытыми сообществами, контакты между ними были сведены до минимума. Мне сложно поверить, что ментально они были единым городом, потому что человек себя ощущал представителем именно небольшой общины. Кстати, это очень интересно, ведь греческий полис тоже начинался вот с таких слобод, только там они назывались «демы», по-нашему «район», – сначала семья, потом фратрия и демы. Эти демы соединились, и получился полис. Огромную роль в формировании полиса сыграло народное собрание. Греки рано поняли, что люди, живущие какими-то отдельными районами, поселениями, не смогут себя всем обеспечить. У нас подобного дальнейшего перехода не произошло, потому что нет городской автономии.
– Нужно ли делать Уфу «европейским городом»?
Уфа – не европейский город, потому что мы живём в Евразии. Мы особая цивилизация. Я по своим взглядам евразиец и считаю, что Россия – это не Европа. То есть у нас с XIX века вбивается в головы идеология западничества, которая внушает, что русские – это восточные славяне, что Россия – восточная окраина Европы, пусть и отсталая из-за злых татаро-монгол, которые захватили её. На самом деле всё не так. Россия – это особая цивилизация, объединившая в себя и европейскую, и азиатскую культуры. Об этом писали Николай Трубецкой, Георгий Вернадский – авторы-евразийцы 20-х годов, которых я изучаю и чьи многие идеи разделяю. Об этом писал Лев Гумилёв, к его фигуре тоже отношусь с большим почтением.
В этом смысле мы вряд ли станем чисто европейским городом. Другое дело, каким-то сообществом, связанным внутренне и ментально, а не только внешне-административно, наш город может и должен стать. Жизнь идёт, всё меняется, появляются люди, которые к этому стремятся. Сейчас очень много разных культурных проектов в Уфе, например, движение за сохранение памятников, которому очень сочувствую.
Единственное, что меня несколько расстраивает в отношение работы наших краеведов, это то, что краеведческое движение совершенно игнорирует советскую Уфу и Уфу периода Московского царства. Вообще, Уфа – это один из старейших городов Российской Федерации, основана ещё при Иване Грозном. И в городе было несколько исторических этапов: эпоха Московского царства, допетровская Уфа, от которой осталась одна улица в районе Монумента Дружбы, имперская эпоха, советский и постсоветский периоды. Я вижу, что историки, краеведы и энтузиасты почему-то сосредоточились на этапе Петербургской империи. А ведь в советский период Уфа очень преобразилась, расцвела, стала настоящим большим городом, стала ближе к идеалу ментального сообщества, о котором мы с вами говорили. Если на то дело пошло, то дореволюционная Уфа заканчивалась в районе нынешнего Центрального рынка, а всё остальное было за пределами города. Строго говоря, теперь это совсем другой город. Это не мои слова. Был такой писатель Борис Четвериков, который, уехав в Москву, написал книгу об Уфе. Он говорит, что современная Уфа очень красива, ему очень нравится, но это не тот город, в котором он провёл своё детство. Он учился в Первой мужской гимназии (ныне – здание Башкирского государственного медицинского университета. – Прим. ред.), которая ещё известна тем, что великий русский философ Лосев, приехав в Уфу в 1912 году, остановился в ней. Мне обидно за советскую Уфу. Кстати, евразийцы, как и славянофилы, скептически относились к этапу Петербургской империи, считая его «подражательным» Западу, периодом «европейничанья». А период Московского царства они идеализировали. В этом смысле Уфе допетровской не повезло, о ней почти ничего не говорят. Понятно, что от неё мало что осталось, тем более что многое уничтожили пожары, потом была перестройка города, когда европейские архитекторы перепланировали пространство под европейские образцы. Но мне кажется, что душа и традиция города были заложены в допетровские времена. Кстати, у меня есть мечта о том, чтобы восстановили Уфимский кремль – это привлекло бы в Уфу туристов. А создание таких объектов как раз и позволяет возникнуть тому ментальному образу. Какой город без кремля? Кремль – наш российский акрополь. В Казани кремль есть – почему ему не быть в Уфе? Для этого нужно, чтобы идея овладела массами, говоря словами Маркса.
– Кто будет субъектом преобразования?
– Первоначально – уфимская интеллигенция. Те, кто занимается духовным производством, создает культурные продукты. Причём они создают ментальный образ не специально. В моей жизни был опыт, когда меня привлекали к проекту по созданию символики Уфы. Я столкнулся с тем, что если ты специально что-то будешь пытаться делать, то эффект получится незначительный. Всё должно появляться естественно. Если человек скажет: «Дай-ка я сяду и напишу идеальную уфимскую повесть!», у него ничего не получится. А если человек напишет повесть, но действие происходит в Уфе, описываются какие-то места, отображаются черты уфимской культуры – это будет тем, что нужно.
Была античная притча о художнике, который хотел изобразить загнанную лошадь. Он рисовал-рисовал пену, ничего не получалось. Потом разозлился, взял губку, на которой была краска, и со злости швырнул в картину. И она попала на морду лошади, образовав пену, так состоялась картина. Иногда то, к чему мы очень стремимся, получается случайно.
– Представим себе, что на определённом историческом этапе в России появился новый Владимир Маяковский – поэт нового времени, поэт свершений, модернизации. Кто будет его читать?
– Чтобы появился «поэт модернизации», нужно чтобы происходила модернизация. Маяковский появился неслучайно. Можно много спорить с марксизмом. Например, меня не устраивает примитивно-атеистический дискурс, присутствующий в марксизме. Хотя, кстати, марксизм не так прост – у Михаила Лифшица есть учение об «абсолютном максимуме», а у Эрнста Блоха есть «принцип надежды». Но нельзя не согласиться с тем, что марксизм предлагает диалектически целостный взгляд на общество, увязывающий в одно и экономику, и духовную культуру. И марксизм позволяет ответить на вопрос: «Почему Владимир Маяковский появился именно в этот исторический период, а не ранее или позднее?» А потому, что страна тогда переживала революцию и модернизацию. Причём модернизация происходила и до политической революции, и после политической революции – сначала была попытка модернизации при царизме. Но она была не впечатляющей, не оправдала надежд, возлагаемых на неё. И эти модернизационные флюиды проявили себя и в духовной сфере. Отсюда и Маяковский – великий революционер в области слова, стиля, эстетики. В то же время – очень консервативный поэт, потому что маяковсковеды находят связи его эстетики и эстетики своеобразного «русского райка», фольклорных стихов. Некоторые видят перекличку его языка с языком Державина.
А сейчас мы живём в эпоху деиндустриализации. По большому счёту, сегодня – эпоха разложения советской цивилизации, когда большое пространство и большие дискурсы распались. Откуда взяться такому революционному поэту?
– А тогда кто он – поэт нынешнего времени? И кто его читатель?
– Вы правильно поставили вопрос – дело не только в том, чтобы появлялись новые поэты. Для них нужна среда, читатели! А читатели должны иметь определённую подготовку, ведь чтение – это серьёзный процесс, а не просто скольжение взглядом по бумаге. Нужно понимать детали, людей, намёки, контексты, которые человек без должного уровня образования не поймёт. В этом и суть примитивизации и возникновения массовой культуры. В массовой культуре всё ясно и понятно: «я её люблю, она меня не любит, пойду удавлюсь». А у Есенина всё сложнее. И с этим тоже проблемы – общий декаданс затрагивает и систему образования, к сожалению. Какие-то лакуны сохраняются, особенно в крупных городах, и какое-то время будут сохраняться, но в целом система деградирует.
– Когда я был студентом Физико-технического института, вы вели кружок по «Диалогам» Платона. Для чего студентам нужны такие кружки? Зачем им философия?
– Это лучше спросить у самих студентов. Моё дело, если люди интересуются, – почитать с ними тексты, поговорить, прокомментировать, высказать своё мнение, посоветовать какую-то литературу. Я очень рад, что практически на каждом курсе находятся несколько обучающихся, испытывающих живой интерес, хотят читать эти тексты. Я не могу ответить за них, зачем им это нужно. Мне даже сложно сказать, зачем это нужно мне самому.
У Аристотеля есть классический труд по философии, который мы называем «Метафизика», хотя мы не знаем, как он его называл. Это очень странная история – это лекции, которые он читал в своей школе – «Лицее». После смерти Аристотеля его лекции несколько столетий переписывались последователями внутри школы и только спустя пятьсот лет были опубликованы. А перед публикацией возник вопрос – как их назвать? И назвали «Метафизикой». Это классический труд – если мы возьмём восточную цивилизацию, то в арабских медресе изучался Аристотель. И не только в арабских – до революции здесь, на территории Уфимской губернии, было очень много суфийских центров и крупных медресе. Например, Стерлибашевское медресе было практически как университет, там было несколько десятков тысяч книг, в том числе XV–XVI веков. И тут изучался Аристотель! И на Западе он изучался, а в Средние века он был непререкаемым авторитетом. И когда он подвергался критике, всё равно изучался. Поэтому «Метафизика» – один из классических трудов, без знания которых к философии трудно подходить. И я в своё время с благоговением открыл его для себя. Первые слова, которые я там прочитал, меня просто поразили: «Познание начинается с удивления». Обычно человек ничему не удивляется, так ведь? Идёт по улице, смотрит на падающие с деревьев листья или на закат. Скользнёт равнодушным взглядом по всему этому и дальше пойдёт. А почему он не удивляется? А потому что он думает, что всё знает, ему всё понятно и очевидно. А на самом деле мало что понятно! Ньютон, например, увидел падение яблока, задумался, почему вещи падают на землю. То есть он удивился, и с этого началось познание. Для того чтобы начать познавать, нужно на мир как-то иначе посмотреть. Кстати, в литературоведении такой приём называется «остранение».
Собственно, философия – да и не только философия, но и наука, и искусство – позволяет человеку взглянуть на мир с новой стороны, как у Блока: «…И мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман!» И тогда мы поймём, что мы, по сути, ничего не знаем, и тогда у нас возникнет желание познавать. У большинства людей это бывает только в детстве – дети всегда почемучки, всё спрашивают у родителей. А философ и художник – это люди, которые сохраняют это свойство до глубокой старости. И в общем-то они, наверное, счастливей именно поэтому.
Меня всегда радует, что среди моих студентов есть люди, которые не просто читают какие-либо философские тексты, но ещё и начинают задумываться о прочитанном или услышанном.
– Что собой представляет сегодня высшее образование? Вы как-то назвали статью «Университет – не место для учёбы». И всё-таки, университет – это место для учёбы?
– Конечно, университет – это место для учёбы, как и парламент – место для дискуссий. Вы понимаете, что у этого названия есть намёк. Когда-то был такой спикер парламента, единоросс Борис Грызлов, сказавший знаменитую фразу, что парламент – это не место для дискуссий. Но вообще-то слово «парламент» произошло от французского parler – «говорить». То есть в идеальной модели в парламенте люди говорят, спорят, обсуждают, вырабатывают какое-то компромиссное решение.
В университете есть две главные фигуры – преподаватель и студент. А все остальные – технический обслуживающий персонал, задача которого – обеспечить нормальный образовательный процесс. Но у нас получается, что бюрократия растёт-растёт-растёт, и в итоге можно обойтись без преподавателей. Именно из ведущих официозных вузов Москвы пришла инициатива заменять преподавателей на видеолекции. Сами понимаете, это сильно оптимизирует систему, сокращает расходы… На самом деле, в онлайн-образовании ничего плохого нет. Оно возникло в Америке, но самое интересное в том, почему оно возникло там. Потому что есть целая категория студентов, которая не может приезжать на учёбу. Например, инвалиды. И для них было создано онлайн-обучение. Но всё-таки самая настоящая учёба – это встреча двух личностей, студента и преподавателя. Кто-то сказал, что образование – это то, что остаётся, когда ты забудешь всё, что тебе говорили на лекциях. В образовании всегда есть своего рода «мистический остаток», который формирует личность человека.
Суть ведь не в том, что у человека не было знаний, а он пришёл в вуз, ему их загрузили, как на дискету или флешку, и у него эти знания появились. Суть в том, что приходит он одним человеком, а уходит другим. Выходит человеком, который получил какой-то вкус познания, зачатки теоретического мышления, вплоть до формирования национальной культуры. Кстати, университет современного типа возник в Германии. Германия XIX века была очень многообразной страной. И остаётся многообразной – со множеством разных земель и диалектов немецкого языка. И кто-то сказал, что именно немецкий университет сделал немцев единой нацией. То есть туда приходили саксонцы, баварцы, пруссаки, а выходили немцами. Нельзя забывать, что университет имеет культурную функцию.
Так вот, те, кто предлагает примитивную компьютеризацию и цифровизацию, не понимают, что образование – это не просто передача объёма информации. На самом деле, сейчас мы живём в таком обществе, где недостатка в информации нет. Человек может найти в интернете всё что угодно. Я сам удивляюсь, когда, занимаясь историей русской философии и евразийством, читая какую-либо статью, вижу упоминание какого-то автора. Я через поисковик за секунды нахожу нужный текст. Раньше для этого нужно было поехать в Москву, в библиотеку им. Ленина, где-то поселиться, зайти в библиотеку, часами сидеть, делать выписки от руки. И не факт, что я нашёл бы нужное. А если окажется, что книга издана за границей, то тогда невозможно было её получить. Учёным в Академии наук специально выдавали валюту для того, чтобы можно было заказывать журналы на иностранных языках.
Сейчас, конечно, такой проблемы нет. Но если лекции – это простое информирование, то смысла в ней никакого нет. Повторюсь, суть вузовского образования – во встрече личностей, их трансформации и преобразовании. Скорее, в воспитании. Очень подходит здесь русское слово «образование». Кстати говоря, это же полная калька с немецкого слова bildung, от слова bild – «образ, картинка». То есть образование от слова «образ» – воссоздаётся некий образ человека, оформляется его личность. В этом и смысл образования. И, конечно, никакие компьютеры, видеокамеры, онлайн-средства человека не заменят. Но, к сожалению, нашим образованием управляют люди с технократическим примитивным мышлением. Не только образованием, но и медициной, например, когда у нас вдвое сократили количество больниц, начиная с 2000 по 2020 годы. Мол, зачем нам нужно столько клиник. А потом началась эпидемия ковида. Оптимизация – это бич. Она связана с примитивным мышлением людей, которые в образовании, медицине и в других сферах видят всего лишь способ зарабатывания денег.
– Существует ли университет как «сообщество» преподавателей и студентов?
– Безусловно, университет существует как сообщество. Другое дело, что у нас в России всё никак не получается реализовать гумбольдтовский идеал. Вильгельм Гумбольдт – немецкий реформатор образования, очень крупный известный учёный, бывший к тому же министром образования Пруссии. Реформы Гумбольдта как раз и создали классический немецкий исследовательский университет – систему, которая стала образцом для всех стран мира. Американские университеты, что бы ни говорили, в наше время лидируют. Так вот, современный американский университет представляет собой немножко видоизмененную под американские реалии гумбольдтовскую модель.
Эта идея подразумевает очень важную вещь – автономию образования. К сожалению, у нас в России с автономией всегда была беда. Её у нас много раз пытались вводить – и до революции, и после революции, но всегда это заканчивалось тем, что государство в конце концов разочаровывалось в экспериментах и вводило тотальный контроль всего и вся. Так произошло, например, при Николае I, когда были закрыты философские факультеты, запрещено преподавание философии, а в университетах установлены специальные должности – педели, университетская полиция, буквально следившая за студентами. Даже были карцеры, университетские тюрьмы для наказания студентов. А в сталинскую эпоху мы видим, что на лекции преподавателей могли прийти проверяющие: читают ли лекторы в соответствии с имеющимся письменным текстом или он добавляет что-то от себя. Я разговаривал с женщиной, которая училась в университете в позднесталинские времена. Она рассказала, как тогда преподавали философию. Тогда был единственный учебник философии – философская глава «Краткого курса истории ВКП(б)». Официально считается, что её автором был Иосиф Сталин, хотя, на самом деле, говорят, что написал его несчастный Ян Стэн, погибший затем в лагерях, а Сталин занимался только литературным редактированием. Собственно, написанное в этом учебнике было мнением партии, правительства и государства, поэтому сомневаться в написанном было чревато. Сомнения рассматривались почти как политическое преступление. Я спрашиваю: «А как же у вас проходили семинары по философии, ведь семинар предполагает дискуссию, столкновение мнений?» Она говорит: «Просто выучивали наизусть». Как в Китае времён Мао Цзэдуна, где преподаватель приносил в аудиторию «Красную книжку», начинал читать и спрашивал у студентов: «Что дальше?»
– Вы задавались вопросом: «Была бы всеобщая грамотность в Российской империи к 1928 году?» Но меня волнует более злободневный вопрос: будет ли всеобщая грамотность в России к 2028 году?
– Система образования не существует в безвоздушном пространстве. Образование делается для чего-то. В Советском Союзе оно развивалось в годы первых пятилеток – создавались институты, вузы, рабфаки. Строились заводы, больницы, школы. В больницы нужны врачи, в школы нужны учителя, на заводы нужны инженеры, поэтому нужна система образования. А когда всё наоборот – когда заводы закрываются, количество поликлиник сокращается, школы оптимизируют, – вузы оказываются в положении, когда они выпускают специалистов, а специалисты остаются не у дел. Либо они не хотят работать по специальности, потому что их не устраивает зарплата, либо им и некуда идти, нет столько предприятий.
С системой наших вузов произошла ужасная вещь – они превратились в машины по зарабатыванию денег. Они не вмонтированы в систему народного хозяйства, как в социалистические времена. То есть была смычка – если хозяйству нужны специалисты в определённом количестве, вузы их производили. А сейчас в высшем образовании такого нет, целевые приёмы мизерны. Роль обычных вузов, особенно гуманитарных, не определена. В итоге предоставляются «образовательные услуги», хоть я и не люблю это выражение, за определённые деньги, дальше человек идёт куда-то. Тем самым образование просто вырождается. В те же советские времена как поддерживалось качество образования? За счёт системы рекламаций. Могли с головного предприятия или министерства сообщить, что такие-то и такие-то предприятия не устраивает уровень подготовки ваших инженеров, поменяйте образовательный процесс.
– И в обозримом будущем уровень образования будет так же зависеть от состояния экономики?
– Я в этом смысле довольно печально смотрю на будущее. Хотя история всегда таит очень много неожиданностей. Поживём – увидим!
