№6.2023. Амир Аминев. Чужой
Повесть-диссертация
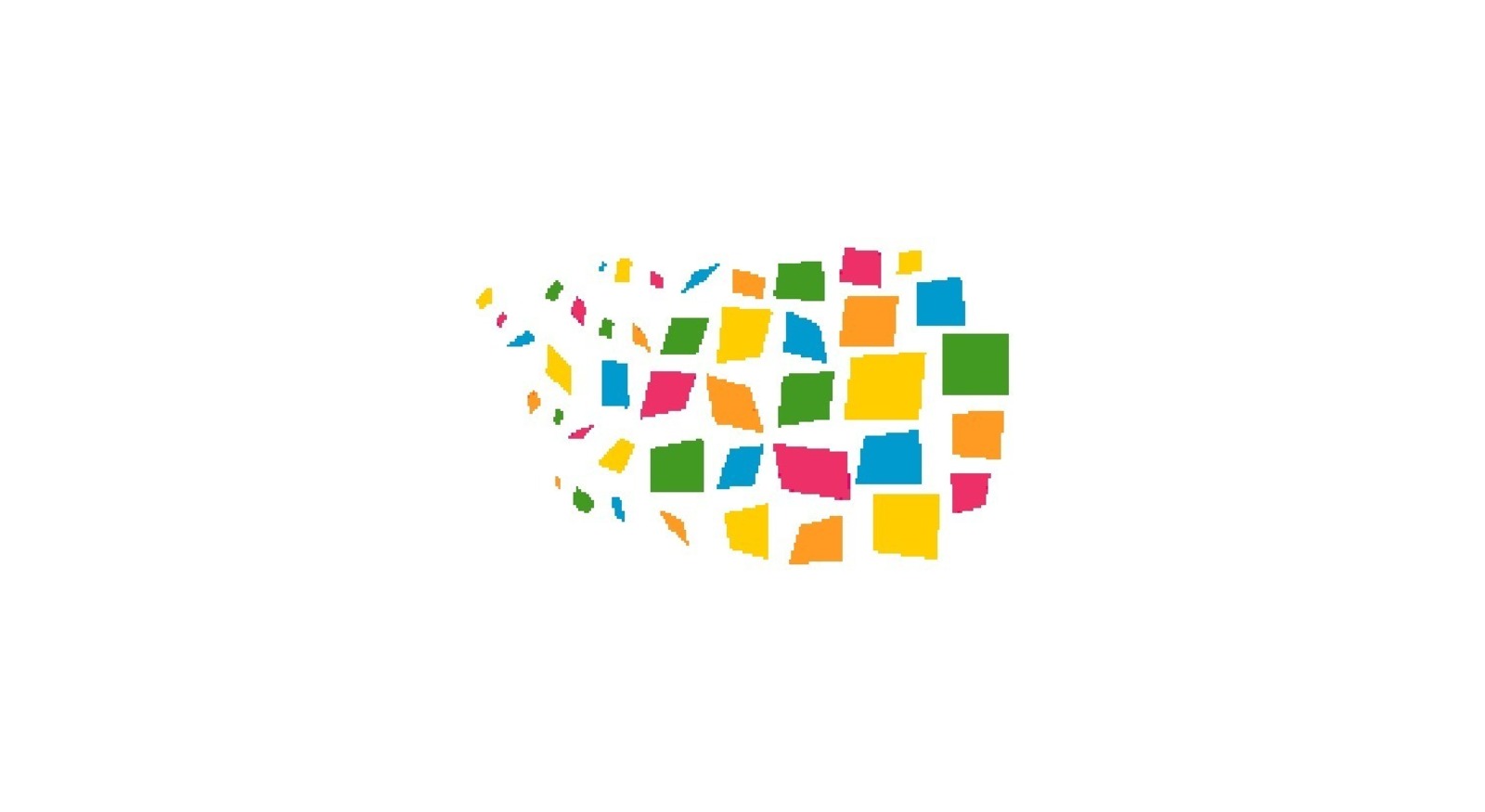
Перевод с башкирского Алика Шакирова
ПРОЛОГ
Придя с работы домой, в общежитие, перекусил чем было, прилег на кровать, решив немного передохнуть, и включил телевизор. Однако ничего интересного, для души, там не было. Переключая одну за другой кнопки пульта, остановился, наконец, на канале о мире диких животных. Я частенько смотрю его. Если хочешь отдохнуть, лучше этого канала не найти: повседневность братьев наших меньших интересна, забавна и поучительна. У каждого из них своя жизнь: поиски пропитания, бег от погони, продолжение рода. Сильный поедает того, кто слабее, а сам, в свою очередь, становится добычей того, кто его сильнее. Каждый выслеживает другого, животные убегают друг от друга, прячутся, даже окрас свой меняют, в целях маскировки, дабы враг не заметил. Законы дикой природы жестоки. Чтобы выжить, надо быть сильнее, проворнее, хитрее своего врага.
Показывали передачу о жизни львов. Большое их семейство, иначе говоря, прайд, в саванне (съемку вели, наверное, в одной из африканских стран) расположилось на отдых под низкими, развесистыми деревьями. Видимо, в удачной охоте завалили косулю или сайгака, наелись до отвала и теперь лежат, переваривают сытную еду. Идиллическая картина: самые царственные представители дикой природы прилегли на землю и медленно, величественно поворачивая свои могучие шеи, обнюхивают и облизывают друг друга, стряхивают, тряся большими головами, лезущих в узкие щели глаз, в уши назойливых мух. Другие мирно спят. Детеныши, заигрывая, хватают львиц за хвост, кусают за уши, залезают на спину матери. Им хочется поиграть. Вон, три львенка, совсем еще маленьких, ростом с кошку, колесом крутятся: первый тянет второго за уши, тот пытается поймать этого за хвост, третий тычет в мордочку первому, а потом снова начинают кататься колесом.
Но вдруг самый большой, самый рослый из всех в прайде, с опоясывающей шею длинной рыжеватой шерстью лев поднялся и подошел к трем играющим львятам. Подошел и поочередно – одного, второго, третьего – всех обнюхал. После этого шерсть на его загривке резко вздыбилась, он оскалил белые зубы, издал громкий горловой рык. Почуяв опасность от этого рычания, испугавшись, львята кинулись врассыпную. В два прыжка нагнав одного из них, лев схватил его всей пастью за шею и отшвырнул в сторону. Затем вонзил свои острые зубы в голову второго львенка, третьему прокусил голову и отбросил его подальше. Послышался лишь жалобный писк бедных малышей.
Я был поражен увиденным, этой разыгравшейся в течение нескольких секунд трагедией. Как можно было так жестоко лишить жизни этих маленьких созданий, от роду которым лишь месяц, самое большее два? Зачем понапрасну сгубил их вожак прайда? В чем вина этих малышей? Ничего не могу понять. Хоть и детеныши диких зверей, а все равно жалко малюток.
Наконец, закадровый голос ведущей так объяснил случившееся: вожак прайда почуял по запаху, что львята не его дети! Почуял – и расправился с ними. Оказывается, в его прайде не должно быть детенышей, родившихся от чужого самца, в прайде должны быть только его, от него рожденные львята.
Но в убийстве львят была и другая причина: этих трех львят мать уже не может кормить. Раз мать перестает кормить молоком детенышей, значит, организм самки вновь готов к беременности. А льву только этого и надо. Получается, что он просто ускоряет этот процесс. Вот такие у диких животных дикие законы. Впрочем, может быть, для них эти законы не такие уж и дикие, ведь любая живая тварь старается оставить после себя потомство.
Все львы в этой стае, в том числе и мать трех задушенных львят, молча, равнодушно и спокойно, без единого движения наблюдали за только что случившейся трагедией. Хоть бы один из них поднялся, зарычал! Вожак прайда еще раз обнюхал трупики львят, словно хотел убедиться, что львята не его, затем двинулся в сторону их матери. Значит, начал оказывать внимание львице, ухаживать за ней.
Крутившиеся рядом с прайдом гиены как будто только и ждали, когда лев уляжется, тут же всей стаей набросились на мертвых львят и, вырывая их друг у друга, утащили добычу прочь.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Мне дали задание подготовить статью либо рецензию о высокомерном, надменном, горделивом, не признающем нашу башкирскую литературу, издающем свои произведения только в Москве писателе. По крайней мере, именно в таких неприглядных тонах отозвались о нем на очередной редколлегии большинство ее членов, и потому мне следовало в своем материале опустить его на землю, поставить на место, написать с перчинкой статью о нем самом и о его произведениях. Конечно, таким уж открытым текстом конкретно не сказали, но не трудно было догадаться в процессе разговора, по их намекам, по словесной мишуре, которую пытались завернуть в блестящие обертки, что все они недолюбливают этого писателя. Все это так, но у медали, оказывается, есть и другая сторона, никак не обойти в журнале того, что он есть в нашей литературе: приближается его юбилей, круглая дата. Может, сверху было дано такое распоряжение, главный редактор об этом ничего не сказал. А раз не сказал, никто и не спросил. Нельзя было проигнорировать тот факт, что повести, рассказы писателя напечатаны в московских журналах, книги вышли в известных в стране издательствах, некоторые из произведений увидели свет за рубежом и высоко оценены. Где родился и вырос? У нас. Кто по национальности? Башкир. Как знать, а вдруг да напишет руководству республики бумагу, либо позвонит, мол, я же ваш, а меня не печатают, не замечают, замалчивают, обижают, не принимают в свой круг. Поэтому, пока не пришло из Белого дома распоряжение, надо бы нам самим успеть упредить.
Мне сказали: ты молодой, вчерашний студент, в журнале начал работать недавно, так вот и покажи себя перед коллективом, перед редколлегий этой работой. Задание наше дает тебе такую возможность, используй свой шанс. Во времени не ограничили, да и в объемах не поставили никаких рамок, сколько вытянешь – все в твоей воле. У главного редактора ножницы острые – то, что сочтет ненужным, вырежет, а недостающее добавит. Когда рукопись будет готова, рассмотрим, обсудим на редколлегии. Однако в процессе работы в конце каждой недели я должен предоставлять ответственному секретарю устно, а еще лучше в письменном виде отчет о проделанном. По их словам, это добавит мне ответственности, а редакции даст возможность быть в курсе того, как у меня идут дела. Кто-то даже начал рассуждать по поводу того, что мне, как аспиранту, нужно будет выходить на защиту, вот тогда-то научный совет факультета либо мой научный руководитель и может попросить справку о том, как ты тут у нас работаешь. Одним словом, решили видно – нечего этому жеребцу ветер гонять, надо его заарканить. Не знаю, устраивалась ли раньше такая «дедовщина» по отношению к поступившим на работу в редакцию новичкам, не осведомлен, но таким вот образом повязали меня по рукам и ногам. Благодаря живущему в Москве, не склоняющему, как они сами говорят, перед ними голову писателю-земляку. Как будто я повинен в таком поведении писателя-земляка.
Вы только посмотрите, да этот агай в наших краях даже не показывается, не передает свои произведения в республиканские печатные издания, в наш журнал, ни с кем не общается, разговаривает с нами с кремлевской высоты! Стало быть, мы ему не нужны, он в нас не нуждается. Если бы возникла такая нужда, уж наверняка позвонил бы, дал бы о себе знать, письмо бы написал, повести-рассказы бы свои прислал. Как понять, что он не признает большую башкирскую литературу, рождающую толстые исторические романы, дилогии, трилогии, пенталогии? Никак невозможно понять и ничем не объяснить…
Впрочем, по правде говоря, все эти разговоры сотрудников редакции и членов редколлегии основаны на слухах: якобы кто-то от кого-то слышал, то или иное произведение писателя в каком-то издании попадалось кому-то на глаза, фамилия называлась в критических статьях, в годовых отчетах-обзорах, будто бы имя его звучало с трибун проводимых в масштабах страны съездов. Но на самом деле о его творчестве никто не имеет достаточного представления, все, что знают о нем – оказывается, пишет на военную тему. Одним словом, все их слова сродни поискам черной кошки в черной комнате.
Да, мне терять было нечего, как и пролетариату, кроме своих цепей. С работы не выгонят, для это нужны веские основания либо моя неспособность написать такую статью, полная профнепригодность. А я думаю, что смогу написать, какое-то внутреннее чутье это подсказывало. Хорошо еще и то, что это не набивший уже оскомину, жеваный-пережеваный, тысячу раз повторенный, успевший надоесть своим творчеством, вошедший в школьные учебники и вузовскую программу автор, а сравнительно еще молодой литератор, и, самое главное, совершенно новое имя.
Рассуждая здраво, холодным умом, в то же время понимаю, что написать статью о своем земляке, известном писателе – дело довольно серьезное, своего рода испытание. На карту поставлено мое будущее, смогу ли работать в редакции журнала. А мне здесь удобно, комфортно: зарплату выплачивают, есть комната в общежитии со своим столом и стулом, для сбора материалов к диссертации под рукой и многолетние подшивки журналов, да и краснокожее удостоверение с печатью и подписью главного редактора греет душу, с ним хоть в какие двери можно войти… Короче говоря, с порученным заданием, кровь из носа, надо справиться. Все зависит от меня самого, и мне самому же надо. Это – одно. Второе – познакомиться с писателем-земляком, встретиться, поговорить, поспрашивать – дело нехитрое, но надо еще найти, придумать форму, жанр предстоящего текста. А вот в этом опыта у меня маловато. Кроме небольших рецензий на первые рассказы, первые книги молодых прозаиков, других больших работ нет. А ведь человек, о котором предстоит писать, живет в самой Москве и наверняка очень начитанный, информированный, хорошо знающий литературу всего Советского Союза, России. Чтобы построить беседу, надо и самому соответствовать этому уровню, мыслить глубоко и широко. А я всего лишь вчерашний студент, только полтора месяца работающий в редакции малай. Если в процессе разговора почувствует разницу в весовых категориях, возможно, и вообще не станет со мной откровенничать. А потом, может ведь и спросить: почему не приехал главный редактор либо его заместитель, всерьез меня не воспринимают, что ли, все еще стараются не замечать? Что я на это отвечу? Если, вернувшись, передам все эти вопросы руководству, все равно никто не приедет, скажут, тебе поручено, давай делай. Стало быть, надо очень хорошо подготовиться, в первую очередь найти и прочитать его произведения.
В библиотеке Дома печати отыскал изданный много лет назад в Москве тонкий сборник его повестей и рассказов. В надежде найти статьи, рецензии на отдельные произведения автора или в целом на творчество – раз уж так известен в стране, должен же был кто-то из критиков обратить внимание – перерыл подшивки журналов «Наш современник», «Знамя», «Дружба народов». К счастью, все эти мои старания оказались не напрасны: в упомянутых журналах нашлись три небольших рассказа, в еженедельниках «Литературная газета» и «Литературная Россия» был напечатан один рассказ, а также довольно солидные статьи и рецензии на его творчество и отдельные произведения. В посвященном теме Великой Отечественной войны обзоре два абзаца было отведено одной из повестей писателя. Не упускал случая расспросить о нем и у наших писателей старшего поколения. К сожалению, многие из них, так же, как наши члены редколлегии, знали агая только понаслышке, произведений его не читали. Самое странное, что никто не переспрашивает, о ком идет речь, не интересуется, что он написал, не обещает, что, мол, поищу, почитаю. Лишь один наш литератор вспомнил, что этот прозаик приезжал к нам в качестве почетного московского гостя на съезд писателей и что в какой-то республиканской газете даже вышло интервью с ним. Однако интервью этого я так и не нашел, сколько бы ни рылся в газетных подшивках.
Наконец, после долгих расспросов, исканий, из разговора с человеком из его района стало известно, что этот писатель каждое лето приезжает в свою родную деревню. Там, оказывается, и дом у него есть, оставшееся то ли от отца, то ли от деда родовое гнездо. Вот это уже здорово, значит, можно будет дождаться, когда он там появится, выпросить командировку и приехать к нему.
И вот однажды, нежданно-негаданно, когда в очередной раз зашел в расположенный возле Дома печати книжный магазин, мне попался на глаза изданный в Москве довольно солидный сборник его повестей и рассказов «Вот кончится война». Книга стояла на полке в букинистическом отделе. Я тут же купил ее и буквально за две ночи «проглотил» четыре повести и три рассказа – все они были о войне. (Тот сборник, что взял накануне в библиотеке и отложил, рассчитывая приняться за него в выходные, даже не стал открывать, сразу стал читать тот, что купил.)
Эти две ночи, а вместе с ними и присовокупленные два дня стали для меня неким потрясением, вызвали удивление и даже некоторое неверие. Поскольку до этого настолько увлекающей, притягивающей к себе, словно магнит, сильной, психологически тонкой и глубокой и вместе с тем такой искренней, изображающей события во всей их открытости, оголенности прозы мне читать не приходилось. После прочтения этих произведений у меня даже возникли некоторые сомнения: может быть, я их недопонимаю, может, для меня это слишком сложный материал, а возможно, автор изображает совсем другую войну, о которой мы ничего не знаем. Голая правда, глубокие психологические переживания героев, их сомнения, страх быть убитыми, приказы командиров, бросающих необстрелянных, 17–18-летних юнцов на штурм высоты или на усеянное минами поле, по сути, на верную гибель, нехватка патронов, полуголодные солдаты – в самом деле, неужели все это было? И если было, то это же поразительно. Мы ведь знали войну только по кинофильмам, по книгам, а там советский солдат всегда выходит победителем, он превосходит врага по своей храбрости, по силе, меткости, ловкости, умению воевать. Он никогда не терпит поражение, не отступает, не боится смерти, бесстрашно бросается на окопы врага, в самое пекло огня и, если возникает угроза попадания в плен, пускает себе пулю в лоб либо взрывает гранатой себя вместе с окружившими его врагами. Не задумываясь, без тени сомнения, беспрекословно подчиняясь громкому приказу командира взвода или роты – а этот приказ отдается именем Родины, именем Сталина, они выскакивают из окопов и железным потоком нападают на противника, а затем, выбив его из траншей, блиндажей, вонзают в бруствер победное красное знамя. А у этого писателя солдаты, испугавшись пуль, мин, зарываются на дно окопа, прячутся за деревья, за камни.
И в какое же из этих двух описаний верить? По мере чтения сборника я все больше начинал верить московскому писателю, потому что он умел писать правдиво, изображал военные события очень реально, жизненно, по-земному, и переживания рядовых солдат описывал без какого бы то ни было пафоса. У него там – обыкновенная действительность. Не бывает людей, которые бы не боялись смерти, не боится только идиот, а у кого есть душа, тот боится… Это одно, а другое, что меня удивляет: почему большинство из членов редколлегии, по крайней мере, старшее поколение, ничего не зная о нем, не прочитав ни одной его книги, так тенденциозно судят о личности писателя, его творчестве? Грешен, я и сам, пусть даже только внутренне, про себя, вслед за ними был подобного мнения и до сего дня думал о нем в негативном плане. А вся причина в том, что не знал, не был знаком с его произведениями. А раз не знал, то как можно было возразить старшим коллегам?
В конце недели итогом работы, если можно считать работой чтение произведений своего земляка, стал мой первый «отчет» ответственному секретарю. Доложил, что прочитал такие-то рассказы, такие-то повести, нашел такие-то рецензии на отдельные его произведения, в целом на его творчество, назвав поименно их авторов. Признался, что это творчество стало для меня открытием, до сих пор не встречал прозу такого уровня… «Не спеши, еще раз, заново прочти, подумай, первое впечатление обычно обманчиво. Остынь, включи свой аналитический ум», – посоветовал ответственный секретарь, привыкший относиться ко всему новому с недоверием, настороженно и с опаской. В результате снова погружаюсь в сомнения: значит, ничего я не понял, не по зубам мне эти произведения, придется снова перечитать. А через некоторое время снова прихожу к прежнему выводу: нет, все-таки эта проза высокохудожественна…
В понедельник, ближе к обеду, вызвал меня главный редактор. Я сразу подумал, что наверняка ответственный секретарь передал ему содержание нашего разговора о произведениях земляка, потому главред и хочет прояснить этот момент. С такими мыслями зашел в его кабинет. Оказалось, не совсем так.
– По поводу Талгата Гайнуллина есть важная информация, – сказал он, облокотившись подбородком на спинку стоящего возле его стола стула. Я знаю, что он никогда не предлагает сесть, поэтому слушаю стоя. – Его, оказывается, пригласили на работу преподавателем на кафедру русского языка в твой университет. И что из Москвы-то приглашать, как будто у них своих нет. Этот товарищ то ли приедет, то ли нет, сможет ли еще преподавать, тоже проблема. Не каждый писатель способен стать преподавателем. В свое время Гоголя тоже пригласили в Санкт-Петербургский университет. Прочитал несколько лекций, а дальше продолжить не смог, вынужден был уехать. Вернее, его попросили уехать. Уметь преподавать в вузе – это своего рода искусство. Может, он и хорошо знает современную русскую литературу, но опыта преподавания-то у него нет. Согласия своего еще не дал, сказал, подумает. А до сентября не так уж много времени осталось. Лично я не верю, что он приедет. Ну, что ты на это скажешь, будущий университетский преподаватель?
Для меня это была неожиданно радостная новость. Пока собирался с мыслями, что бы такое ответить, нетерпеливый главред продолжил свою речь – ему мой ответ был и не нужен, и не важен.
– С кафедрой я буду на связи, а ты собирай пока мысли. Найди и прочитай его вещи, если вдруг надумаем дать статью про него, либо интервью организуем, вопросы готовь.
– Я уже нашел одну его книгу. Там четыре повести, три рассказа.
– Да-а?! – главред не на шутку удивился. – Ну, и как?
– Сильные произведения. Хожу под впечатлением. Такого уровня прозу доселе читать не доводилось, – выложил напрямую. А сам все про вчерашние слова ответственного секретаря думаю. Все-таки доложил, наверное, о нашем разговоре главному редактору, иначе бы он не завел этого разговора о писателе-земляке.
– Ну, ты и хватил, кустым, совсем уж. Говоришь так, будто досконально знаешь современную русскую прозу, – сидящий с наклоном вперед хозяин кабинета резко выпрямил свое тощее тело, глаза его полезли на лоб. – Какие-то суждения о нем, конечно, приходилось слышать, но вот ты же восторгаешься. В свое время он вроде присылал пару-тройку своих рассказов, куда-то затерялись, не успел прочитать.
– От нашей очень отличается, совершенно в ином стиле написано, другая проза. Способы изображения, описания, мысли, идеи, рассуждения, выводы, манера изложения. Коротко и конкретно пишет. На фронте был пехотинцем, поэтому видит войну совсем в другом ракурсе, глазами солдата, все события оценивает с точки зрения рядового бойца.
– О, кустым, да я вижу, Гайнуллин тебя просто очаровал! Похвально! Это называется сила влияния, воздействия художественной литературы на читателя. Тем не менее не спеши с выводами. – Так вот, оказывается, откуда тот ледяной душ, которым окатил меня вчера ответственный секретарь! Выходит, был разговор. – Не делай пока больших окончательных выводов по нескольким отдельным произведениям. И у великих не все произведения бывают на одном уровне, а потом, ты еще, может быть, не до конца во все вник, не все понял. – На лице главного редактора вновь отразилось давешнее его недоверие к моим словам. – Слышал, конечно, что пишет на военную тему. Дай-ка мне один из прочитанных тобой рассказов либо повесть, ознакомлюсь. Заинтриговал. – Главный редактор через силу улыбнулся. – Если в самом деле так хороши, как ты говоришь, возможно, переведем и дадим у себя в журнале. Посмотрим.
«Надо занести, пока не передумал», – подумал я, и, выразив готовность прямо сейчас выполнить его просьбу, сбегал в кабинет, и тут же вручил ему купленную на днях книгу.
* * *
Потихоньку я начал думать о возможном интервью с писателем, почему-то мне казалось, что такое интервью обязательно должно состояться. Поэтому уже подготовил несколько вопросов. Периодически возвращался к ним, переделывал, зачеркивал, снова восстанавливал, думал над новыми. Промучившись таким образом несколько дней, решил, наконец, занести этот вопросник ответственному секретарю – пусть посмотрит, прежде чем он попадет к главному редактору, может, посоветует что-то.
А сам тем временем, можно сказать, каждый день, все больше окунаюсь в произведения писателя-земляка. Читаю новые, прочитанные еще раз перелистываю, просматриваю. Купив толстую общую тетрадь, заношу туда свои мысли о прочитанном, отрывки из его текстов, цитаты. Знакомлюсь с рецензиями, сравниваю их со своими размышлениями. Все это я теперь рассматриваю уже не как задание редакции, отныне это нужно мне самому, теперь это мое дело, которому я отдаюсь всецело. Выражаясь словами главного редактора, творчество писателя, действительно, очаровало меня, увлекло необычайно, так, что уже и не оторваться. Каждый раз, прочитав очередной его рассказ или повесть, я вновь и вновь поражаюсь: оказывается, и так можно писать, и уже в который раз сожалею, что не знал его доселе. Почему не видел, как получилось так, что ничего не знал о нем, где я бродил в этом неведении, и ведь никто из преподавателей не подсказал, не посоветовал. Можно было по его творчеству написать курсовую, автореферат, дипломную работу.
Не в силах больше сдерживать всех своих ощущений, чувств и эмоций от такой прозы, поделился прочитанным с руководителем отдела Сабуром-агаем, с которым мы сидим в одной комнате. Человек опытный, мудрый, он одобрил это мое увлечение. Сказал, что слышал это имя, но, к сожалению, читать его вещи не доводилось, попросил, когда подготовлю вопросы для интервью, чтобы и ему тоже показал. Не стал ничего скрывать, юлить, признался, что и сам слышал разные неоднозначные отзывы об этом писателе, мол, что только не говорят о нем. Ты, говорит, узнай при случае, умеет ли он играть в шахматы. Если, живя в самой Москве, не знает этой игры, это же стыдно. Передай ему, что тут у нас есть один агай, гроссмейстер, что он научит его этой игре бесплатно, пусть приезжает. Так и скажи.
Когда Сабур-агай в хорошем расположении, в настроении, он любит вести такие разговоры. Талант человека он оценивает через призму умения или неумения того играть в шахматы. Когда кто-либо из авторов заходит в нашу комнату, первым делом он спрашивает, умеет ли тот играть в шахматы, от этого, говорит, зависит судьба твоего материала, выйдет или не выйдет он в журнале...
* * *
В самом деле, если подумать, чем же так привлекла и восхитила меня эта проза? В первую очередь знанием материала и умением правдиво его подать, изобразить, описать. Он ничего не выдумывает, не придумывает, вплоть до самых мелких деталей. А ведь если создаешь художественное произведение, то можно было бы, наверное, и что-то добавить от себя, досочинить. А у него нет, даже то, что выдумано, придумано – жизненно. Поэтому так велико влияние на читателя. Скорее всего, все это идет и от глубокого знания теории литературных законов-канонов, от литературной интуиции, богатства фантазии. Впрочем, эти законы-каноны, такие понятия, как сюжет, композиция, конфликт, так же, как швы в хорошо сшитой одежде, не видны, все они естественны, их просто не замечаешь, о них не думаешь.
Второе отличительное качество – в каждом произведении присутствует персонаж-башкир. Во многих из них он – главный герой. То, что герои произведений писателя – башкиры, видно не только по их именам и фамилиям, хотя и это важно, а по их поведению, характеру, внутреннему миру, по их мыслям, думам, переживаниям, рассуждениям. В этом смысле я нахожу его исконно национальным, имеющим национальный дух писателем. Прожившего всего лишь пятнадцать лет в родной деревне (к такому выводу приходишь после знакомства с жизнью и судьбой главного героя его произведений) и затем всю оставшуюся жизнь вынужденного провести в русскоязычной среде, но не потерявшего при этом чувство национальности человека невозможно не уважать, это сродни героизму. Примечательно и интересно то, что ни один из этих героев не зазнается тем, что он башкир, не кичится своей национальной принадлежностью, не выпячивает ее, не унижается, а чувствует большую ответственность. К примеру, в повести «Атака» рядовой солдат рассуждает так: «В роте я единственный башкир. И здесь я представитель всего моего народа. А раз так, не хочу показывать его с неприглядной стороны». Понимание того, что окружающие тебя люди будут оценивать твою нацию по тебе самому, по твоему поведению, твоим поступкам, мне кажется, идет от того, что человек обладает обостренным чувством национального самосознания, очень высоко чтит свою нацию.
Не только в произведениях о войне, но и тех, что посвящены мирной жизни, мне кажется, речь идет о родных краях писателя. Наши, родные имена, национальные обычаи, нравы, традиции, названия рек, населенных пунктов, тех или иных мест.
Конечно, читать такую прозу не легко, она требует напряжения ума, заставляет задуматься, размышлять. Таким, наверное, и должно быть высокое искусство, настоящая литература. Ее нельзя читать как развлекательную, на сон грядущий. Читать ее – это большой умственный труд, она все время держит тебя в напряжении, в пылкости и горячности, ты ощущаешь себя так, будто действуешь вместе с его персонажами, переживаешь вместе с ними.
В русской литературе есть такое понятие, как «исповедальная проза». Если перевести на наш язык, то это, наверное, ближе к тому, что прийти к покаянию, открыть свое сердце настежь, ничего не скрывая, выставить свою душу на показ. Это понятие как нельзя лучше подходит к внутреннему миру героев произведений московского писателя, как будто как раз про него сказано, поскольку он показывает переживания своих героев во всей оголенности: они сомневаются, боятся, жалеют, даже немецкого солдата, которого ведут на расстрел, жалеют. Солдат в изображении писателя не приемлет, отрицает не только эту конкретную войну, но и все войны на земном шаре, оценивает их как животное, скотское состояние человечества.
2
Мы потомки бесконечно длинной череды
поколений убийц. Страсть к убийству
у нас в крови.
Зигмунд Фрейд
Война – это не подвиг, а лишь его дешевый суррогат.
Война – это болезнь, эпидемия, вроде сыпняка…
Антуан де Сент-Экзюпери
Военная проза писателя, мне кажется, начинается с повести «Две недели». По большому счету, войны как таковой там в общем-то и нет. Она есть, но где-то далеко. Мы ее не видим, а только ощущаем. В повести рассказывается о жизни солдат в военном госпитале, которые получили ранения, контузии, увечья на войне, на полях сражений. В отделении нейрохирургии полевого палаточного госпиталя у одного из бойцов дыра от пули в голове, другой ранен в живот, третий контужен, четвертый, пятый… Речь идет о двух десятках раненых солдат, об их повседневной госпитальной жизни, разговорах между собой, их воспоминаниях, о планах мирной жизни по завершении войны, когда вернутся домой, об их характерах и поведении. Едва ли не каждый день из палаты выносят покойников, на их место с передовой прибывают все новые раненые. Запах хлорки, лекарств, пота, запах ран, спертый воздух…
В этот госпиталь и попадает лирический герой, получивший контузию от разрыва мины. Он должен лежать здесь до полного излечения. На шестой день его осматривает военный врач, видит, что он пошел на поправку, и дает ему поручение: теперь ты уже можешь ходить, а у нас санитаров не хватает, будешь в палате помогать санитарам, здесь тоже работа, здесь тоже война, пройдет время, а там посмотрим, может, и насовсем оставим у себя.
И вот герой повести начинает ухаживать за ранеными, кормит беспомощных с ложки, выливает на улицу естественные надобности неходячих, некоторых водит на перевязку, ночью помогает выносить трупы – одним словом, начинает выполнять все, что обычно должен делать санитар.
Когда главный герой произведения начинает ходить, приходит в движение и повесть, она становится живее, разговоры и общение оживляются, а после того как герой знакомится с получившей контузию от разорвавшейся рядом мины во время оказания помощи раненому медсестрой Полиной Грачевой, и вовсе превращается в произведение только о любви.
Однако светлые, наполненные любовью дни оказываются недолгими: через три дня после их знакомства девушку эвакуируют. А герой остается в госпитале. Хотя военный врач и готов оставить его здесь, он с этим не соглашается, не может согласиться, он думает о том, как попасть на передовую. А почему это он должен остаться здесь? Нет, его место там, на передовой.
Повесть сильна тем, что изображает внутренний мир героев, их переживания. Хотя внешне в повести речь идет о жизни внутри второго нейрохирургического отделения большого военно-полевого госпиталя, она интересна тем, как санитары общаются между собой, а также с ранеными, о чем говорят врачи, хирурги, как они относятся к раненым, что думает главный герой о том или ином персонаже. Все это – важные события, придающие повести динамику, внутреннее движение, и именно эти события делают повесть читабельной.
«Атака» – это произведение, продолжающее военные повести писателя. В интервью «Учительской газете» (Москва) писатель признается, что эта повесть в течение пятнадцати лет отвергалась редакциями толстых журналов. По словам автора, причина в том, что в ней война изображена такой, какой она и есть на самом деле, в окопной правде, а это никак не вписывалось в идеологические шаблоны того времени (начиная с 60-х годов и завершая 80-ми годами прошлого века). «Войну вы воспринимаете слишком субъективно, а это уводит вас в сторону от правды: если бы наши солдаты боялись смерти, в испуге могли изменить, как вы описываете, тогда кто же победил в Великой Отечественной войне?.. К сожалению, ваша окопная правда попахивает ремаркизмом, главный пафос которого – буржуазный пацифизм… Поэтому ваши произведения не соответствуют идейно-художественным требованиям нашего издания...» В какую бы редакцию журнала ни обратился, везде он слышал такой ответ, куда бы ни ткнулся, разворачивают со словами – «неформат». В итоге, автор начинает сомневаться в своей повести: видать, война – это не моя тема, наверное, и в самом деле, неправильно пишу об этом, думает он. Да и в самом деле начнешь так думать, после того как столько редакторов (а ведь среди них есть и фронтовики) развернули.
И вот однажды в одном из центральных журналов выходит повесть Вячеслава Кондратьева «Сашка». Это произведение прозвучало в литературном мире как гром среди ясного неба. Прочитав ее, Талгат-агай увидел и понял, что она созвучна его «Атаке». В ней тоже, как и у него, окопная правда, натуралистические картины, размышления, думы, переживания простого солдата… Вдохновленный прочитанным, он вытаскивает из ящика письменного стола уже забытую было свою повесть, переписывает ее и снова начинает обивать пороги толстых журналов. В который раз! И вот после таких долгих хождений – о, чудо! – журнал «Знамя», наконец, решает напечатать ее! Однако многие места в повести вырезаются, она подвергается значительному сокращению: в авторском варианте несколько больших абзацев вычеркивается, из повести исчезает эпизод избиения солдата старшиной, а один из персонажей – безумный Рогозов, вообще выкидывается. И все же, несмотря на такие купюры, издание произведения в центральном журнале для автора было большой победой.
«Атака» – яркое реалистическое произведение. Автор изображает самые тяжелые, острые моменты первого года войны, пишет предельно открыто и с большой горечью. В повести много натуралистических картин, однако благодаря мастерству писателя даже самые страшные, кровавые описания читателя, конкретно, например, меня, не отталкивают, не понуждают бросить чтение, а наоборот, пробуждают интерес: что же будет дальше после этого ужаса, страшного столпотворения?
Писатель не идеализирует войну. Он показывает, что каждая победа дается солдату с большим трудом, через множество терний и преград. За каждую победу, будь она маленькая или большая, мы заплатили огромную цену. Война автора многогранна, она разная. Она меняет не только жизненный уклад людей, но и формирует их характер, поведение, образ мыслей. Именно война делает из вчерашнего обычного хулиганистого малая настоящего мужчину, джигита. Здесь, на войне, он начинает ощущать страх перед смертью, понимает ценность жизни.
Темой смерти пропитана вся повесть. Для автора смерть на войне аномальное явление, она всегда пугающая, неестественная. Зачастую он пишет, что в мыслях у героя нет либо не было ощущения смерти, но как только он предстает перед этой самой смертью, его начинают одолевать противоречивые чувства. Поэтому сам собой напрашивается пацифистский вывод – к смерти нельзя привыкнуть, ее невозможно принять как обычное, естественное явление в жизни. По мнению автора, на войне в живых может остаться только тот, кто поборол страх смерти, выжить может только тот, кто не цепляется всеми фибрами за жизнь, а всей своей сутью, хладнокровно сражается и свято верит в победу. Лирический герой в произведении показан не в образе героя, а как человек, победивший внутри себя страх, поборовший, преодолевший себя. «Я не боялся смерти, потому что не верил, что умру, просто не мог представить этого, к тому же после того, как Нина разложила карты, да еще я сон свой ей поведал, она сказала, что жить я буду до самой старости. Я боялся ранения, тяжелого ранения, увечья, боялся остаться без ноги, без руки...»
Для автора война – личная трагедия. После прочтения этой повести осознаешь, что он пацифист. Для всех народов и наций земной шар – единственное место для жизни, никому не дано переселиться на другую планету, живи, радуйся, расти детей, всем места хватит. Но нет, кому-то чего-то не хватает, и вот он начинает от жадности грабить соседа, объявляет ему войну. Человек убивает себя, лишает жизни живущих рядом других людей. Для того чтобы убивать, соревнуясь друг с другом, изобретают все новое, более совершенное, современное оружие. А ведь ни в одной войне нет победителя, есть только побежденные. Для человека в здравом уме война – абсурд, к такому выводу приходит автор. Потому что война – это разрушающее жизнь явление. Она лишила жизни миллионы людей, разрушила их судьбы. Я говорю только о человеческом факторе, а если иметь в виду разрушения в масштабах целой страны, сколько заводов-фабрик, центров культуры, дорог, домов превратились в руины, это же волосы могут встать дыбом. Невозможно даже посчитать, сколько ущерба нанесено сельскому хозяйству, промышленности, в целом экономике. В свете всего этого и видится пацифизм писателя-фронтовика, именно такой взгляд на события и выявляет причину всех разрушений. И писатель вынужден задать себе, а также поставить перед нами, читателями, такой вопрос: кому же нужно было это длительное кровопролитие? Зачем из-за желания одного человека, группы людей принесены такие большие жертвы? Почему народ одной страны пошел за сумасшедшим фюрером и начал истреблять людей другой страны? Неужели не нашлось ни одного человека, группы людей, партии, которые бы поняли, осознали смысл такой грабительской политики и выступили против нее? Ведь люди, что бы там ни говорили, не стадо же баранов. Или все-таки бараны? Этот вопрос остается актуальным не только для того времени, но и в наши дни, и пока живо человечество, он и будет оставаться актуальным. «Для того чтобы разжечь войну, по правде говоря, много ума не надо. Война – это занятие выживших из ума людей. Войну развязывают сумасшедшие, идиоты. Да, против фашизма надо было бороться, однако нападения на нас сдвинутого умом Адольфа Гитлера можно же было и предотвратить. Наши дураки, если бы были поумнее, могли бы остановить этого придурка еще в первые месяцы войны возле берегов Днепра…» Так говорил писатель в одном из своих интервью.
«...Из повестей, проникнутых пафосом подвига, помимо “Знак беды” В. Быкова, “Партизанской музыки” Д. Гусарова, “Плавней” Д. Холендро, обращает на себя внимание “Атака” Т. Гайнуллина. Чем же? Предельно обнаженным показом войны – со всей неуютностью окопного быта, беспощадной жестокостью атак, с кровью, гибелью людей. Манера этого автора близка манере В. Кондратьева, наиболее отчетливо выказавшей себя в широко известной повести “Сашка”. Но существенно подчеркнуть, что такая предельная обнаженность показа для Т. Гайнуллина, равно как и для В. Кондратьева, не цель, а средство достижения цели. Коллекционирование ужасов войны, своеобразный неоремаркизм чужды литературе социалистического реализма. Гайнуллин не обрывает путь своего героя, молодого солдата, на трудном и кровавом, а ведет к преодолению, казалось бы, непреодолимого, к идейно-нравственной высоте воина. Бой, в котором участвует герой, первый в его жизни, много предстоит солдату впереди, но верится, что он выдюжит и в любых последующих испытаниях...» (И. Козлов. «Литературная газета». На огненной черте. Размышления о военной прозе. 15 мая 1985 г.).
«В литературу Т. Гайнуллин вошел правдивой, талантливой повестью “Атака”, сразу же заняв свое место среди тех, кто создавал прозу о Великой Отечественной войне. Потом написал еще несколько запомнившихся произведений, посвященных проблемам войны и мира». (Олег Смирнов. «Литературная газета». После победы. 20 апреля 1988 г.).
«Писатель не стремится дать еще одну развернутую картину войны. Он ставит перед собой иную задачу: проникнуть в душу своих героев, взглянуть на войну их глазами. Для вчерашних крестьян, рабочих людей война не только суровое испытание, она – продолжение их труда, тяжелого, необходимого Родине. И оттого, наверное, выполняют они свой солдатский долг буднично, добросовестно и основательно. Именно об этом рассказывает повесть “Атака”. Повесть – большая удача Гайнуллина. В ней писатель ярко, со множеством достоверных деталей отобразил, как мужают вчерашние мальчишки, как на ходу набираются жизненного и солдатского опыта, как приходит к ним понимание непреходящей ценности мирной жизни, осознанной потребности защищать с оружием в руках не только тот дальний родной уголок, но и всю необъятную советскую державу, что стоит за их спиной. Автор проводит своего героя через ад войны, через кровь, страдания, госпитали. Писатель не утешается сам и не тешит читателя счастливым окончанием жизненной и солдатской эпопеи своих героев...» (Шамиль Хазиахметов. «Советская Башкирия». Сто шагов на войне. 20 марта 1984 г.).
В отношении описания войны писатель в какой-то степени устал от идеологических штампов советской военной прозы, фронт изображается не как готовая, умная, полностью разработанная концепция, нет, у него в основе фронтового изображения простые люди, обычные, земные, жизненные события и обстоятельства. Поэтому солдатская правда автора большинству читателей близка и понятна.
Разумеется, повесть не только об одном конкретном военном сражении. Бой лишь окаймляет произведение. Однако этот бой – настоящее, истинное сражение пехоты, со своими смертями, потерями, для многих еще не совсем понятный, не до конца осмысленный, не осознанный своей нужностью, необходимостью сделать только первый шаг. К чему приведет этот шаг, к победе или поражению, солдат этого не знает, но он делает этот первый шаг. Насколько он труден, это знает только тот, кто поднял свое тяжелое тело со дна окопа и выбросил его на бруствер, кто сделал, вынужден был сделать этот шаг. Повесть как раз о готовности сделать этот страшный первый шаг. Повесть о тяжелом марше фронтовиков, о встречах с ранеными, об увиденных на обочинах дорог трупах и, как бы это ни показалось парадоксальным, о размышлениях героя о том, что эта дорога может оказаться для него последней в его жизни дорогой.
«Написанная от первого лица, повесть трогает доверительностью тона, непосредственностью, предельной искренностью. Автор пишет, не привнося в свой рассказ сегодняшних мыслей и чувств, как бывает иной раз в военных повестях и что режет всегда слух… Здесь такие точные, выразительные детали, подробности быта, знать которые может только солдат-пехотинец, – на каждой странице. И потому веришь каждому слову, каждому описываемому случаю и радуешься узнаванию и тому, что ни одна фальшивинка не коробит, не ранит душу… Но – скажут мне – разве достаточно того, что знает писатель правду и пишет ее? Надо же еще суметь и написать. Так вот он – сумел!.. Просто, скромно, без патетических замахов написать так, что веришь всему, а раз веришь – то и сопереживаешь...» (Вячеслав Кондратьев. «Литературная газета». Еще одна атака. 20 октября 1982 г.).
«В повести “Атака” запечатлены не только тяжелые бои с немецко-фашистскими захватчиками на Карельском перешейке, в которых главный герой проходит солдатское становление. В повести объемно раскрываются ратные будни пехотинцев в запасном полку, маршевые переходы фронтовиков с полной боевой выкладкой, показывается накаленная до предела ненависть бойцов к врагам, постоянное стремление к победе...» (Н. Мыльников. «Советский солдат». На Карельском перешейке. 8 января, 1983 г.)
3
Когда меня приняли в аспирантуру, мы договорились с моим научным руководителем, заведующим кафедрой, профессором Рабитом Нуровичем Байегитовым, что сферой моих научных исследований станет литературная проза. Через некоторое время конкретизировали тему моей будущей диссертации (в то время мне даже страшно было произнести это слово), назвав ее «Отражение Великой Отечественной войны в современной башкирской прозе», определили формат, строение-схему будущего научного труда и, поставив на обсуждение совета факультета, утвердили. И вот сейчас, когда я начал вплотную знакомиться с творчеством Талгата-агая, одну за другой читать его книги, мне вдруг в голову пришла мысль: а почему бы мне не попытаться раскрыть эту тему конкретно на его произведениях? Ведь большая часть его творчества, в особенности повести, посвящена как раз теме войны! Если покопаться, можно и рецензии на них отыскать. Да вдобавок еще и земляк, а самое важное, что новое имя в нашей литературе. Как будто знал и чувствовал, в процессе чтения его книг я все записывал в общую тетрадь, надеясь на встречу с ним, если вдруг приедет в наши края, начал даже составлять вопросы для возможного будущего интервью с ним, собирал все рецензии, статьи о его творчестве. Одним словом, подготовка началась, и она продолжается. Рассуждая так, я «схватил» свою идею и побежал к своему научному руководителю.
Волнуясь и запинаясь, поделился своими соображениями с профессором, однако, удивившись такому обороту, он несколько остудил мой пыл: автор нам совершенно неизвестен, нужно же найти еще его книги, а также материалы о его творчестве, сможешь ли ты это сделать? Найду, обязательно найду, я уже в активном процессе изучения творчества писателя, читаю его книги, изучаю в библиотеке подшивки центральных изданий, республиканских газет-журналов, все, что там нахожу, а также свои заметки о прочитанном заношу в общую тетрадь, поспешил я успокоить профессора.
Рабит Нурович встал со своего места и прошелся по кабинету, затем подошел к столу и оперся на него пальцами правой руки. Я с нетерпением ждал от него ответа, что, мол, ладно, если успеешь, я не возражаю. Но ответ был совсем иным:
– Нет, я против того, чтобы поменять твою тему, – сказал он решительным тоном. – Тема утверждена на совете факультета, и, чтобы поменять ее, надо заново собирать совет. А дело это не легкое, очень хлопотное. Собрав, надо будет объяснить причину изменения темы. Засыплют вопросами. Если не найдем какого-то экстраординарного повода, могут и отказать. Начнут предъявлять претензии, о чем, мол, раньше думал, надо было сразу этого автора взять. Твои слова о том, что ты только недавно нашел этого автора, открыл для себя, не будут для них оправданием, этим ты их не убедишь. Это – первое. А второе – то, что если один конец палки на тебя упадет, то другой конец – на меня. Понимаешь? Они мне скажут: а ты куда смотрел, разве нельзя было пораньше об этом подумать? И будут правы. Ты же бьешь по моему престижу. Если не хочешь писать в общем об этой прозе, возьми творчество одного из наших писателей-фронтовиков. Пусть он будет знаком нам, известный всем, и самому тебе легче будет, не надо мучиться материалы где-то собирать, все под рукой.
Я, конечно, предвидел, подозревал, что разговор упрется в эту точку. Поэтому психологически был готов к такому ответу. Ах, как жаль, что я не встретил доселе книг Талгата-агая! Если бы нашел месяца на два пораньше! Хоть и не был согласен с железной логикой профессора, ничего не сказал, промолчал. Пока промолчал.
Рабит Нурович сел на свое место.
– Ты только-только начал читать его произведения, они для тебя новые, поэтому и впечатления у тебя новые, тебе кажется, что лучше него нет писателя. Однако первые впечатления, как бы они ни были сильны, проходят, угасают, во всяком случае, тускнеют, а когда встретишь, откроешь для себя другого автора, он тоже покажется тебе непревзойденным. Эффект новизны. А это, как правило…
– Нет, Рабит Нурович, я много размышлял о произведениях Талгата-агая, были моменты, когда даже начал сомневаться, думал, может быть, я чего-то не понимаю, не до конца вникаю, перечитал военную литературу наших писателей, русских авторов, и сейчас продолжаю читать, но первые впечатления, о которых вы сказали, не прошли, не изменились.
– Я не могу тебе запретить читать его, и изменить твое мнение о нем тоже не в моих силах. Читай, учись, исследуй, анализируй, возможно, и темой твоей докторской диссертации станет его творчество, но на изменение темы моего согласия нет. Слишком большой риск. Пойми ты это.
– А вы сами читали хотя бы одно его произведение? – собрав всю свою смелость и решительность, выложил я последнюю козырную карту.
– Не пришлось, – ответил мой руководитель после некоторой паузы. Не соврал, правду сказал. Иначе, если бы начал, как наши члены редколлегии, заниматься словоблудием, пытаясь завернуть словесную мишуру в блестящие обертки, его авторитет в моих глазах упал бы. Хоть и чесался язык сказать: «Ну, вот, не читали, а противитесь», остановил себя, промолчал, не хотелось ставить профессора в неудобное положение. С руководителем портить отношения нельзя. Получается, что и здесь нашего земляка отставляют в сторону, продолжают давать пинка. По большому счету, кто-кто, а уж один из самых опытных преподавателей университета, известный ученый-литературовед должен был бы знать творчество этого писателя. А он между тем в точности повторяет слова главного редактора, как будто заранее договорились.
С тяжелым сердцем покидал я кабинет заведующего кафедрой.
Проходили дни. Мои дела в редакции, как мне казалось, налаживались, шли своим чередом. По крайней мере, за полтора месяца работы я не получил ни одного взыскания, нарекания, порицания, не услышал недовольства. Поскольку в редакции я новичок, приходится, конечно, и на побегушках быть по разным поручениям, читать рукописи (моя должность – литературный сотрудник), высказывать свое мнение о них ответственному секретарю, а то и главному редактору, если, конечно, они спрашивают, а если просят написать, то и пишу, редактирую. В городе проходит множество различных мероприятий: открываются выставки художников по случаю юбилеев или больших праздников, в театрах проходят премьеры, в издательствах выходят новые книги, авторы проводят их презентации, министерство культуры организует различные «круглые столы» – меня на них посылают, если и не на все, но на многие из них. Для меня это не обременительно, я с удовольствием хожу туда, они мне нужны, потому что мне надо учиться. Участвуя в этих мероприятиях вместе со своими коллегами, я ощущаю, что занимаюсь большим, важным делом, чувствую свою нужность.
* * *
Вопросы, которые я составил для будущего интервью, ответственный секретарь занес, хотя я и не просил его об этом, главному редактору. В один из дней он вызвал меня по телефону в свой кабинет и, сидя в кресле, долго перебирал передо мной, тасуя, как карты, написанное мною же – а было-то там всего три листочка. Можно подумать, что не читал их перед тем, как пригласить меня.
– Считаю, что вопросы для интервью есть, – главный редактор сделал многозначительную паузу и обратил взор на меня. Это, значит, он так проверял мою реакцию. – Кое-что конкретизировал. Иначе некоторые получились слишком общими, абстрактными. Те два вопроса, которые добавил сидящий в кабинете напротив тебя агай (имелось в виду – ответственный секретарь), думаю, лишние, а вот те, что он вычеркнул, восстановил. Умник выискался, работу, видите ли, он показывает. Нам нужны точные, полные ответы, а чтобы получить точные, конкретные ответы, надо, чтобы вопросы были точные и конкретные. Понятно?
– Понятно.
– Люблю понятливых людей. Пусть вопросы твои будут с перчинкой, неожиданные, не очень удобные, может, и с подковыркой. В годы студенчества примерно с полгода я ходил в секцию самбо, в этом виде борьбы есть особый прием, «захват» называется. Проще говоря, надо вывернуть шею или руку соперника и удерживать его в таком положении. Вот и твои вопросы должны быть вроде такого захвата, чтобы он и шевельнуться, двинуться никуда не смог. Например, почему, по какой причине после войны остался в Москве? Это было заранее продуманное решение или же попал туда благодаря каким-нибудь компетентным органам? Каково его отношение к нашей башкирской литературе, а именно к прозе? Чьи произведения читал? Если не читал, то почему? Отчего пишет только по-русски? Не хочет писать по-башкирски или не может? Считает себя башкирским писателем или русским? Какова его политическая платформа, как относится к руководству республики? Не бойся, язык тебе не отрежет, с ног не собьет, – главред посмотрел на меня, выпучив глаза. Затем вновь наклонился к бумаге. – Понятно?
– Понятно.
– Люблю понятливых. Недостаточно того, что понял, надо переделать вопросы, сделать так, как я сказал. Свое согласие на преподавание здесь он дал, пока только на один семестр, а дальше, сказал, видно будет. Так что готовься, ухо держи востро, нос – по ветру, ноги – в резвости, аспирант, ас пират, голодный пират («ас» по-башкирски голодный. – Прим. авт.). – Главный редактор откинул назад свое тощее, как камбала, тело, откинул маленькую голову и довольно рассмеялся. По-своему сострил якобы.
Вопросы для интервью я намеревался послать в Москву по почте либо продиктовать по телефону. Теперь же, раз писатель сам сюда приедет, совсем хорошо, дело намного упрощается, и время не теряется, можно будет встретиться и с глазу на глаз поговорить. Надо будет как-то подкараулить его возле кафедры или деканата. Алга, ас пират – вперед, голодный пират! Да, пират, но не желудком голодный, товарищ «захват». Даже если в желудке пусто, мое стремление к исследованиям, к знаниям не испытывает голода. Привыкли сворачивать людям шею, закручивать руки, вот и Талгата-агая продолжаете отталкивать, не принимать, не признавать его. Конечно, он же для вас не вожак прайда, и потому остается чужим, рожденным от другого льва львенком, и я не собираюсь задавать ему те вопросы, которые вы предложили. Не дождетесь…
В конце августа, за три дня до начала занятий, я пришел в университет. Моей целью было узнать, приехал писатель или нет.
Кафедра современной русской литературы на четвертом этаже главного корпуса. Поднялся. Как раз удачно попался заместитель заведующего кафедрой, ему я и задал свой вопрос. Да, сказал он, приехал, сегодня утром показался здесь, а сейчас, кажется, устраивается в комнату в той части студенческого общежития, где живут преподаватели.
Радости моей не было предела…
4
«Война пятилась на запад. Истерзав и залив людской кровью огромные просторы нашей земли от берегов Волги до западных пределов, оставляя за собой пепелища деревень, дымные руины городов, разбросав на полях и вдоль дорог груды искореженного металла, солдатские могилы и незахороненные человеческие кости, война пятилась туда, откуда пришла, враг уползал туда, откуда начал свой кровавый дранг нах остен 22 июня 41-го года.
Теперь, в начале сорок пятого, земля родная, освобожденная от фашистских нелюдей, очищенная от их мерзостного духа, уже лежала далеко за восточным горизонтом, и мы, наш фронт, наша армия, наши дивизии и полки, уже почти вплотную подошли к границам Германии. Мы уже верили, что война скоро кончится. Весной или летом. И мы, солдаты, в своих сладостных разговорах о доме, о том, какая житуха пойдет после войны, да и в письмах матерям, женам, невестам все чаще и чаще произносили и писали слова жизни, слова надежды: “Вот кончится война...”»
Так начинается повесть «Вот кончится война». Когда читаешь эти строки, перед глазами встает картина планетарного масштаба, как будто с космической высоты оглядываешь измученный, истерзанный потоками горя земной шар. Оглядываешь, и ясно, открыто видишь залитую кровью землю, а на ней развалины и руины, неубранные трупы, оставшиеся позади войск могилы, груды искореженного металла. Душу охватывает тревога. И как только выдерживает наш маленький земной шар такое зверство, варварство…
А уже через два абзаца лирический герой вновь спускается с космической орбиты на грешную окровавленную землю и знакомит нас с тем, что служит коноводом, то есть смотрителем коней в штабе 5-й дивизии комендантского эскадрона. И вот с этого момента начинается описание каждодневных, тяжелых, изнурительных солдатских фронтовых будней. Эта жизнь в повести изображается очень подробно, досконально, толково, со всеми мелочами, при этом красной нитью через все повествование проходит мысль о том, что эти последние дни войны для каждого также могут стать последними. Это чувство придает произведению дополнительную тревожность, прибавляет динамизма, оно, это чувство, дает о себе знать на каждом шагу и исподволь наслаивается на мысль о том, что ничего хорошего в том, чтобы погибнуть накануне празднования Победы, нет.
Повесть написана от первого лица. Этот прием требует от автора интонации открытости, искренности, доверительности, правдивости. Высокий пафос, высокий стиль здесь совершенно не приемлемы, иначе читатель сразу почувствует ложь, обман. И писатель выдерживает взятую в упомянутом выше первом абзаце ноту до самого последнего предложения. Достичь этого очень непросто. Мне кажется, пробежать длинную марафонскую дистанцию в одном темпе, как опытный стайер, держа одну тональность – это качество присуще только большому таланту.
Повесть привлекательна не простым, кричащим названием. Она не столько о самой войне, сколько о воюющих в невероятно трудных условиях солдатах. Чтобы остаться в таких условиях человеком, не потерять человеческий облик, нужно обладать сильной волей. И в этот ад войны контрастным изображением входят картины довоенной мирной жизни, под разрывами вражеских мин, свистящими пулями эти картины кажутся райским уголком. В повести часто используется прием противопоставления друг другу тех или иных понятий, явлений. На фоне описания страшных картин войны, кровопролитных боев, встречающихся повсюду трупов, солдатских могил параллельно вплетаются теплые и светлые образы родных краев, изумительных видов Уральских гор, мелкие, но очень важные для сельского жителя деревенские заботы, печали и радости. Это, наверное, свойство физически и морально чистого существования человека: необходимость в любой жизненной ситуации всегда верить в эту жизнь, умение видеть красивое, доброе и ценить это, не теряться, всегда жить с верой в лучшее.
Автор в произведении еще и настоящий психолог – показывает судьбы людей, анализирует их, делает выводы. Он доказывает, что пройти всю войну и остаться в живых невозможно, выжить может только тот, кто с самого начала верит в победу и сражается так, как ему велит совесть. В живых остается только тот, кто, несмотря на войну, не потерял свою человечность. К примеру, товарищ главного героя, его напарник, пулеметчик Баулин находит в разрушенном доме пятилетнюю девочку, сначала выскакивает из дома, а потом возвращается за девочкой и передает ее в медсанбат. А ведь кругом идет война, и солдат подвергает свою жизнь опасности. Девочка хоть и немка по национальности, она не враг, перед ними всего лишь невинная малышка. Даже в самые трудные моменты, лежа на дне окопа или на передовой линии, наши солдаты не перестают думать о мирной жизни после войны, строят разные планы. Эти надежды, желания помогают солдату воевать, не падать духом, не унывать. «Так разговаривали и спорили ребята иногда, и верилось, что после войны жизнь пойдет замечательная, что они построят новые дома и дворы не хуже, чем у немцев, и заживут счастливой мирной жизнью...»
Повесть «Вот кончится война», наверное, последняя из тех, что посвящены войне. По крайней мере, из всех прочитанных доселе эта мне показалась именно такой. В произведении нет празднования дня Победы, однако то, что день Победы совсем близко, что он вот-вот наступит, это в ней чувствуется. Это чувство угадывается в настроении солдат, в их поведении, в разговорах, в отношениях друг с другом. В самом деле, ведь и название повести к тому подвигает. «Потом я заметил, что едем на восток. Впервые за войну мы ехали на восток. А там, на востоке, за туманным горбом горизонта, за полями, за лесами, за реками, на многострадальной Родине нашей нас ждала жизнь. Мирная. Бесконечная...»
Какие торжественные, обнадеживающие слова, они звучат, будто из той космической высоты первого абзаца начала повести! В них есть любовь, вера в завтрашний день. На такой оптимистической ноте заканчивается повесть. И так хочется верить, увидеть, что шагающие с уверенностью в завтрашнем мирном небе солдаты обязательно дойдут до своих родных мест и начнут мирную жизнь. Вот, оказывается, в чем сила воздействия настоящей художественной литературы!
«В этой повести мне хотелось показать ругаемую официальной критикой окопную правду. О войне нужно писать без пафоса, без героики. В истории человечества никогда не было торжественной войны и никогда не будет. Солдат поднимается в атаку не потому, что он герой или не боится смерти, он поднимается, чтобы выполнить смертельный приказ командира», – поясняет писатель в одном из своих интервью. В другом его интервью есть такие слова: «Война никому не нужна. Героизм, подвиги, ордена-медали – это только видимая нам верхняя часть войны. А у нее ведь есть и другая сторона: кровь, пот, грязь, смерть. Война – это тяжелая работа. Говорят, что о войне я пишу слишком сурово. Да, я видел ее именно такой, суровой, страшной, противной, так ее и изображаю. Моя война была такой...»
Рассказ «Сто шагов на войне» – одно из самых важных произведений писателя. Он – итог, сгусток многих ситуаций, событий, пережитого, передуманного.
«Все дальше и дальше от меня война, уже десятилетия минули после ее окончания, десятилетия, которые я прожил как-то спешно и без душевного покоя. И вот с годами война эта как бы снова начинает приближаться ко мне, вспоминается все пронзительней, и мнится порой, что она, только она и была главным событием, главным делом моей жизни, или как будто всю жизнь я был солдатом, только солдатом. Забывается многое: имена, лица, голоса, чувства, ощущения, пережитое там, на войне, но никогда не забывается одно чувство – чувство войны… Чувство войны непередаваемо ни словами, ни красками, ни звуками, его надо пережить...»
В этом небольшом рассказе писатель через пронзающие сердце, перехватывающие дыхание воспоминания передает самые острые, самые потрясающие моменты войны. Автор считает попадание в эту мясорубку совсем еще юных солдат, по сути, мальчишек, вчерашних детей, парадоксальным явлением войны. Они еще не наигрались, не успели и девушек обнять. И вот еще не испытавших всех прелестей жизни, этих детей бросают на передовую.
«Я – такой молодой, сильный, с горячей кровью и мощно, сладостно бьющим сердцем, безотчетно любящий солнечное тепло, глубокую синь неба, запах напоенного первым весенним дождем чернозема, задумчивый шум леса, пряное дыхание степного ветра, я – и вдруг смерть. Я жил и радовался жизни, радовался самому простому, сиюминутному, незначительному, даже когда смерть была рядом. Пробежал под пулями до соседнего окопа – радость; старшина перед самой атакой принес полный термос каши с мясом и выдал пятьдесят граммов спирта – праздник; выйдя из боя живым, выспался или устроил себе баню – лучшей жизни не надо; а если уж на марше из кузова санитарной машины тебе улыбнется девушка – счастье!..» – так думает герой.
В классическом смысле у рассказа нет сюжета, и композиция своеобразная. Этот рассказ – клубок размышлений, только перед лицом смерти испытываемые человеком ощущения и переживания, промелькнувшая перед ним, как мгновение, вся его жизнь. Автор не рассказывает ни о каких-то событиях, ни о судьбе героя, все описание состоит будто из внезапно вспыхнувших и загоревшихся ярким пламенем мгновений: первой атаки, встречи с засевшим где-то в леске за рекой немецким снайпером, свиста едва не сразившей его пули, какого-то необъяснимого чуда, благодаря которому он остается в живых, и других мелких картинок. Однако если все их сложить вместе, это равнозначно большой батальной битве, вот только они, как фокус, собраны в одну точку и, словно сильно сжатая пружина, упруги, напряжены, динамичны. Фатальная идея рассказа такова: на войне даже самый смелый, отважный солдат бессилен перед пулей. В этой ситуации человек сам себе не хозяин, он не может управлять ситуацией, им самим управляет какая-то высшая сила, рок, судьба. Все уже заранее предопределено, если судьбой предначертано остаться в живых – не умрешь, а если нет, то куда бы ты ни спрятался, предназначенная пуля найдет тебя и разорвет твое тело.
5
Хотя мне и не терпелось скорее увидеться с Талгатом-агаем, тем не менее я не решился беспокоить его в первую неделю начала занятий в университете. И все же не удержался – позвонил своему товарищу Буранбаю, оставленному в этом году, как и я, в аспирантуре на кафедре современного русского языка. Расспросил у него: ну, что, мол, приехал из Москвы преподаватель, видел ли его, начал ли он у вас читать лекции? Да, сказал мой приятель, приехал и уже читает. «Ну, и как, каковы твои впечатления, удалось поговорить с ним?» – допытывался я у коллеги. Что надо преподаватель, со студентами запанибрата, разговаривает, общается, расспрашивает, интересуется, с юмором, а сам все беспокоится, для меня, говорит, совсем незнакомое, новое дело, не знаю, справлюсь ли – доложил приятель.
С Буранбаем мы первые три курса проучились вместе в параллельных группах. После третьего он перевелся в Екатеринбург, в Уральский университет и последние два курса проучился там. Вернулся и поступил здесь в аспирантуру. Теперь работает на кафедре в должности лаборанта. Поскольку у нас обоих социальный статус примерно одинаковый, продолжаем общаться по-прежнему.
В один из дней все-таки пришел в университет и с нетерпением стал караулить Талгата-агая в коридоре. Я узнал его по фотографиям, которые встречал в книгах писателя. Невысокого роста, худощавый. Идет, глядя прямо перед собой, лицо задумчивое, несколько озабоченное и даже суровое. На глазах – роговые очки в большой оправе. Волос на макушке нет, поэтому лоб кажется широким, высоким. Одет в цивильный пиджак, в галстуке, черных брюках, на ногах – хорошие черные туфли. В руках – основательно потертый, из крокодиловой кожи портфель. Видимо, тот самый портфель, в котором он носит в редакции журналов свои произведения, подумал я.
Удивительно, но, по правде говоря, именно таким я его и представлял себе. В произведениях о войне его главный герой как раз невысокого роста, («я маленький, поэтому пуля в меня не попадает»), щуплый, худощавый. Не раз замечал, что многие писатели частенько передают героям свой внешний вид, как бы копируют себя. Почему так – не понимаю и объяснить не могу.
Двигаясь по длинному коридору, он останавливается перед каждой дверью, поднимает на лоб закрывающие пол-лица очки в большой оправе – значит, вблизи видит хорошо, а вдаль не видит – и читает надпись. Прочитав, идет дальше. Рядом проходят, пробегают, смеясь, студенты, но ему до них и дела нет, он на них не обращает никакого внимания, не видит никого и не слышит. Для него здесь все ново. Да, это точно его герой, та же подвижность, такая же заинтересованность, задумчивость, как будто вышел со страниц повестей писателя и шагает по коридору. Мне почему-то вдруг стало его жаль, первый раз здесь, зря, наверное, приехал, даже если со студентами найдет общий язык, поладит ли с преподавателями, руководителями кафедры, деканата, думал я. Если писатель не только внешностью похож на своего лирического героя, но и характером, тогда ой ли. Не лучше ли, если яркая звезда издалека будет светить? Невольно мне вспомнились слова главного редактора, выразившего сомнения в его преподавательских способностях, заметившего, что писательство и учительство – это совсем разные вещи...
О том, что пошел «на разведку» в университет, ответственному секретарю я не стал говорить. Только посмотреть на писателя – такое в отчет не входит. Кроме того, я знал, что человек, который требует докладывать о каждом шаге, за это мое самовольство не похвалит, а даже, наоборот, выразит недовольство и скажет: почему ушел, ничего не сказав, тебе же «главный» велел не уходить никуда без спроса, а вдруг здесь неожиданно понадобишься?
Начальник штаба редакции (так он себя называет) всегда мнит себя большой шишкой и постоянно во все вмешивается.
Выждав еще одну неделю, я снова отправился в университет, твердо решив наконец встретиться с писателем. Дождавшись, когда закончится очередная лекция (в тот раз узнал расписание), стал поджидать, когда он выйдет из аудитории. Вот прозвенел звонок, приглушенные голоса внутри смолкли, затем аудитория наполнилась шумом-гамом, послышался стук брошенных на стол портфелей, папок, ручек. Створки высоких дверей внезапно раскрылись в обе стороны, из них широкой лавиной, словно прорвавшая плотину вода, в коридор хлынул поток людей. Начало учебного года, и потому все бодры, веселы, полны сил и энергии, с ясными лицами. Дождавшись, когда выйдут все студенты, я вошел внутрь. Талгат-агай собирал свои бумаги в портфель.
– Здравствуйте!
Перестав возиться с бумагами, писатель повернулся ко мне.
– У вас вопрос?
Меня он принял за только что вышедшего с его лекции студента. В джинсовых брюках и в футболке я, видимо, и в самом деле похож был на студента. Я назвал свое имя и фамилию, журнал, где работаю, сказал, что хотел бы встретиться и поговорить, будет ли на это время, и если будет, то когда, объяснил, что мне поручено подготовить материал для нашего издания.
– Как вы сказали, называется журнал?
Я повторил.
Писатель скривил краешек губ в жалкой усмешке, во всяком случае, мне так показалось, убрал с меня свой взгляд и закрыл портфель. Лицо его посерьезнело, некоторое время он стоял молча.
– Не думал, что когда-то гора может прийти к Магомету, – вновь воцарилась пауза. – В разные годы я посылал в ваш журнал два рассказа и одну повесть. Однако они так и не были напечатаны. Ни ответа, ни привета, ни причины отказа, я и редактору писал – и на это не получил никакого ответа, – проговорил с какой-то грустью писатель и глубоко вздохнул. По его тону и выражению лица нетрудно было догадаться, что об организации материала не может быть и речи. – Раз до этого не было никакой необходимости, зачем сейчас, на старости лет? Мне лично это не нужно. Уже не нужно.
– Простите, я этих деталей не знаю. В редакции работаю всего лишь полтора месяца. А материал очень нужен. Для наших читателей. Когда-нибудь же башкирский читатель должен о вас узнать.
– Да-а-а, когда-нибудь – хорошо сказано. Однако кто хочет, тот может прочитать произведения на русском языке. Найдите то, что я вам присылал, и напечатайте.
– Не все читают на русском, много и таких, кто читает только по-башкирски. В республике большими тиражами выходит несколько газет, журналов, печатаются книги на башкирском, значит, читатели есть. А про те вещи, что вы послали в редакцию, спрошу, поищу.
Кажется, мои аргументы заставили писателя задуматься. Он присел на стул и посмотрел в окно.
– Кто у вас сейчас редактор?
Я назвал имя редактора.
– Давно работает. Как раз ему я и послал свои рассказы по почте. Не мог не получить. Если уж их в корзину выбросили, какой смыл готовить еще что-то? Мы подготовим, а он снова в корзину отправит. Что я ему плохого сделал, не понимаю. Московские журналы печатают, а свои – нет. Мне мои друзья говорят, тебя, мол, там на руках носят, не иначе. Как же, носят, как бы спину не надорвали. – Вновь надолго повисла пауза. – Ладно, как говорится, кто старое помянет… Конечно, если только что начал работать, лично твоей вины в этом нет. Раз такова политика редакции, что тут поделаешь. Только в ближайшее время аудиенцию не обещаю, слишком загружен. В совершенно не знакомую мне сферу угодил. Если смотреть по учебной программе, все произведения известны, прочитаны, но рассказать о них, оказывается, совсем другое дело. Нет методики преподавания. Да к тому же еще планы надо составлять, отчеты сдавать. Очень много бумажной работы. Днем здесь, а вечерами, ночами надо готовиться. Нынешний студент ушлый, не то что в наше время, почувствует твою мягкотелость, дашь слабину – пиши пропало. Ладно, оставь свой телефон, немного освобожусь, позвоню, – Талгат-агай взял в руки портфель. – Хуш!
Мы вышли из аудитории, он повернул налево и пошагал в сторону кафедры, я – направо, в сторону лестницы. Выйдя на улицу, я аж подпрыгнул от радости, будто сдал госэкзамен, – познакомился, связь установлена! Теперь остается только ждать от него звонка. А потом встреча, беседа, общение. Это уж как-нибудь одолеем.
Будто на крыльях, прилетел в редакцию, зашел к ответственному секретарю и «отчитался», что познакомился с Талгатом-агаем. Передал также слова писателя о том, что ранее он присылал в редакцию несколько своих вещей, а также его обиду на то, что их не напечатали, даже не ответили, получили их или нет. Ответсекретарь лишь пожал плечами и кивнул в сторону кабинета главного редактора, у него, мол, спроси, я-то откуда знаю.
Спустился в столовую, пообедал и начал обследовать шкаф – рыться в завалах, в многочисленных напечатанных и ненапечатанных рукописях, авторских экземплярах, письмах читателей и авторов, книгах, подшивках газет, журналов, в надежде отыскать те самые присланные когда-то в редакцию вещи Талгата-агая. Все это богатство находилось в кабинете ответственного секретаря. Через некоторое время он не выдержал: «Зря ты все это затеял, не найдешь ничего, столько лет прошло, наверняка уже выбросили либо в архив сдали, я и сам несколько раз тут рылся в поисках рукописей, ни разу не встретились». Но я продолжал свои поиски, несмотря на ворчания ответсекретаря. Надо ковать железо, пока оно горячо. Если работа не сделана, ее обычно снегом засыпает. К тому времени, когда позвонит Талгат-агай и назначит встречу, может быть, еще успею найти рукописи его рассказов и повесть. Вытаскиваю каждую папку, завернутые в газету бумаги, раскладываю их на столе, на подоконнике, каждую внимательно обследую, перебираю и снова кладу в шкаф. «Весь кабинет уже в пыли, дышать нечем», – недовольно проговорил ответственный секретарь и, прикрыв нос, будто вот-вот чихнет, вышел в коридор.
Методично перелопачивая горы бумаг, – о, чудо! – и в самом деле, нашел, наконец, то, что искал! Напечатанные на машинке, уже пожелтевшие, с загнутыми углами страницы. «Шамсутдин и Шамсура» – так назывался найденный рассказ. И все же чутье меня не подвело, мне казалось, что рукопись должна лежать именно здесь, в этом шкафу. К рукописи было прикреплено написанное от руки на отдельном листочке небольшое письмо: «...высылаю вам один свой опус. Может, подойдет для журнала. Если понравится – печатайте, если нет – бросайте в корзину. Жду сообщений. С приветом, Талгат Гайнуллин».
Радости моей не было предела. Я даже закричал и заплясал. Это был отправленный писателем в редакцию рассказ, написанный им от руки. Он ведь говорил, что по почте отправил, значит, все так и было, не обманул, и обида его вполне оправдана. Один рассказ нашелся, осталось найти еще один и повесть. Наверняка и они где-то здесь. Как-нибудь в другой день еще раз поищу, подумал я, решив пока завершить поиски, и начал засовывать папки снова в шкаф, раскладывая просмотренные в одну сторону, непросмотренные – в другую. Вернувшись в свою комнату, сразу же прочитал найденную рукопись. В самом деле, это оказался много лет назад написанный рассказ, не вошедший ни в одну из тех книг, что я нашел, купил и прочитал. Однако ничуть не устарел (да и как может устареть высокохудожественное произведение), все еще актуален и читается с большим интересом. Мало сказать, что рассказ понравился, это было для меня очередным потрясением. Долго сидел в таком состоянии, и вдруг в голову неожиданно пришла мысль: а что, если перевести его на башкирский? Язык же вроде неплохо знаю.
К чему душа лежит – к тому и руки приложатся. Две страницы рукописи из пятнадцати перевел тут же, на работе, остальные перелопатил дома, в общежитии, потратив на это три вечера и три ночи. Только сказать легко: «перелопатил» – пришлось изрядно потрудиться, поломать голову. Оказывается, читать – одно, а переводить – совсем другое. Мне впервые пришлось заниматься таким делом.
Набрал текст на машинке, и как-то утром, придя на работу, положил на стол перед заведующим отделом. Сабур-агай уставился на набранную рукопись, потом перевел вопрошающий взгляд на меня. Но ничего сразу не говорит, ждет от меня ответа.
– Найденный в тот раз рассказ Талгата-агая, – ответил я после затянувшейся паузы. – Перевод.
– Чей перевод?
– Мой.
Снова повисла пауза.
Видимо, не веря до конца моим словам, что это мой перевод, зачем-то повертел листки и взглянул на последнюю страницу рукописи.
– Совсем и небольшой, оказывается. Значит, предлагаешь, чтобы прочитал? Если после работы сыграешь со мной партию в шахматы, сразу же начну читать.
– А что откладывать, можно прямо сейчас и сыграть.
– Прямо сейчас нельзя, после работы. В спокойной обстановке, не спеша. Шахматы – это игра для таких, как мы с тобой, умных людей, интеллектуалов. Это даже не игра, а искусство, называя шахматы игрой, только принижают их достоинство. Игра вон там, на стадионе, во дворце спорта, а здесь нужна работа ума. Ты старайся, наряду с журналом, и шахматами заниматься. Фигуры двигать умеешь, а вот теоретическая подготовка хромает и практики нет. Надо почаще играть. Если со мной каждый день будешь сражаться на доске, обязательно научишься.
Сабур-агай в свое время окончил наш университет, отслужил в армии, несколько лет поработал в газете и вот уже много лет возглавляет в журнале отдел прозы. Семейный, воспитывающий двух дочек, издавший уже два сборника рассказов писатель. Наряду с заведованием отделом, забыв про все на свете, играет и в шахматы. Обыграв всех наших, зовет мужиков из соседних редакций. Едва ли не ежедневно в обеденный перерыв комната начинает наполняться стуком фигур о доску, раздаются громкие голоса, довольный смех, шутки-прибаутки, подковырки, споры и несогласия с соперником. Сабура-агая и у нас, и в других редакциях называют не иначе как «шахматист», либо «гроссмейстер», последним чаще всего он сам себя называет.
Быстро прочитав перевод, Сабур-агай с большим удовлетворением произнес свое любимое слово – «бара», то бишь – пойдет. Положил рукопись передо мной, достал со шкафа шахматную доску и, несмотря на то, что рабочий день еще не закончился, распорядился: давай расставляй.
Мастерства ему не занимать, что есть, то есть. Каждому своему ходу он дает комментарий: «Смотри, такого хода ты ни у кого не увидишь, запоминай, можешь даже записывать, не помешает, такой ход есть только в арсенале Каспарова и у меня. Почти уже договорились было с Гарри о встрече, так и не пришлось сразиться, бросил шахматы, дурак, и в политику ударился, а теперь вон, говорят, неизвестно где, по заграницам ошивается. Был один человек, мне равный, а теперь и его нет», – то ли всерьез, то ли в шутку рассуждает Сабур-агай, склонившись над доской.
Одним словом, выиграл у меня Сабур-агай. Одной партией он никогда не довольствуется, сыграли и вторую, и за третьей пришлось посидеть. В первой партии он поставил мат мне самому, во второй – моей девушке, с которой я недавно начал дружить, а в третьей – тому самому рассказу Талгата-агая, который отыскался в архивах. Эти проигрыши для меня не были важны, мне важно было, чтобы он сегодня прочитал перевод рассказа.
На следующее утро придя в редакцию пораньше, я внес в рукопись перевода все правки редактуры Сабура-агая и зашел к ответственному секретарю.
– Что это?
– Рассказ Талгата Гайнуллина, который я в тот день нашел в вашем шкафу.
– Он же на башкирском. Кто перевел?
– Я сам и перевел.
Ответсекретарь переводил свой взгляд то на лежащую на столе рукопись, то на меня. На его лице читалось выражение и неверия, и удивления, и даже некоторого раздражения, злости, что ли. Сейчас скажет: «Кто тебе поручил переводить?», ждал я его вопроса.
– «Шахматист» читал?
– Читал.
– Его мнение?
– Положительное, сказал, что прекрасный рассказ.
– А главный знает?
– Нет.
– Подумал, может, он поручил. Быстро ты управился, – он пересчитал страницы. – Да и небольшой, оказывается. Вот только одобрит ли главный это твое самовольство?
– Разве я совершил что-то недозволенное? На редколлегии же как раз говорили о том, что к его юбилею надо что-то дать. Если не получится взять интервью, можно будет просто напечатать этот рассказ.
– Хороший хоть?
– Замечательный. Для журнала только славы прибавит.
– Ты обо всех его произведениях так восторженно отзываешься: замечательный!
– Если это так на самом деле, по-другому же не скажешь.
– Аб-ба, как заговорил, а! Главный – человек настроения. Если вожжа под хвост попадет, он и в произведении Нобелевского лауреата найдет кривизну. Оценку любого художественного произведения все равно определяет субъективное мнение. Нет абсолютного критерия. Оценил, какую мысль я выдал? Можешь использовать в своей диссертации, разрешаю. Главный в первую очередь думает не столько о художественных достоинствах произведения, сколько о политической составляющей. Как бы чего не вышло. Не зря же человек из обкома пришел сюда. Может, по этой причине и убрал в тот раз подальше этот рассказ, кто его знает. Разговор этот пусть останется только между нами. А если спросит, откуда взял, кто велел перевести, что ответишь?
– Скажу как есть, что в таком-то году присланный в редакцию его рассказ, нашел в вашем шкафу.
– Не вздумай сказать, что он в свое время завернул его, раз в моем шкафу нашел, во всем меня будет винить. Впрочем, уже забыл, наверное. Память у него – решето, дуршлаг. Если Гайнуллин послал лично ему, такие письма он сам получает, сам вскрывает конверт, сам читает и после этого распределяет по отделам.
Я промолчал, ничего не ответил, поскольку в идущие внутри редакции политические игры я не играю. Думаю, тогда главный редактор даже не стал читать рассказ, сунул его ответсекретарю, на, мол, ознакомься, потом скажешь свое мнение, а этот, так же, не читая, а может, и прочитав, отложил, и все. А после, перемешавшись вместе с лежащими у него на столе другими бумагами, рукописями, корректурой попал в шкаф. Хорошо еще, что в архив не передан.
– Прочитайте и потом давайте решим. Пусть и редактор ознакомится. Талгат-агай здесь, если напечатаем, он останется доволен, тогда и интервью брать будет легче.
Ответственный секретарь ничего не ответил. Видно было, что моя настойчивость ему не понравилась.
Тем не менее утром он пригласил меня к себе и сообщил, что дома прочитал и рассказ, и перевод, и оба они, как ни странно, ему понравились, но все же перевод, мол, основательно причесал, то есть отредактировал. Останавливаясь на каждой ошибке конкретно, тыча то ручкой, то карандашом в то место, где был поставлен вопрос в процессе его чтения (при этом я все время поддакивал, мол, да, понятно), а потом, стирая резинкой-ластиком этот самый вопрос, вдалбливая мне, как третьекласснику, по нескольку раз объясняя мои недочеты, – вот так продержал он меня в своем кабинете почти полтора часа. Когда я внес все его правки, он велел мне еще раз сверить текст перевода с русским вариантом. Великое блаженство, большое удовлетворение испытывал «начальник штаба редакции», проводя такие вот уроки ликбеза. Для меня этот ликбез был уже не первый. По правде говоря, в таких уроках есть и своя польза – после них начинаешь более внимательно относиться к рукописи. Но самое радостное – это одобрение, принятие рассказа. Если ответственный секретарь одобрил – значит есть надежда, что включат в номер. Главный редактор считается с его мнением.
С Талгатом-агаем в университете мы познакомились во вторник, а обещанную встречу, позвонив мне по телефону, он назначил в пятницу той же недели. Назвал свой адрес, номер общежития, комнаты, сказал, чтобы я пришел, как закончу дела в редакции, ближе к вечеру. Давно уже ждущий этого звонка, голодный пират – ас пират, я с радостью полетел к нему.
Талгат-агай открыл дверь и, извиняясь за отсутствие особых удобств, как будто в этом виноват был он, пригласил пройти в комнату. Одет в свободно сидящую на нем клетчатую рубашку, широкие шаровары. Совсем уже не тот игрушечный агай, которого я встретил в университете, на вид обычный пожилой человек. Увидев такую разительную перемену, мне снова стало как-то не по себе. Комната оказалась не такой уж маленькой, по крайней мере, больше, чем обычная студенческая. Есть и вода, и газовая плита, телевизор, кровать, диван, рабочий и обеденный столы. Прожив в университетском общежитии во время учебы пять лет, я ни разу не бывал в комнатах преподавателей, вот теперь увидел. Поздоровались рукопожатиями. Пока я осваивался в комнате, хозяин успел вскипятить чайник, накрыл стол, поставил туда же купленные мной по дороге гостинцы.
– Если бы в Москву приехал, условия, конечно, были бы совсем другие, к тому же и без хозяйки, – все пытался оправдаться Талгат-агай.
– Ничего страшного. Я и сам пять лет в общежитии прожил и сейчас там жизнь коротаю. Знакомые условия.
– Что, прямо вот в этом общежитии?
– Нет, в общежитии издательства. Аспирантам университет жилье не предоставляет. Поэтому пришлось отсюда выселиться и выхлопотать комнату в издательском общежитии.
Сели за стол. Писатель поделился университетскими новостями, впечатлениями от первых дней пребывания здесь, первыми уроками, затем разговор зашел о делах в редакции, о работающих там сотрудниках, писателях. Оказалось, что многих из наших Талгат-агай не знает.
– А чего это журнал вдруг так резко заинтересовался моей персоной? Причина в том, что я приехал сюда преподавать или приближающаяся моя круглая дата? – на лице писателя отразилась ирония.
– В основном причина, конечно, в этом. В редакции есть традиция отмечать юбилеи членов Союза писателей. Ваш приезд как раз совпал с такой датой. Это внешняя сторона, то, что видно, на поверхности, главная же причина – башкирский читатель наконец-то должен узнать о существовании такого большого, известного своего писателя. Все сходится, чтобы начать такую работу. Я попробовал перевести рассказ «Шамсутдин и Шамсура».
– Разве? Здорово! По правде говоря, я уже потерял всякую надежду «вернуться» в Башкортостан, думал, что такой день никогда не настанет. Извини, конечно, не хочу тебя обижать, но поскольку ты недавно только начал работать в журнале, то, видимо, занимаешь в редакции самую маленькую должность, поэтому не думаю, что в ближайшее время может что-то измениться. Так что, либо сам, либо зам в момент могут свести наши труды на нет. А причину всегда можно найти – «неформат», мнение этого товарища не совпадает с идейно-эстетическими, идеологическими требованиями издания! Вот и все, и попробуй докажи потом, что ты не крокодил. Если сам не соизволил прийти, мог ведь прислать своего зама или ответственного секретаря, они же давно работают, должны меня знать, или что-то слышать обо мне. Я ведь цену себе знаю, какое-то время в известных писателях ходил. Это шутка, – от души рассмеялся Талгат-агай.
Хотя и сказал: «шутка», но в словах его была и правда, и чувство собственного достоинства. Да, не так-то прост оказался агай. А на то, что он назвал меня человеком самой маленькой в редакции должности, я не обиделся. Это в самом деле так и есть. Конечно, мог бы главный редактор прислать ответственного секретаря или своего заместителя, но не послал, не посчитал нужным, тем самым принизил его значение, подумал, что сойдет для него и старший литературный сотрудник. Я кивнул головой в знак согласия, потом пожал плечами, мол, не знаю, не могу на это ничего сказать. Писатель задал вопрос, которого я больше всего опасался. На него у меня не было ответа.
– Ладно, не будем толочь воду в ступе. Сами еще, может быть, что-нибудь сочиним. Вообще, если подумать, башкирский читатель ничего не потеряет от того, что не узнает меня, до этого читали ваших писателей и дальше будут читать. Потеря небольшая. В океане книг отсутствие одной капли и не чувствуется. С вашим редактором мы встречались раньше, и в Москве на съезде, и здесь в мои приезды сюда. При каждой встрече клятвенно заверял меня, мол, обязательно дадим, присылай. Я посылаю, а от него ни звонка, ни письма, ни напечатанного рассказа. Видимо, не нравится ему. Или же доносят до него что-то нехорошее про меня. Бог ему судья, – Талгат-агай надолго замолчал. Поставил заново чайник. – А ты сам что-нибудь из моих вещей читал?
– Читал, – ответил я и стал перечислять названия прочитанных повестей и рассказов.
– О, солидный список, нормально! – лицо писателя просветлело. – Значит, разговор получится. А то бывает так, что приходят брать интервью, а сами из моего ничего не читали, в итоге морочат голову общими словами. В прошлом году, когда приезжал в родную деревню, прибыла из республиканской газеты девчонка-журналистка. Ну стрекочет, ну заливает, вместо того, чтобы мне говорить, она сама без умолку тараторит. Слишком бойкая. Надергала оттуда, отсюда кучу общих слов. Хоть бы правильно произнесла названия повестей, рассказов! В глаза смотрит и всякую ахинею несет. Литература – вещь конкретная. Хотя бы один конкретный вопрос о конкретном произведении, так нет же. Я попытался повернуть разговор в это русло, ничего не смогла сказать. Только после этого понял, что не читала она ничего из моего. – Талгат-агай снова рассмеялся заразительно. – Скажи, какое тебе задание дали? Давай-ка и мы конкретизируем разговор.
– Жанр сами выберете: интервью, статья, очерк. Специальных указаний, что должен быть тот или иной жанр, не было.
– Для тебя самое подходящее – интервью. То есть ты спрашиваешь, я отвечаю. Относительно легкая работа. Если статья или очерк, то надо рассказывать о жизненном и творческом пути, о произведениях, сначала прочитать их, проанализировать, мысли какие-то высказывать. Работы прибавляется. А на это ни у тебя, ни у меня времени нет. – Талгат-агай некоторое время сидел молча. – Как бы ни составлял материал, все равно без разговора не обойтись, но выкладывать все от рождения до сегодняшних дней, думаю, нет необходимости. Хотелось бы, чтобы разговор больше касался литературы, творчества.
Чай обновили. Талгат-агай сварил гречневую кашу. И ее умяли с маслом.
– Одному тяжеловато приходится со стряпней, с бытовыми вопросами. Готовить я и дома не ленился, но там все-таки жена рядом, подскажет, поможет, если что не так. А тут один, поправить, совет дать некому.
– Как же вы согласились приехать сюда? Супругу не привезете?
– Не знаю, неожиданно как-то все получилось. Тут в деканате работает один товарищ, можно сказать, друг детства, он давно настойчиво приглашал. Я два года тянул, а в этом году он меня уговорил. Тебя, мол, наши здесь знают, читают и почитают как известного писателя – мягко стелил соломку, как говорится. С начальством, говорит, договорился, нашим тупоголовым дашь урок со своей высоты. С другой стороны, хотя бы на какое-то время захотелось быть рядом с родными краями. В здешнем государственном архиве еще посидеть надо. Задумал одну историческую вещь, которая касается родной деревни. Что это будет, роман или повесть, пока еще не решил. Хотел собрать некоторый материал. А жена, пожалуй, не приедет. Она работает, сын студент, в авиационном институте учится. Да и сам не знаю, сколько здесь продержусь…
– Откуда вы родом, из каких земель-корней?
– Повествование начну со слов отца, поскольку лично для меня это очень важный факт. Его слова научили меня не сгибаться, не ломаться, быть целеустремленным. Простой деревенский мужик, тем не менее он был философом. Старателем мыл золото, очень рано, всего лишь в сорок четыре года умер. Поглаживая меня по голове грубой, шершавой ладонью своей руки, он, бывало, говорил: «Ты, улым, не будешь заниматься тяжелой работой, я тебя посажу на чугунку, то есть на поезд, и отправлю учиться в город, там и будешь жить». Видно, изрядно достала его тяжелая физическая работа, не хотел, чтобы и я мучился, как он. Эти его слова всегда звучат в моих ушах. Когда он умер, мне было всего девять лет. В таком возрасте мальчишкам очень нужен отец. Я и сейчас помню, как привезли из больницы его тело. Не только стресс, но это и психологический удар в таком возрасте увидеть труп своего отца. Если бы каким-то чудом был сейчас жив, как бы он радовался тому, что мечта его сбылась – по чугунке уехал в город, институт окончил, работал, книги мои изданы. Душа у отца была мягкая, сердце доброе и теплое. Короче, ответ на твой вопрос такой: из родной земли я, из заветов отца.
– Как вы считаете, когда началось ваше творчество? Помните свое первое написанное произведение?
– Помню. Это было нечто в стиле соцреализма. Сюжет таков: в деревню из Москвы приезжает на уборку урожая парень, влюбляется в девушку, бригадиршу, и уговаривает уехать с ним в Москву. Но девушка отказывается от этого предложения, она, видите ли, не хочет бросать свою бригаду. То есть работа в колхозе сильнее любви. В жизни так не бывает, в жизни как раз наоборот, если бы возникла такая ситуация, девушка, не задумываясь, поехала бы в город вслед за парнем. А первым серьезным произведением, по крайней мере, я так считаю, была повесть под названием «Аю-таш». Здесь я избавился от каких-то штампов, понял, что нужно писать о человеке, о человеческих чувствах, о внутренних переживаниях. Эта повесть помогла мне поступить в Литературный институт – именно ее я предложил на творческий конкурс, впоследствии она вошла в мою первую книгу, а через шесть лет дала название и моему сборнику.
С этой книгой связаны и грустные моменты жизни. Тоненькая книжка. В первом варианте она вошла в тематический план объемом в десять печатных листов, в твердой обложке. Этот темплан я видел собственными глазами, только там почему-то было написано – перевод с башкирского. Как это перевод, я же на русском пишу, подумал я еще тогда. Но спорить не стал: да ладно, бог с ним, лишь бы издали. Прошла зима. В марте позвонили из издательства. Как раз я болел сильно. Жена едва ли не на себе дотащила. Когда зашли в издательство, сотрудник по фамилии Имбовец первым делом спросил: у вас что, в Башкирии враги есть? Позже я узнал, он, оказывается, заведующий отделом. Я в недоумении. Какие враги? Этого не может быть. Нет, говорю. Потом Имбовец объяснил, в чем дело. Оказывается, из Уфы, из Союза писателей Башкортостана пришло письмо. У нас такого писателя нет, самозванец, поэтому Союз против издания его книги, было написано там. Выходит, темплан они видели, в аннотации прочитали, что перевод с башкирского, и подумали, что я пишу на башкирском. Получается, раз моя книга издается в отделе национальной литературы, значит, занимаю законное место какого-то другого известного башкирского писателя. Однако книга в темплан вошла, часть гонорара уже выплачена, и не издать ее никак не могут. В итоге сборник основательно сократили, многие произведения убрали, оставили как раз в таком объеме, на сколько выплачено гонорара, то есть на пять печатных листов, и в таком виде издали. Вот такую подлость сделала мне моя республика. Понятно, не республика, конечно, один человек или несколько человек. Это тоже моя земля, моя страна, и эти люди тоже мои, какие есть. Если бы не этот донос, возможно, судьба сложилась бы иначе, и книга была бы издана в полном объеме, и в литературу пораньше бы вошел, и другим книгам дорога бы открылась.
Вообще, я не понимаю, зачем люди делают друг другу подлости. Мир широк и огромен, всем места хватит, пусть и мои книги выходят, и его тоже. От этого же читатель, литература только выиграют. Впрочем, ладно, не ворчу и не ропщу, как говорится, было и быльем поросло. Ну, а сам-то, сам-то как, аспирант, кто, откуда, после защиты здесь думаешь работать?
– Пока трудно сказать, поработаю пока, а там, после защиты, видно будет.
– Тема уже есть?
– Тема войны в современной башкирской прозе.
– Это же очень большая тема. Сколько прочитать надо. А есть ли она, современная башкирская проза?
– Есть.
– Шутка. Есть, конечно же. Пусть будет и не скромно, но скажу – возьми мои вещи. Тем более что многие уже прочитал. К примеру, те, что о войне. «В произведениях Талгата Гайнуллина...» – остальное сам дофантазируешь. Военная тема всегда актуальна. В МГУ, в педагогическом институте ежегодно несколько человек пишут дипломные работы по моим произведениям. Есть и такие, кто диссертацию защищает.
– Я тоже об этом думаю, если разрешите.
– А почему не разрешить? Это же в мою пользу. Будешь на родине первым исследователем моего творчества. Пусть меня тут и не знают, но там-то я очень популярен, – Талгат-агай, довольный, рассмеялся. – Шутка.
Свое желание взять его произведения выразил, а вот о том, что против изменения темы диссертации выступает мой научный руководитель, все никак не решался сказать. Однако после долгих колебаний и сомнений все же решился.
– Только почему-то мой руководитель не согласен.
– С чем не согласен, с изменением темы или с тем, чтобы взял мои произведения?
– С изменением.
Талгат-агай задумался, лицо его посерьезнело.
– Скорее всего, чтобы взял мои произведения. Значит, отвергание меня может задеть и тебя.
– Он опасается, что не успею, не найду необходимых материалов.
– Почему это ты не успеешь? Аспирантура только начинается. У тебя еще целых три года впереди. А материалы я тебе сам помогу найти. И потом, не на острове ведь живете, центральные газеты, журналы выписываете. Это он так говорит, потому что моих вещей не читал. Ладно, сам поговорю. Если не глупый, твоему желанию не должен противиться.
– Не нужно, как-нибудь сам все улажу. Иначе подумает, будто жалуюсь.
Талгат-агай ничего не ответил. Похоже, согласился со мной.
Вот так довольно долго за разговорами просидели мы с ним. Вопросов у меня было много, ответы записывал в блокнот. И сам он много спрашивал. Ударился в воспоминания, много чего вспомнил. О своих родных брате и сестре – Рифкате и Аклиме, своем сыне, друзьях-писателях, событиях войны, о годах учебы в Литературном институте – география была очень широкой. Затронули в разговоре и дела-порядки в университете, не обошли стороной и тему религии – к слову, оказалось, он очень хорошо знает историю всех религий, ареал их распространения, углубились также в сферу русской, мировой литературы, культуры, изобразительного искусства, музыки, политики. В каждой из этих сфер он показал свою осведомленность, наличие глубоких знаний, на все имел свое мнение, доводы и аргументы. От него я узнал много такого, чего никогда не слышал от своих учителей, и… к своему стыду осознал, как мелко я плаваю. К примеру, он назвал несколько произведений из русской, зарубежной литературы и спросил, читал ли я их, а когда я, краснея и бледнея, ответил, что нет, он больше подобных вопросов не задавал. Видимо, не захотел и дальше вгонять меня в краску. А потом начал читать наизусть стихи «Белая береза под моим окном…». Дочитав, спросил:
– Кто?
– Есенин.
– Есенин. Стихотворение «Береза». Какая картина, ритм, музыка. Удивительное стихотворение. Такого поэта в русской литературе, пожалуй, больше и нет.
Было уже далеко за полночь, и он предложил мне остаться у него ночевать, все равно, мол, и у тебя общежитие, и здесь общежитие, какая тебе разница, но я не остался – хотя и было поздно, решил идти домой. С одной стороны, не хотелось доставлять неудобства пожилому человеку, а с другой – нужно было осмыслить все услышанное, уместить в голове, зафиксировать в своей тетради, и пока не забыл, записать фамилии авторов, произведения, которые писатель назвал и рекомендовал прочитать. А перевод свой я оставил. Забирая рукопись, он признался, что по-башкирски читает медленно, очень сожалел, что недостаточно хорошо знает язык.
* * *
Мне все никак не давал покоя последний разговор с Рабитом Нуровичем, его несогласие поменять тему моей диссертации. По мне, так в созыве совета факультета вроде нет особых трудностей: назначить день проведения, затем раздать всем членам совета приглашения либо по телефону обзвонить. В день проведения, с утра, еще раз напомнить. Все сидим в одном здании, да и кабинеты, можно сказать, рядом. Причина здесь, скорее всего, в другом – мой научный руководитель не хочет брать на себе лишние хлопоты. Дело не в том, чтобы людей собрать, и даже не в трудности разъяснить необходимость смены темы, а вся загвоздка, как метко заметил Талгат-агай, – в нежелании читать его произведения. Для того чтобы их читать, нужно время, а его нет. Лекции, научный совет, заседания, отчеты, другие текущие заботы на кафедре... И потом, недостаточно того, чтобы просто прочитать произведение, нужно еще написать какую-то шпаргалку для того, чтобы объяснить необходимость смены темы, я уже не говорю о том, что придется подготовить официальную рецензию, когда я выйду на защиту. А по дипломам, диссертациям наших, своих писателей эти рецензии давно уже написаны, выучены наизусть, достаточно лишь посмотреть на тему, на содержание, и можно без проблем вести разговор в этом направлении…
Возможно, я и ошибаюсь, может, он искренне хочет предостеречь меня от неудачи в написания диссертации. Совершенно никому неизвестный автор, что он может найти написанного о его творчестве, на кого опереться? Если и есть оценки, критические статьи, то они только в московских изданиях, сюда не доходят, если даже попадет несколько экземпляров, где он их найдет, – так, может быть, думает мой научный руководитель. И в какой-то степени он прав. Только в какой-то степени, потому что если очень захотеть, если приложить максимум усилий и упорства, то все можно найти. Кто ищет, тот всегда найдет. А потом, руководитель меня плохо знает – я упорный и упертый, уж если какую цель перед собой поставил, в лепешку расшибусь, а своего добьюсь.
Одна голова – хорошо, а две – лучше. Подумав так, я решил посоветоваться по поводу этой щепетильной ситуации с Буранбаем. Он уже был в курсе моего увлечения творчеством Талгата Гайнуллина, моих восторженных отзывов об этой прозе и его произведениях. Едва ли не при каждой встрече я с увлечением рассказываю ему об очередной прочитанной повести или рассказе писателя. Поэтому, когда поделился с ним своим переживаниями по поводу несогласия Рабита Нуровича поменять тему диссертации, Буранбай несколько удивился. Чего же он боится, времени-то ведь совсем мало прошло, его еще навалом, не в последний год аспирантуры же задумал менять тему, успеешь, обязательно успеешь, утешал меня мой приятель.
– И я ему говорил, чтобы не беспокоился на этот счет, что успею. Он опасается, что совет факультета не пропустит. Говорит, что очень хлопотно, каждому надо будет мотивированно, аргументированно объяснять, доказывать, почему измененная тема предпочтительнее ранее заявленной, к тому же совершенно неизвестный нам автор. Коней на переправе не меняют якобы.
– Вы же еще не на переправе. А сам-то он что-нибудь из вещей Гайнуллина читал?
– Не читал.
– Откуда знаешь?
– Спрашивал.
– Вот в этом-то и вся беда, – засверкал глазами Буранбай. – Он не знает всю высоту этого творчества, если удастся изменить тему, ему придется засесть за чтение его произведений. Принеси и отдай ему одну из книг Гайнуллина.
– Все верно. Потому и против.
– Давай ты к нему еще раз зайди. Доказывай, проси, умоляй, скажи, что это твоя тема. На заседании совета сам присутствуй. Приходи подготовленным. Думаю, согласится. Он человек понятливый. Если уж оставил тебя в аспирантуре, сам чувствует ответственность. И мне бы тоже дал какой-нибудь сборник. Сколько уже говоришь о нем, а я его до сих пор не читал. Стыдно перед тобой.
Нельзя было находиться в долгой неопределенности. И зачем только я ляпнул Талгату-агаю, что хотел бы взять темой его творчество, если разрешит. Теперь он при каждой встрече будет спрашивать об этом. Дернул же меня черт за язык. Надо было подождать, пока вопрос не решится. А если сам спросит, отвечу, что есть намерение, да вот только научный руководитель против, так, что ли? Мальчишество. Это не серьезный разговор, рассмеется в лицо либо, еще хуже, скажет, давай сам поговорю с профессором. Этого только не хватало. И вот, собрав в кулак всю решительность, в один из дней я направился в университет.
Дождался, когда останется в кабинете один, и постучал в дверь.
– Рабит Нурович, я все время думаю о том нашем последнем разговоре, – начал я с порога. – Все же, хотел бы поменять тему диссертации. К прежней никак душа не лежит. Уж больно общая. А к этой приступил с удовольствием, большим интересом и желанием. Прочел все повести и рассказы Гайнуллина, посвященные войне. Все мысли записываю, собрал уже довольно много рецензий, статей, откликов, касающихся его творчества, собираю и опубликованные в течение года в центральных журналах обзоры, статьи о его произведениях. – Я боялся, что профессор остановит меня, и если остановит, то собьюсь с мысли, поэтому спешил, тараторил и тараторил. – Пока автор здесь, не упускаю случая расспросить о его произведениях, готовлю в журнал интервью с ним – в следующем году у него юбилей, шестьдесят лет исполняется. Я, я...
– Подожди, передохни, – улыбнулся руководитель. Некоторое время сидел молча, уставив взгляд в лежащие перед ним бумаги, потер подбородок. – В очень трудное положение ставишь ты меня, в очень трудное. – Вздохнул, еще какое-то время посидел молча. – В том, что сможешь написать, не сомневаюсь, сил и способностей у тебя на это хватит, и успеешь, время еще есть, одно только меня смущает, все та же проблема совета, сможем ли убедить его членов? Там ведь тоже разные люди, к каждому подход нужен. Принеси-ка какую-нибудь из его книг, ознакомлюсь, чтобы держать речь, надо же знать предмет.
Предвидя, что разговор вдруг может пойти в этом направлении, я положил в портфель перед походом в университет несколько книг Талгата-агая, поэтому тут же вытащил одну из них, под названием «Вот кончится война», и протянул ее профессору.
– Здесь четыре повести, три рассказа. Все повести на тему войны. Я беру для исследования в основном повести, поэтому читайте только их, а рассказы можно и не читать.
– Хорошо. Вернемся к разговору, когда прочту. Придется тогда и познакомиться с земляком, тем более что на соседней кафедре. Вижу его иногда.
Такое завершение разговора для меня было большой победой. Знаю, профессор всегда держит слово, авторитетный заведующий кафедрой, известный ученый. Не сомневаюсь и в том, что к его мнению обязательно прислушаются. И прочитает, и членов совета в необходимости смены темы убедит.
6
В повести «Туннель» описываемые события происходят летом 1949-го. Со дня окончания войны прошло четыре года. В стране установились мир, спокойствие, тишина, на земле – рай, но на душе у вчерашних бойцов, участников войны до сих пор неспокойно. У склона горы Аибга на строительстве ГЭС рядом с советскими людьми – вчерашними фронтовиками – работают вчерашние фашисты – пленные немцы. При виде их довольных, сытых лиц, серо-зеленых кителей, хорошо пошитых, на толстой подошве ботинок наших людей начинает мучить не вымещенное зло, они не могут смириться с тем, что на немцах надето военное обмундирование. Главный герой повести Павел Клешнин, вчерашний солдат, теперь проходчик, видит идущих строем на стройку немецких солдат, мысленно направляет на этот строй автомат и длинной очередью расстреливает их на мосту… Это желание повторяется каждый раз, когда их ведут на смену. Если бы ему вручили в руки автомат, он бы, не задумываясь, сделал это. Большинство из тех, кто завербовался на эту стройку, работает в таких вот фронтовых условиях. И в самом деле, забой очень напоминает переднюю линию фронта: взрывы, стук больших отбойных молотков-перфораторов, будто стрекотание пулемета, шум и гам на стройке.
Многих оставшихся в живых война лишила самого дорогого: кто-то потерял семью, кто-то перенес муки плена, у работающих на стройке девушек и женщин война забрала женихов, мужей. Кто-то так и не дождался своей любви, был лишен возможности любить – Павел Клешнин до сих пор мучается, не может забыть того, как его любимую девушку Ольгу немцы изнасиловали и зверски убили…
Люди не могут понять не только друг друга, но и себя, к тому же эти военнопленные, фрицы, с которыми как будто только вчера сражались, ходят тут, совсем рядом. Как можно спокойно жить в таком окружении?
В повести тогдашняя повседневность показана очень жестко, иногда даже жестоко. Для многих, в том числе и для Павла Клешнина, война все еще продолжается, по многим причинам им возвращаться в мирную жизнь очень трудно, а то и невозможно.
Ненавидящие друг друга люди устали и физически, и душевно. Измученные войной юные души стремятся к новой жизни, к радости и веселью, к новым отношениям. В этом стремлении чувствуется необходимость хорошего, светлого, искреннего и душевного, чистого и сердечного, особенно по отношению к женщине.
Сооружаемый у подножья горы Аибга туннель необходим, чтобы по нему пошла вода для запуска гидрогенератора турбин будущей ГЭС. Если при помощи воды турбины начнут крутиться, значит, будет и электричество. Кроме своей реальной необходимости, туннель в произведении воспринимается и как некий символ: он нужен для того, чтобы смыть существующее между людьми противостояние, непонимание, вражду и вывести их к свету, чтобы побороть противостояние между людьми и вывести их к дружбе. Туннель в повести – это метафора движения людей друг к другу, тяжелое, но движение не без аварий и завалов. Чтобы понять друг друга, это движение должно быть обязательно, без этого сближение невозможно.
Первый шаг – самый трудный. Этот шаг Клешнин делает неожиданно для себя: Руди, один из пленных немцев, чем-то занят на рельсовых путях туннеля, не видит и не слышит, как на него надвигается груженная горной породой вагонетка. Стоящего спиной немца вагонетка вот-вот собьет с ног. Клешнин видит стремительно приближающуюся к немцу вагонетку, он подбегает к нему и успевает оттолкнуть с путей в сторону. Руди избегает смерти. А ведь Клешнин мог сделать вид, что ничего не заметил, и никто бы его не обвинил в этом, таким образом он отомстил бы немцу за смерть своей Оли и многих своих товарищей. И тем не менее спасает, и это, мне кажется, как раз и есть первый шаг снедаемого жаждой мести человека к сближению с недавними врагами, по крайней мере, попытка понять их.
Другой решающий эпизод уже в финале повести: момент, когда хулиганы избивают Клешнина до полусмерти и он повисает на парапете моста, готовый вот-вот свалиться в обрыв. Возвращающиеся со второй смены пленные немцы замечают его и доставляют на автобазу. А оттуда его перевозят в больницу. В больницу приходит следователь и задает Клешнину такой вопрос:
«У нас есть сведения, что вас избили военнопленные немцы. Избили, раздели и оставили в проходной автобазы. Это видела вахтерша Богачко. И слышала, как вы кричала: «Гады, фашисты!» И еще одно сведение: незадолго до этого вы избили в туннеле военнопленного Альтмана. (В самом деле, оттолкнув в сторону Руди Альтмана и избавив его таким образом от наезда груженной породой вагонетки, Клешнин в сердцах слегка побил его за ротозейство на рельсовых путях. – А. А). Вы не допускаете, что они могли мстить вам? И еще: шинель вашу нашли в реке возле лагеря военнопленных...»
И тут Клешнин понял, что держит в руках судьбу этих Руди, Шульца, Макса, Фрица – всех, кто шел тогда с работы после вечерней смены. Стоит только сказать: «Да, избили немцы!» – и фрицы загремят под трибунал, тем более что и свидетель найдется. Однако Клешнин, ни минуты не сомневаясь и не раздумывая, снимает с немцев подозрение: «Били и раздели меня эти трое, Костя, Володя и мордатый. Шинель – это они бросили в реку. Я ведь лежал на парапете, хотел броситься в реку. Немцы, если бы хотели мне отомстить, попросту столкнули бы с обрыва. А они принесли на автобазу. Если бы избили, разве принесли бы?» В этом случае его нежелание обманывать, слова правды – это и есть финал: а ведь до этого сколько он мучился ненавистью к этим пленным немцам, не мог спокойно смотреть на их хорошо сшитые мундиры, крепкие ботинки на толстой подошве, на их сытые лица, дошел до того, что готов был, случись у него в руках автомат, положить их очередью на том мосту. Значит, очистился, дошел до понимания того, что вины простых солдат в прошедшей войне нет, то есть испытал духовный катарсис, освежившись, вышел из темной стороны жизни на светлую. «Мир за окном был белым и чистым» – так кончается произведение. Это намек на то, что всеми фибрами ранее ненавидевший людей другой нации, а теперь начавший понимать их внутренний мир Павел Клешнин духовно очистился, родился заново.
Мастерство писателя здесь в том, что своего героя он последовательно, через различные противостояния, противоречия проводит от принятия немца в качестве своего врага до полного его понимания. При этом все это он делает не на словах, а долго и последовательно ведя через различные эпизоды, события.
«“Туннель” написан зрелым прозаиком, владеющим искусством живописать словом. Все здесь зримо, много зорко подмеченных, поистине “говорящих” деталей… Я высоко оцениваю повесть. Признаться, мне вообще симпатично творчество этого писателя. Чуждый какого бы ни было тщеславия, скромный и талантливый человек, он отдает всего себя творческому труду. И создает книгу за книгой, покоряя еще вчера недоступные вершины...» (Олег Смирнов. «Литературная газета». После победы. 20 апреля 1988 г.).
Другой критик, Шамиль Умеров, в своей статье «Летом 1949-го...» («Литературная Россия») так пишет об этой повести: «Туннель в повести – это и метафора движения людей друг к другу, нелегкого, не без аварий-завалов, но все равно – движение... Это трудом, и только трудом самих людей осуществляемое движение от человека к человеку, к их сближению. Движение к взаимопониманию разных народов. Движение от войны – к миру...»
7
Наша очередная встреча с Талгатом-агаем состоялась в субботу, ближе к вечеру, возле памятника Салавату Юлаеву. Агай сам так захотел, сказал, хочу посмотреть на батыра. Я с радостью согласился – для меня было просто праздником увидеться и с ним, и с батыром.
Была середина октября. Выпавший неделю назад довольно обильный снег за два дня весь растаял. Видимо, не настоящий был снег. Снова выглянуло солнышко, на улице потеплело, под ногами все высохло, как будто вновь вернулось сентябрьское бабье лето.
Я опоздал, пришел чуть позже оговоренного о встрече времени. На лице Талгата-агая – довольная улыбка.
– Во сколько ни начни лекцию, студент все равно опоздает, – сказал он с усмешкой, издали наблюдая, как я быстрым шагом, впопыхах подхожу с остановки. – А ты, смотрю, до сих пор не избавился от студенческих привычек. Это хорошо, что молодость продолжается.
– Я спешил, а автобус медлил, – ответил я, испытывая неудобство.
– Ладно, ладно, не оправдывайся, шутка. Сегодня выходной, не знаю, как ты, а мне спешить некуда. К занятиям уже подготовился. Ну, а у тебя как идут дела?
– Нормально, привыкаю. Поскольку самый молодой в редакции, приходится бегать по разным поручениям, и дел наваливают выше крыши. Подписка идет. Выезжаем в города и районы, в школах с учениками и учителями, в клубах с населением встречаемся, журнал хвалим, начальство уговариваем. Как-то же надо тираж собирать.
– Да, хлопотно это. А народ не подписывается, не читает. Эта тенденция не только в нашей республике, по всей России так. Вот в нашей деревне, к примеру, больше пятисот домов, а журнал ваш приходит только в двадцати четырех экземплярах. Потому что к литературе со стороны властей нет никакого внимания. Вообще, руководителем страны должен быть человек с гуманитарным образованием. Только в таком случае будет внимание культуре, литературе, искусству, театру. Это мнение старого маразматика.
Народу на площади много – день выходной. Тут и пожилые, и молодых родителей много, идущих с маленькими детьми за руки либо катящих перед собой коляску с сидящим или спящим младенцем. Гуляют и группами, и поодиночке. Площадь перед памятником – одно из самых любимых мест горожан для прогулок и встреч.
– Кстати, насчет журнала, я его раньше изредка почитывал. Когда на лето приезжал в деревню, брал с собой – двоюродный брат много лет выписывал, да я и сам несколько лет был на него подписан в Москве. Но раз не печатали посланные им мои вещи, перестал читать, пропал интерес.
– Получается, что, обидевшись, вместе с клопами сожгли всю шубу.
– Как-то так получается. Да и читаю по-башкирски тяжело. Многие слова, особенно если это диалекты, которые в наших местах не используются, не понимаю, приходится в словарях рыться. Нас ведь в деревне по-татарски учили. В школьные годы стихами Такташа увлекался. Шумный, простой, понятный был Такташ. Многие его стихотворения, поэму «Дочь леса» выучил наизусть. «Бедовый я был, а потому не посмотрел, что будет грешно, синей ночью залез к соседке-старушке и был таков с белым ее петухом...» Ну, как? – Талгат-агай по-детски заразительно рассмеялся, как будто вернулся в ту пору детства, когда не грешно было воровать петухов. «Почему?.. Почему озорные твои глаза, в мои глаза так глядят? Какие силы, скажи, какие силы стекают с кончиков ресниц твоих?» Ну, как?
– Замечательно. Только я совсем Такташа не знаю. Ни в школе, ни в университете не было его в программе.
– Времена сейчас другие. Я имею в виду довоенное время. Сегодня Такташа не только у нас, а и в самом Татарстане читают ли? Может, и читают. В те годы моими кумирами были Тукай, Такташ, Гафури. Найди время, почитай их. Не довольствуйся только тем, что дают по программе, иногда надо выходить и за рамки, товарищ будущий вузовский преподаватель.
Вот так беседуя, мы дошли до памятника Салавату. Талгат-агай долго всматривался в фигуру коня и всадника. Повернулся в сторону Агидели. Окинул взглядом окрестные дали.
– Тавасиев был человеком с поэтической душой, – сказал он, переводя свой взор снова на скульптуру после долгого разглядывания заречья. – Очень удачно выбрал место для памятника. Если бы разместил в окружении каменных зданий, такого эффекта бы не было. Оттого, что стоит на крутой вершине, Салават открывается не столько как воин, сколько как поэт. Говорят, он ведь очень долго боролся за то, чтобы памятник был размещен именно здесь. Памятник императору Петру Первому в Ленинграде тоже стоит на яру. И как смотрится! Значит, конную скульптуру нужно обязательно ставить на крутой вершине, на яру. Только подумай, сколько народа смог поднять двадцатилетний парень! Удивительно. Чтобы поднять политически отсталых, считавших притесняющих их помещиков и заводчиков эксплуататорами, совсем темных людей, и не только башкир, но и населяющих этот регион народностей, для этого недостаточно просто хорошо воевать, нужно иметь какую-то идеологию, политический ум, и потом все это уметь объяснить народу. Все это требует еще и мастерства слова, ораторства, поэтического дара, умения писать воззвания, распоряжения, разговаривать как с отдельными людьми, так и с толпой. Феноменальное явление. И попробуй после этого сказать, что историческая личность не способна изменить жизнь общества. Если посмотреть на историю России, то она сплошь история царей. У других народов тоже есть бунтари, но фигуры такого масштаба, как Салават, больше ни у кого нет, – писатель не спеша обошел кругом памятник.
Сели на скамейку. На прошлой неделе заходил на кафедру и услышал от Буранбая странную историю, до сих не дающую покоя. После некоторого молчания я набрался храбрости и решил задать мучивший меня вопрос:
– Талгат-агай, а что за конфликт произошел у вас со студентами?
– И до тебя дошло, слух, значит, уже пошел, – вздохнул агай, глядя себе под ноги. – По большому счету, то, что произошло – случающаяся между преподавателем и студентами бытовуха. Две девушки-куклы всегда приходят на лекции с опозданием. И это не случайно, а постоянно, они это делают нарочно, мол, вот мы какие, особые и независимые. Ни разрешения спросить зайти, ни извиниться. Два раза сделал замечание, в третий раз не пустил. Те пошли жаловаться, вместе со звонком, говорят, зашли, а в реальности – с опозданием на пятнадцать минут. Завкафедрой пригласил, как же так, говорит, почему не пускаешь, ну, и что, что опаздывают, не обращай внимания, продолжай лекцию, нарушаешь их права. Я ему: о каких правах вы говорите, студент имеет право опаздывать, лекцию прерывать, другим мешать, а у меня нету права замечание делать? Короче, в таком духе зашел спор. Потом узнаю, эти две куколки, оказывается, дочери работников районной администрации. Ректору сверху позвонили. Понятное дело, все обрисовали в черных тонах, якобы я их вытолкал за дверь. А я не то чтобы приблизиться к ним, даже от стола не двинулся.
– Что же теперь будет?
– Декан сделал замечание. Сами прекрасно понимают, что дело шито белыми нитками, но занимаются формализмом, просто боятся. А если брать в общем, то не учатся, черти. Девушки макияж-марафет наводят, судачат, болтают, парни спят.
Разговор дальше не заладился. Настроение у Талгата-агая упало. Зря спросил. Не хватило ума. Это было первое, о чем я пожалел, а второе, большее, это то, что у него с девушками стычка произошла. Как бы дело до больших неприятностей не дошло, опасался я за агая.
* * *
Многие уже знали, что наш земляк-писатель читает лекции в университете. Заходили в нашу редакцию, спрашивали, и из других редакций народ интересовался. Союз писателей, оказывается, тоже в курсе. Когда узнали, что у него юбилей приближается, ажиотажа еще больше прибавилось.
Спустя неделю после нашей встречи возле памятника батыру Салавату появилась информация о том, что в Национальной библиотеке состоится встреча с писателем. Об этом, зайдя в нашу комнату, сказал мне главный редактор. Встречу библиотека, как оказалось, проводит совместно с Союзом писателей. «Иди, сходи, посиди, послушай, наверняка, что-то для своего интервью нового услышишь», – дал мне поручение главный редактор.
Народу в библиотеке собралось довольно много. В основном – журналисты из разных редакций, преподаватели из университета, пединститута. Есть и писатели. Молодежь тоже видна. Встречу открыла заведующая сектором художественной литературы, лет тридцати – тридцати пяти, высокая, в крупной кости женщина.
– С нашим земляком, одним из известных в России писателей Талгатом Гайнуллиным мы, работники библиотеки, хотя лично и не знакомы, но о его творчестве в какой-то степени знаем. Потому что изданные в Москве его книги к нам поступают. Их берут, читают, интересуются, особенно спрашивают люди старшего поколения. Воспользовавшись тем, что писатель находится здесь, в целях более близкого знакомства с его творчеством, мы, Национальная библиотека, совместно с Союзом писателей решили провести эту встречу. Как я уже сказала, читателей его произведений много, особенно активно читают пожилые люди, фронтовики. Говорят, нравится, о войне пишет со знанием дела, правдиво. В подтверждение своих слов хочу прочитать письмо одной из наших читательниц. Пишет женщина по имени Айсылу Янтурина. Письмо состоит из трех станиц, полностью его зачитывать не буду, приведу лишь несколько абзацев. Написано по-русски: «Большое спасибо за Ваши правдивые, искренние, трогательные произведения. Читала с большим удовольствием… Вы очень тонкий психолог. Обо всех жизненных ситуациях, на которые многие закрывают глаза, Вы пишете открыто, без прикрас. Во всех Ваших произведениях чувствуется правда жизни, и в основном горькая правда… Вы очень честный человек. Подкупает честность и в мыслях Ваших героев… Мы привыкли видеть в книгах, в фильмах почти идеальных положительных героев, а Ваши рассказы, повести в очередной раз доказывают, что идеальных людей не бывает, что все мы обычные, с положительными и отрицательными качествами, что каждого человека надо принимать таким, какой он есть, что любой человек имеет право на уважение… Всего Вы добились сами, не пали духом, не сбились с пути. Просто поражает Ваше стремление к знаниям вопреки всему. Все это вызывает большое уважение. Бог Вас одарил великим талантом и не по проторенной дороге вел Вас к цели, а через большие трудности, преграды, как бы специально испытывая Вас… Я думаю, что у Ваших книг большое будущее: они достойны стать учебником по истории, учебником жизни для будущих поколений. Дай Бог Вам здоровья, душевного покоя. Низкий поклон Вам. С уважением, А. Янтурина».
– Вот такое письмо, товарищи.
Зал притих. У Талгата-агая затряслись руки, глаза увлажнились. Меня тоже переполняли чувства. Что и говорить, письмо было искренним, душевным, и все в нем было правдой. И тут в зале раздались громкие, долгие аплодисменты...
– Да, у нас есть проживающий в Москве и пишущий на русском языке Талгат-агай, но, к сожалению, мы плохо знаем его произведения, книги его из столицы сюда не доходят, на башкирский язык не переведены, – начал свое выступление заместитель председателя Союза писателей, сравнительно еще молодой поэт. – Поэтому в нашем издательстве нужно издать его книги и на русском, и на башкирском. Хотелось бы, чтобы сегодняшняя встреча открыла дорогу этому начинанию. Все зависит от Талгата-агая и от нас всех. В зале много представителей редакций газет и журналов, думаю, они дадут в своих изданиях материалы о сегодняшнем мероприятии. И в Союзе надо провести такую встречу, есть наверняка писатели, которые знают Талгата-агая. С председателем Союза поговорим.
Дальше слово дали почему-то самому Талгату-агаю. Он выразил большую благодарность организаторам встречи и пришедшим на нее, всем прочитавшим его произведения, автору письма Айсылу Янтуриной, признался, что не ожидал такого мероприятия. Оказывается, это первый его диалог со своими читателями на родной земле.
– Так сложилась жизнь, что после войны, по завершении строительства гидроэлектростанции на Кавказе я приехал в Москву, чтобы посмотреть Третьяковку. Весь день ходил в галерее. Работавший вместе со мной в Красной Поляне приятель, москвич, дал свой телефон и адрес, пошел к нему – где-то надо же переночевать, а он начал меня уговаривать: оставайся, говорит, здесь, будешь пока у меня жить, временную прописку тебе оформлю, работу найдем, сейчас очень нужны рабочие руки. Остался. Устроился на арматурном заводе фрезеровщиком. Потом работал в котельной, оформителем в одной организации, гардеробщиком таскал одежду – если начать считать, очень много профессий наберется. Поступление в Литературный институт снова изменило жизненную судьбу. Мои рассказы, повести тоже очень трудно пробивали дорогу в литературные журналы. Я не жалуюсь, такова реальная повседневность. Ни о чем не жалею, – высказав все это, писатель сделал паузу, а в зале уже вскочил с места худощавый парень в белом костюме, впрочем, не парень, агай, и, даже не представившись, начал говорить:
– Вы пишете просто, понятно и правдиво, что ценю очень высоко, так как это дается только седой мудростью и большой ученостью. Читать легко и в то же время тяжело и тоскливо по настрою. Написано талантливо, и поэтому читается с неотрывным интересом. Только как бы односторонний взгляд «писателя-неудачника», как вы сами неоднократно презентовали своего героя, не стал единственной и тоскливой правдой жизни той поры для поколений, живущих ныне. В то время в советском строе было ведь много и положительных сторон. Была идея, у людей было стремление. Например, в повести «Загон», судя по описанию болей, у главного героя начался инфаркт миокарда. Но он, вместо того чтобы немедленно воспользоваться доступной и бесплатной в те годы медицинской помощью, все чего-то тянет, рефлексирует. В итоге, весь период той жизни остается пепельно-серым, даже черным. А ведь вызови герой вовремя скорую (тогда они приезжали очень быстро) или сходи в свою поликлинику на кардиограмму, и весь этот кусок повести пошел бы по другому, более светлому пути. Неизбежно появились бы чуткие врачи, заботливые нянечки, то есть забота о простом человеке, чего тогда было предостаточно, а в повести отсутствует напрочь. После «Загона» я начал читать другие произведения, надеялся хоть там найти свет оптимизма. Но увы… В первых же двух рассказах «Холод», «Антропос» вы неоправданно убиваете своих пятнадцатилетнего и девятнадцатилетнего героев. Убиваете тогда, когда они уже фактически выкарабкались. Прямо патология какая-то. Свет в конце туннеля есть только в рассказе «Три процента» о ветеранах Великой Отечественной войны. Маловато для уравновешивания трехсот пятидесяти страниц сплошной чернухи. А теперь вопрос: откуда эта чернота? Детство у вас было такое трудное, тяжелое или действительность войны наложила на вашу психику такие темные тона?
– Во-первых, спасибо, что прочитали книгу! – Талгат-агай медленно привстал и не спеша начал говорить: – Вы намного моложе меня, значит, мы дети двух поколений, двух эпох. Я изображаю проблемы своей эпохи, то, что сам видел и пережил. В то же время я ухожу и в сторону от факта реальной жизни, будучи сочинителем, создаю свою реальность. Происходящие в рассказе, повести события могут быть не совсем такими, как в жизни, но это мое видение, мое восприятие.
Если говорить конкретно о «Загоне», то здесь так. Если бы я, как вы говорите, вызвал скорую помощь и героя увезли в больницу, то, конечно, события пошли бы по другому пути, но ни его внутренний мир, ни характер, ни политические и общественные порядки, ни система того времени не изменились бы. Если бы я написал по-вашему, это было бы не мое произведение, а ваше. В «Антропосе» смерть девятнадцатилетнего парня – это тоже реальный случай. Вообще, в госпитале многие умирали. Я сам несколько раз лежал в них, поэтому хорошо знаю. Все это – виденная мною жизнь, уведенные мною события. Помимо «Антропоса», у меня есть другая повесть о госпитале, о лежащих там раненых, лечащем персонале под названием «Две недели». Об этом тоже нельзя было не написать. Линия фронта ведь проходила и через госпитали, большинство попадавших туда, вылечившись, вновь уходило на передовую.
А на второй ваш вопрос мой ответ будет таким. Нашему поколению выпало очень много трудностей. Я это говорю не потому, чтобы пожаловаться, время было такое. Совсем еще мальчишками впряглись в колхозную работу. В Белорецке учился в ФЗО, направили на работу в город Ревду. Подумав, что моему возрасту не дойдет очередь, что фашистов без меня победят – тогда патриотизм был очень сильный, исправил в метрике цифру шесть на пять, то есть хотя и родился в 1926 году, написав 1925-й, ушел воевать. Может, действительно, в некоторых произведениях и отражены факты тяжелого детства, но это в самом деле так и было, и это нормально. Кого же еще описывать писателю, как не себя? Вообще, то, что я пережил, для моего поколения типичное явление, я нигде не выпячиваю себя как исключительного.
В зале поднял руку парень.
– Вы в Бога, в Аллаха верите? В рассказе «Каска» вы пишете о своем ангеле-хранителе…
– Я никогда не верил ни в православного Бога, ни в мусульманского Аллаха, как говорится, ни в церковь, ни в мечеть. И все же верю в высший разум. В противном случае природу многих вещей трудно и понять, и объяснить. На войне на каждом шагу видишь смерть, и сам находишься на волосок от смерти. Когда выходишь живым из этой мясорубки, поневоле начинаешь думать про этого самого ангела-хранителя. Рядом с тобой товарищ умирает, а ты – живой. Вот один случай.
С сослуживцем по фамилии Иванов сидим, кашу едим. Подошел лейтенант и смотрит, то на него, то на меня. Значит, выбирает, кого из нас куда-то послать. Потом посылает Иванова на командный пункт. Проходит совсем немного времени, и вдруг слышим совсем рядом взрыв. Подбежали, смотрим, а Иванов уже без одной ноги лежит. Наступил на противопехотную мину и взорвался. А на его месте мог оказаться я. Ангел мой сохранил.
Еще один случай.
Ночью шагаем на марше. До смерти спать хочется. Идем и спим на ходу, ткнувшись в спину впереди идущего товарища, просыпаемся. В один из таких моментов вздрогнул и проснулся оттого, что кто-то тянет меня за рукав. Повернулся и увидел умершую шесть лет тому назад свою маму. Она шагает рядом с колонной и знакомым, до сих пор незабытым голосом говорит: «Улым, смотри не бросай свою каску», и с этими словами отошла на край дороги. Пройдя немного, я обернулся, но ее уже не было.
С пешего марша сразу вступили в сражение, и тут же попали под мины. Одна из мин угодила в рядом стоящую высокую ель, осколок от нее ударился о мою каску и сильно помял ее. Эту вмятину я увидел уже потом, после боя. Другой осколок попал в голову стоящего рядом со мной товарища и убил его. Он был в пилотке.
Под огнем нельзя находиться долго, поэтому основательно поредевшая наша рота, подчиняясь приказу, ринулась вперед. Пробежав какое-то расстояние, вышли, наконец, из-под обстрела. Спрятались за большими камнями. Полевая кухня доставила обед. Одним глотком выпил спирт, который плеснул мне в котелок старшина, и, сняв каску, начал есть. Съев половину, протянул руку, чтобы надеть каску – а каски нет! Посмотрев по сторонам на товарищей, увидел, что каску надел солдат по фамилии Воловик. Свою каску он выкинул по дороге. Я к нему: отдай, говорю, каску. Он прикинулся дурачком и смотрит на меня вопросительно, мол, ничего не понимаю. Я снова к нему: отдай мою каску, ты же свою выбросил, я видел. Он твердит свое: какую еще каску, это моя каска, ничего не знаю. А я-то свою каску сразу узнал по вмятине на ней. Не могу же я ему сказать, что каску мне мать не велела снимать. Тот все упирается, не отдает. Тут я кинулся на него. Воловик меня оттолкнул. Я снова налетел на него. Он и в этот раз отбросил меня. Он был сильнее, здоровее. Пока мы так бодались-препирались, тут финны опять открыли минометный огонь. Стали вразнобой разбегаться назад. Я перебегаю от камня к камню, потом снова бегу. На бегу нога задела что-то, я споткнулся. Нагнулся, посмотрел – немецкая каска! Долго думать некогда, голова дороже, взял и надел эту каску. Стрельба все ближе. И тут мы побежали вперед, на ближайшую высоту. На бегу я увидел тело убитого Воловика с моей каской на голове. Стало быть, не спасла она его. Снял с него каску, немецкую выбросил подальше, а свою надел на голову. Наступление продолжилось. Финны отступали, мы заняли их окопы. Через некоторое время они снова начали стрелять. Они хорошо видели нас в бинокли, поэтому стреляли прицельно. И вот рядом со мной еще один взрыв. Меня оглушило, воздушная волна подняла вверх и швырнула обратно на землю. У рядом сидящего Лапшина оторвало голову, и она упала мне на плечо. Я выскочил из окопа и побежал назад – было очевидно, что следующая мина упадет аккурат на меня. Санитар увидел, как я бегу, качаясь и спотыкаясь, подбежал ко мне и потащил в медсанбат. Там с меня еле-еле сняли изрядно помятую каску. Если бы я там был без каски, ясное дело, в живых бы не остался. Что это: напоминание ангела словами матери, иначе говоря, спасение ангелом-хранителем, или же это просто случайность? Мне кажется, все же, спас меня мой ангел.
Именно этот случай и стал поводом для написания рассказа «Каска».
В журнал «Знамя» приняли на работу редактором в отдел прозы одну женщину. То ли потому, что новый человек, то ли желая устроить ей проверку, вытащили из бумажных завалов на полках годами пылящиеся рукописи, посадили ее за них, чтобы она вернула их вместе с дежурными ответами-отписками авторам-графоманам. Новый редактор, видно, была человеком неглупым, с литературным вкусом, прочитав мою повесть, сказала: «Это же как раз нужная нам вещь». Затем ее прочитала заведующий отделом прозы Иванова, а после нее заместитель главного редактора Василий Катинов. «Дадим, если после “Сашки” Кондратьева не напечатаем такую повесть, будет очень стыдно», – сказал Катинов. Так «Сашка» помог мне занять плацдарм у подножия литературного бугра. А та женщина-редактор куда-то потерялась, сколько раз заходил в редакцию, ни разу ее не видел. Пришла, вытащила с полок из пыльных бумажных завалов мою повесть и ушла. Может быть, она тоже была моим ангелом, встретившимся мне на поворотах судьбы?
– Вся ваша жизнь прошла в Москве. В родную деревню вы приезжаете только на лето. И все ваши произведения о деревне, о сельских жителях. А доводилось ли писать о городской жизни? И связанный с этим еще один вопрос: как вы относитесь к термину «деревенская проза»?
– Серьезный вопрос. Вся классическая русская литература в основе своей деревенская литература. Пушкин – Болдинская осень, Михайловское. Бунин – рассказы «Деревня», «Антоновские яблоки». Тургенев. Толстой, будучи графом, ходил в крестьянской одежде, пахал землю, косил сено. Сегодняшняя литература также из деревни. Распутин, Абрамов, Солоухин, другие. Вся башкирская литература из деревни. Я не знаю ни одного писателя, который родился в городе и пишет о городской жизни. Наверное, они есть, но их немного. Сегодня в моде новая или интеллектуальная литература. Тусовка. Среди них, конечно же, есть и талантливые. Однако эта литература асфальта и квартиры, порожденная закрытым пространством. В этой литературе нет зеленой травы, нет утренней росы на траве, нет крика петухов по утрам, нет ржания лошадей, не слышно детского гомона у реки. И вот эта литература такими же порожденными асфальтом и закрытым пространством критиками восхваляется до небес, а великая традиционная литература принижается. И восхваляемые, и восхваляющие не знают, что такое жизнь, полжизни проводят в библиотеках и из тамошних фолиантов набираются ума. Все эти повести и романы Кондратьев называет «игрой в бисер». Они выходят в журналах, им присуждаются большие премии, а главная цель – стремление понравиться Западу. В советское время тоже была деревенская литература, ее как раз и называли «деревенская проза». Но квалифицировать литературу подобным образом в корне неверно. Литература делится только на хорошую и плохую. Были и талантливые писатели. Меня не интересует ум, поднимающий деревенских стариков на вершины цивилизации, олитературенных колхозников тоже не приходилось встречать. Меня не интересует ни собранный с одного гектара центнер, ни надоенное от одной коровы молоко, ни должность председателя. Писать про них – это не дело писателя. Дело писателя – показывать характеры. Пишешь ли ты о деревне, показываешь ли городскую жизнь, надо писать правду, нужно поднимать социальные, общественные проблемы деревни. Людям нужна правда.
– Считаете ли вы себя счастливым человеком, писателем со счастливой судьбой? Если да, то почему?
– Сказать, что не счастливый, язык не поворачивается. Самое главное, что вернулся с войны живым, женился на любимой женщине, сына вырастил. Больше всего жалею о том, что рано лишился родителей, будучи сыном, не смог ухаживать за ними в старости, заботиться о них. И к писательской своей судьбе нет претензий. Хотя начал писать поздно и первые произведения выходили с большим трудом, считаю, сегодня пришло какое-то признание: читатели пишут, обсуждают, повести и рассказы печатаются в центральных журналах, выходят в книжных издательствах, и за рубежом издают.
– А у нас нет! Почему на родине не издают? – выкрикнул кто-то из зала.
– Это вопрос не ко мне – к редакциям журналов, газет, книжному издательству. Может, после этой встречи начнут? – улыбнулся Талгат-агай. – Попробовал послать рассказы, повести в здешний литературный журнал, не напечатали. И причину не объяснили. Не стал предъявлять претензии, разбираться, требовать, доказывать, кто я такой, не тот характер. Произведение само должно пробивать себе дорогу, не автор.
– Какое из своих произведений назвали бы самым лучшим?
– Пусть это и прозвучит банально, но скажу: если брать в общем и целом, то каждое дорого, близко, каждое пропущено через сердце, тем не менее наверное, это «Туннель» и «Переправа». В них я смог наиболее полно отразить все свои мысли, кажется, удалось выразить все, что хотел сказать.
– Они автобиографичные?
– Конечно, в них есть элементы автобиографии. Как уже сказал, писатель ведь пишет о себе, о своей жизни, о том, что слышал, что видел, пережил, о тех событиях, которые происходили с ним, о своем отношении к этим событиям. Если это, конечно, не историческое произведение, если он описывает материал сегодняшнего дня. Только все это надо показывать искренне, ничего не тая, не скрывая, открыто, как уже говорил, в противоречии с обществом, с системой, в противоречии с характерами людей. Если говорить в общем, художественное произведение – это ведь разговор двух людей, автора и читателя, диалог между ними. Если автор пишет так, что ему удается убедить читателя, значит, контакт между ними установился.
– А на башкирском можете писать, пробовали когда-нибудь? Возможно, на русском пишете, потому что хотите охватить более широкую аудиторию? По-башкирски же неплохо говорите.
– С того времени, как в пятнадцать лет ушел из деревни, вся дальнейшая моя жизнь прошла среди русских. И в ФЗО по-русски, и на заводе по-русски, а на фронте и говорить нечего. Я там даже сны по-русски видел. И стихи писал по-русски. Русская среда навсегда, насовсем втянула меня в себя. К тому же, очень много читал – русскую классику, мировую литературу, и все это тоже на русском языке. Теперь уже мой родной язык остался только в виде разговорного. Да и тот через пень-колоду, вперемешку с русскими словами. Искренне говорю: очень жалею об этом. Пробовал писать – ничего не получается, слишком отдалился. Так что пишу по-русски, как вы сказали, совсем не для того, чтобы охватить более широкую аудиторию, а получилось вынужденно.
В зале наступила тишина. Народ задвигался, зашушукался, люди стали смотреть друг на друга, как бы спрашивая, будут ли еще у кого вопросы. У нескольких человек в руках были изданные в разные годы в разных издательствах книги писателя, номера журналов «Знамя», «Дружба народов». Выходит, центральные журналы и до нас доходят, значит, и у нас есть читающие его люди!
– Вы живете в Москве, наверняка следите за литературным процессом? Какие тенденции сегодня наблюдаются, какие изменения происходят в литературе в последние годы?
– Постмодернизм наступает. Маканин, Пелевин, Влад Сорокин (не путать с Валентином Сорокиным). Произведения этих авторов не могут считаться серьезной литературой. Я не знаю, кому это нужно, кто это читает. Это не литература, это окололитературное кружение, ложная литература. И ведь все равно эти книги выходят, издаются, по всей стране расходятся. Распространяются и воспитывают у читателя плохой вкус к настоящей литературе.
Конечно же, только этим не закончилась встреча. Люди, теперь уже в особенности более пожилые, и даже некоторые писатели и писательницы, наперебой стали говорить: мы вас знаем, приходилось читать, в таком-то году и на съезд к нам приезжали, рассказы и повести ваши читали в толстых журналах, еженедельниках «Литературная газета», «Литературная Россия», вот только жаль, что в республиканской печати до сих пор не появлялись. Другие пытались советовать, мол, надо вам самому быть настойчивее в вопросе издания книг здесь, на родине. У нас же есть свой союз писателей, есть свое книжное издательство, если у них не находите понимания, можно и к руководителю республики обратиться. Разве он не вошел бы в положение писателя, книги которого выходят в Москве, за рубежом издаются и везде тепло принимаются? Надо выдвинуть на государственную премию, на различные звания – прозвучали и такие предложения. Третье, четвертое… Потом поднялся пожилой писатель с седой кудрявой шевелюрой Багаутдин Салимьянов и начал так:
– Товарищ сформировался как человек, как писатель в Москве, там живет, там на учете стоит, считается русским писателем. Поскольку творит, пишет на русском языке, его никак нельзя назвать башкирским писателем, – он замолчал, посмотрел по сторонам, ожидая одобрения своих слов.
В зале вновь воцарилась тишина. Каждый пытается понять смысл сказанного, ждут, как к этому отнесется писатель, что на это скажет. Как выразился потом сам Талгат-агай: запахло жареным. Ясно было как день, что сейчас разговор повернется совсем в другую сторону. Поэтому я вскочил с места и сказал:
– Никто же не говорит о том, чтобы Талгата-агая переселить в Уфу, пускай живет в Москве и на учете пусть там стоит, речь идет о том, чтобы перевести его произведения, издать их у нас, и в этом качестве вернуть его сюда, на родину, открыть башкирскому читателю.
– Это-то я понимаю, кустым, как тебя там. Да, перевести можно, но мы все равно не сможем его вернуть в башкирскую литературу, не сможем сделать его башкирским писателем, потому что его произведения изначально написаны не по-башкирски. Он же сам сказал, что не сможет писать по-башкирски.
– Так в республике же много писателей, которые тоже творят по-русски, – возразил я. – Мы их включаем в список писателей Башкортостана. Живут здесь, на учете в нашем Союзе писателей состоят. А агай живет там, там же и на учете стоит, только в этом и вся разница.
Зал загудел. Люди снова стали переглядываться, заговорили, зашумели, засмеялись, один сказал, конечно же, надо перевести, другой рукой махнул, третьи стали рассуждать по поводу того, наш он или не наш, но в итоге склонились к тому, что независимо от того, где живет, на каком языке пишет, все равно наш, потому что родился здесь, в республике. Такой интересный и поучительный вечер, так хорошо начавшийся в пользу Талгата-агая, нельзя было завершать сообщением Багаутдина Салимьянова. Этого журналиста иногда я встречал у нас редакции журнала и ни разу не слышал, чтобы он похвалил кого-то из писателей, выделил чье-то творчество, вечно настроенный критически и ворчливо, он хвалил только свои произведения, всегда анонсируя в восторженных тонах еще не написанные свои будущие рассказы. Долгие годы он работал в республиканской газете, писал в основном статьи на этические, морально-нравственные темы в назидательном тоне, а сам перед всем народом показал такую невоспитанность! Когда узнал, что я перевел рассказ Талгата-агая «Шамсутдин и Шамсура», ему это не понравилось. «Ерундой занимаешься, кому надо и на русском прочитают, зачем его еще и на башкирском издавать, все равно ты не вернешь его в башкирскую литературу, может, автор и не заслуживает этого», – высказал он свое неудовольствие. Вот и сегодня в том же духе высказался. Иногда просто поражаешься отсутствию душевности, узости мышления человека...
Ведущая встречу женщина поднялась со своего места, намереваясь завершить мероприятие, по крайней мере, мне так показалось, потому что уже затягивалось, и оглядела зал.
– Товарищи, вопросы к писателю еще будут? Если нет…
В это время в зале кто-то нехотя поднял руку. Мне его лицо показалось знакомым, встречал в Доме печати, кажется, в какой-то газете работает.
– Недавно председатель Союза писателей поведал мне удивительные вещи, – агай сделал многозначительную паузу и тем, видимо, хотел привлечь к себе внимание аудитории. – По его словам, товарища писателя его односельчане, оказывается, не очень-то и любят. Напрашивается логичный вопрос: почему не любят? – Вновь пауза, как будто собирается открыть большой секрет: – Потому что он плохо о них пишет. Например, кого-то видел пьяным, наблюдал, как тот жену свою избивал, обнародовал факты распутства в годы войны председателя колхоза. Как можно так плохо писать о своих односельчанах? Как товарищ писатель объяснит эти, я бы сказал, нехорошие свои поступки? Его односельчане якобы даже выражают сомнение, а был ли он на самом деле участником войны.
В зале установилась такая тишина, что можно было бы услышать летящую муху. Вопрос безжалостный, как удар между ног. Людям забавно, потешно, интересно, им хочется увидеть обмякшим такого же двуногого существа, как они сами. Вставший и собравшийся было уходить народ снова начал рассаживаться на свои места. Вот сейчас-то и начнется самое интересное, сейчас начнется. Как же здорово сделал этот журналист, что задал такой вопрос! Ну-ка, посмотрим, как выкрутится, чем оправдается герой встречи?
Удивительно, но Талгат-агай ничуть не растерялся, не обмяк, ни один мускул на его лице не дрогнул. Подвинул свои очки в большой оправе на нос и вяло усмехнулся. Видно, не первый раз уже задают ему этот вопрос. Я был удивлен его способностью так спокойно вести себя и подумал: «Ну, и выдержка у человека!»
– Я уже давно привык к тому, что такие мифы как хвост ходят за мной. Во-первых, – Талгат-агай посмотрел на задавшего вопрос журналиста, – не пристало мужчине собирать чужие сплетни, во-вторых, откуда еще писателю брать материал для своих произведений, как не из жизни, не из среды окружающих его людей? Не я один, все писатели опираются на жизненные факты и на основе этих фактов, опираясь на них, перелопачивая их по-своему, изменяя, наращивая, дополняя, интерпретируя, создают художественное произведение. Если в процессе создания этого произведения, в каких-то событиях, явлениях, именах-фамилиях, людских судьбах прослеживается какая-то схожесть, похожесть, это же не говорит о том, что я пишу о каком-то конкретном человеке. Так можно написать только очерк, репортаж либо любой другой жанр документального характера, но никак не художественное произведение. Да, какие-то моменты могут быть похожими на поведение того или иного человека, на события, связанные с ними, но я же не пишу о них. Мне уже приходилось объяснять, доказывать тем, кто предъявляет мне такие претензии, что это не вы, в рассказе или повести вымышленные, придуманные герои, – нет, не верят, не хотят верить. Все это идет от непонимания художественного слова, сути творчества писателя. Люди повторяют кем-то сказанное, все воспринимают в прямом смысле. Ты выставил моего отца или меня пьяницей, плохо написав о нашем роде, опозорил перед всей деревней, говорят мне, грозятся избить и даже из деревни прогнать, не приезжай больше сюда, говорят. Ваш председатель союза, скорее всего, тоже от этих пьяниц услышал, что Талгат не любит деревенских. Я люблю народ в самом общем и высоком значении этого слова, но только не пьяниц, не драчунов и не сплетников. Люди любят правду и справедливость, хотят читать написанное правдиво и справедливо. Тех, кто не понимает, мало, большинство понимает, соглашается с поднимаемыми проблемами. Кто знает, возможно, и завидуют. Может быть, кому-то не дает покоя то, что, выбравшись от деревенского навоза, я живу в Москве, приобрел там какую-то известность, пишу и издаю книги. Это ведь тоже некоторые считают моим бегством от колхозной жизни, нежеланием работать. А что же, разве я один покинул деревню? Если посчитать с конца войны до наших дней, почитай, половина деревни на стороне. Кто-то обосновался в районном центре, кто-то в Уфе, в соседних областях, а несколько человек, говорят, и в Москву уехали. Почему же им нет никакой претензии? Может, завидуют мне? А зачем завидовать? У каждого свой путь, своя судьба, свое дело. Коттеджа у меня нет, машины тоже никогда не было, даже сада нет, все, что имею, это построенный из горбылей и глины дом в деревне, туда и приезжаю каждое лето. И никто меня там не встречает как большого человека и не провожает. А если уж есть талант писательства, так это подарок от Всевышнего. Вот пусть те, кто так говорит, сядут и напишут что-нибудь, если это им под силу.
Задавший вопрос ничего не ответил. Выслушал все молча, поднялся и вышел.
На встречу пришла и Зульхиза. Я ей сказал накануне, что, мол, если сможешь, приходи, должно быть интересно. Мы вышли вместе на улицу, обменялись мнениями и о самом вечере, и о заданных вопросах, как отвечал на них Талгат-агай. Потом я проводил ее до общежития и, хотя было уже поздно, пошел на работу. Решил просмотреть те бумаги в шкафу ответственного секретаря, которые отложил в тот раз. Хозяина кабинета на месте не было, ушел домой. Значит, можно будет поработать свободно, не спеша, без суеты. И я приступил к делу.
О, чудо! Нашлась повесть, обнаружилась! Она лежала в газете, а газета вместе с другими рукописями была вложена в папку, а папка, в свою очередь, почему-то перетянута бечевкой. Как будто кто-то заколдовал и положил туда. Повесть называлась «Переправа». Как раз одно из двух произведений, оцененных писателем как лучшие.
Принес домой и в тот же вечер, в ту же ночь прочитал. Это было потрясающее произведение. Несомненно, его нужно перевести. Башкирский читатель обязательно должен узнать о нем.
8
Представить в натуральном плане, что на одном берегу реки идет война, а на другом – проходит мирная жизнь, трудно, да и невозможно, и все же предметом перехода изображаемой в военных повестях писателя войны к описанию мирной жизни в послевоенные годы в какой-то мере может служить повесть «Переправа». Конечно же, это относительное утверждение, тем не менее, как бы там ни было, его персонажи, завершив войну победой, вернутся домой, в деревню, и начнут мирную жизнь. «Переправа» – самая сильная, наполненная эмоциональным напряжением, пронизанная духом печали и радости романтическая повесть писателя. По крайней мере, из всех прочитанных ранее, мне так она видится. В основе повести – деревня спустя несколько лет после войны, широкая панорама социальной, общественной жизни села, горькие судьбы, сгусток трагедий. Главный герой повести, пройдя дорогами войны, возвращается в родную деревню. Только здесь его никто не ждет. Для родной бабушки он – лишний рот. Жить ему негде, в деревне нет подходящей работы. Везде разруха, запустение, голод, жалкое существование людей.
Спустя несколько дней после возвращения вчерашний солдат задает себе вопрос: почему он оказался здесь, что тянуло его сюда, в Богом забытый угол? После долгих, напряженных раздумий до него, наконец, доходит: его сюда притянула первая любовь, Галия, или Галиябану, как он ее тогда, будучи совсем еще юным, называл. И вот он теперь живет мыслью встретиться с ней, объясниться. «Сколько стихов я ей писал с фронта, но ни на одно не получил ответа. Раз так, зачем же тогда так спешил в деревню? Значит, она меня и тогда не любила, и сейчас не любит. Конечно, тогда Галия была маленьким ребенком, а сейчас выросла, пришло время замуж выходить, детей рожать. Вся причина моей тяги в деревню именно в ней...» – думает он. Но герой и здесь ошибается: его любимая выходит замуж за налогового инспектора, который в голодные годы войны собирал дань с людей. Фронтовик вынужден проглотить и этот удар судьбы, тем не менее продолжает любить Галию. «Говорят, первая любовь не проходит, я же только ради нее сюда вернулся. Иначе мог бы в Москву или же на юг уехать...»
Изображение реки как символа течения жизни в литературе явление не новое. Поскольку повесть называется «Переправа», понятно, что в ней должна быть и река. А река без переправы не бывает. Писатель тоже «использует» реку для описания течения жизни, образ реки в его повести – постоянно повторяющаяся в качестве рефрена художественная деталь. Течение реки жизни оказывается намного страшнее и опаснее протекающей рядом с войной реки. К примеру, друг детства героя повести Барый, будучи еще подростком, едва не утонул в реке, но позже свалился в другую реку, простудился и, подхватив туберкулез, умер всего лишь в сорок четыре года. Лирический герой в пьяном угаре сталкивает Альфию с крутого берега в реку, но его жена каким-то чудом выбирается из воды и спасает самого героя от смерти – открывает ему дорогу в литературу, а сама затем погибает на той же переправе… Река для жителей деревни является каким-то роком, судьбой, испытанием в их жизни. Таким образом, переправа для многих деревенских жителей – непреодолимая преграда.
Хотя писатель и использует образ реки как течение жизни, все же он не делает на это упор, мне кажется, главная его цель – показать образ башкирской женщины, в данном случае Альфии, как работящей, трудолюбивой, терпеливой, самоотверженной, преданной своей семье, готовой пожертвовать собой ради мужа. Это как бы намек на то, что повесть посвящена его жене Мадине, а после названия повести в скобках можно поставить подзаголовок «Ода любви».
Вообще, образ женщины в творчестве писателя занимает важное место, он есть в каждом рассказе, повести – и зачастую в качестве главного героя. В качестве примера можно привести рассказы «Шамсутдин и Шамсура», «Песня», «Мать и дитя», «Повитуха», «Ворота», «Зоя», «Утопленник» и другие. Когда он рассказывает о них, его жесткий натурализм смягчается, изобразительные краски усиливаются, в повествование вплетаются тонкий вкус, лиризм, элементы романтики. Читать строки автора о женщинах, их внутреннем мире, размышлениях и переживаниях, любви к любимым мужчинам – одно удовольствие!
«Переправа» – это описание того пути, на котором лирический герой становится писателем. Этот путь долог и длинен, тяжел и сложен, полон дивного мира, разочарований и радостей. Творческие успехи и неудачи, откровенные насмешки над ним деревенских жителей (писательство там никто не воспринимает всерьез), работа долгие годы в стол, мучительное и долгое ожидание ответа из редакции после того, как туда послана рукопись… Конечно, жизненная правда здесь как будто частенько идет рядом с художественным вымыслом: вполне можно предположить, что через своего героя автор переносит на страницы повести многие эпизоды своей личной жизни. К примеру, долгое неприятие литераторами того, что им написано, тяжелая действительность деревенской жизни в первые послевоенные годы. Поэтому повесть вполне можно воспринимать и как документальное произведение. Если посмотреть на биографию писателя, то в родной деревне он жил только до пятнадцати лет, а всю остальную жизнь провел на стороне. Однако деревенскую жизнь он знает не понаслышке, не из газет и журналов, он знает ее изнутри, потому что каждый год в летние месяцы приезжает в родную деревню и проводит все лето там. Вот потому-то так и близка к документальности описываемая в повести жизнь.
«В этой повести я попытался ответить на в общем-то праздный вопрос, что стало бы со мной, как сложилась бы моя судьба, если бы я, демобилизованный солдат, в сорок шестом году на узловой станции Шепетовка сел на поезд, ведущий в родные края? Но я сел на другой поезд, встретил другую женщину и прожил с ней счастливую жизнь», – так заканчивается произведение. Только прочтя эти строки понимаешь, что оказался обманутым: на поверку оказывается, что демобилизованный после войны солдат вовсе не возвращался в свою деревню, а сел на станции Шепетовка в другой поезд и поехал совсем в иные края! А показанные в повести все события оказались просто порожденной фантазией писателя иррациональной жизнью. После осознания всего этого обмана на душе возникает недовольство автором, даже некоторое раздражение, злость на него. Думаешь: что же это, я читал то, чего не было, надо было перед началом чтения посмотреть концовку повести, чем она заканчивается (в студенческие годы мы частенько прибегали к такому «чтению», особенно если требуемое для прочтения по программе произведение было скучным). Однако после некоторого размышления приходишь к мысли: описываемые события настолько жизненны, правдивы, что если бы солдат вернулся в свою деревню он именно так и жил бы, именно это бы с ним и происходило. Потому что автор заставляет нас поверить в это: он подробнейшим образом описывает каждый шаг своего героя, каждое движение его мысли, все его переживания и размышления, его отношение к своей жене, к своим односельчанам, логически все это обосновывая. В итоге, перед тобой не литературный персонаж, а как будто живой человек со всеми своими положительными и отрицательными качествами. Поэтому упомянутая концовка вроде как и не нужна. Она никак не меняет содержание произведения, а придает ему лишь форму.
Все сказанное касается характеристики персонажа, чтобы полнее раскрыть портрет героя, необходимо сказать несколько слов о политической, общественной, социальной обстановке в первые послевоенные годы. В те годы положение в деревне, в экономике страны, в производстве, сельском хозяйстве было очень тяжелым, тягостным, жалким и убогим, горестным. Только что закончилась война, везде разруха, ничего нет, нехватка продуктов. В такой среде с характером героя, с его жизненными принципами по-другому, видимо, и нельзя жить. Он творческий человек, зачастую совершенно не годный, не приспособленный для повседневной жизни, выходки и поведение которого не понимают не только его односельчане, жена, но порой и он сам, в какой-то другой реальности живущий романтик. Однако за непонятными для нормального человека странностями – богатый духовный мир. Этот мир для него – счастье...
9
Хотя заведующий отделом и одобрил мое интервью («бара»), ответственный секретарь раскритиковал его, сказав, что «отчет» о моей встрече с Талгатом-агаем, наши с ним разговоры никак не соответствуют концепции журнала, очень мелки, иными словами, я не раскрыл писателя. Мои вопросы, оказывается, пресные, нейтральные. Надо было, мол, задавать поострее, зачем выбросил те два, что я добавил, помнишь же, что на редколлегии говорили (как будто не смотрел вопросы до главного редактора), ничего нового в интервью он не сказал, все известные мнения, высказывания, ничего московского уровня якобы в интервью он не увидел.
– Как оценил твой перевод?
– Пока только оставил ему, сказал, почитает.
– А сможет прочитать по-башкирски?
– Сможет, только медленно читает, говорит.
– Слушай-ка, не найдет ли он кого-то в Москве перевести мои стихи? Спроси. Подстрочник готов. Хорошо бы в журнале либо в «Литературке» опубликовать подборку.
– Спрошу.
– А вот это, – он положил свою широкую ладонь на лежащее перед ним интервью, – до кондиции доведу. Придется основательно причесать.
Цену себе набивает, торговаться намерен ответственный секретарь.
* * *
Придя домой с работы в общежитие и приготовив что-нибудь легкое в общей кухне, ужинаю, затем, посмотрев по телевизору последние новости, сажусь за произведения Гайнуллина. Конечно, каждый день жить по такому расписанию невозможно, вернее, не получается, в буднях есть и другие неотложные дела, и тем не менее три недельных вечера, а в дополнение к ним ещё и три ночи проходят именно в таком режиме. Мой научный руководитель все-таки добился того, чтобы на совете факультета изменили тему моей кандидатской диссертации на изучение творчества Талгата Гайнуллина. Когда рассмотрение этого вопроса было утверждено в плане работы совета и определена дата его проведения, Рабит Нурович позвонил мне на работу, хотел, чтобы я тоже присутствовал на заседании совета, вдруг понадоблюсь в процессе обсуждения, но я в это время был в командировке в районе и не смог присутствовать. Тем не менее даже без моего выступления ему удалось убедить членов совета в необходимости смены темы. Значит, он прочитал книгу Талгата-агая, которою я ему передал! После этого я почувствовал большую радость и в то же время ответственность и, чтобы не было стыдно перед руководителем, а еще больше перед писателем, тут же серьезно приступил к работе. Читаю его новые повести и рассказы, продолжаю записывать в толстую общую тетрадь возникающие в процессе чтения мысли и соображения, ищу рецензии, написанные на его произведения, интервью с ним, нахожу и складываю их тоже в отдельную папку. Работа мне интересна, она новая, захватывает, я стараюсь сделать как можно больше, и, воспользовавшись его пребыванием здесь, хочу почаще с ним встречаться, общаться. Если одобрит мой перевод, планирую и к переводам его других произведений приступить вплотную, продолжить эту работу. Моему стремлению стать писателем наверняка это тоже в какой-то мере поможет. Башкирский читатель, несомненно, должен знать творчество такого большого писателя, как Талгат Гайнуллин. Чтобы поднять эстетический вкус читателя, увидеть, какой бывает, какой должна быть настоящая художественная литература, нам очень нужны примеры такого высокого уровня.
Наша очередная встреча с писателем состоялась две недели спустя в университете, в аудитории преподавателей, после завершения занятий. Он сам так захотел.
– Ну, как дела, будущий профессор? Только вчера сидел вот за этой партой, а уже если не в этом году, то в следующем будешь стоять за этой кафедрой и читать лекцию о великой башкирской литературе, ее известных представителях, в том числе и о творчестве стоящего перед тобой агая, – голос бодрый, лицо открытое, просветленное, стало быть, дела у агая идут неплохо.
– Да как сказать…
– Не как сказать, а все будет именно так, в этом и есть твое счастье, только все нужно делать вовремя. Аспирантуру закончить в определенные сроки, защититься вовремя и затем уже на докторскую вовремя выходить. Жизнь проходит очень быстро, даже не заметишь. Женат?
– Нет еще.
– А девушка-то есть, наверное?
– Есть.
– Это хорошо, в твои годы уже должна быть. Но только семьей обзаводиться не спеши. Женишься после защиты. Когда под боком молодая жена, не до науки. Живешь, сказал, в общежитии? Ну, пока есть где приткнуться. Все мы вышли из общежития, как из гоголевской шинели. Я поздно женился, в тридцать восемь лет. Мне было уже сорок, когда родился Искандер. Поэтому он еще только студент, а ведь по годам я давно уже должен был бы быть дедушкой. Ну, ладно, давай ближе к делу, задавай свои вопросы, журналист. Нам пора завершать это дело.
Я немного даже растерялся от того, что Талгат-агай так резко повернул разговор в другую сторону.
– Прежде чем задать вопрос, хочу поделиться радостью, Талгат-агай.
– Ну, ну, поделись, когда в жизни не много веселого, радость – это уже большой подарок.
– Я нашел вашу повесть «Переправа»!
– Нашел? Где нашел? – Талгат-агай никак не мог взять в толк, о чем я говорю. Подтолкнул очки повыше, на нос, глаза его расширились, даже тонкие губи сжались.
– Это повесть, которую вы когда-то присылали в наш журнал. Там приложено и написанное вами от руки сопроводительное письмо.
– Неужели? – дошло, наконец, до Талгата-агая. – Да, не удивительно, что забыл, столько лет уже... Именно эту повесть я послал? Совершенно не помню, много лет прошло. Да-а, видимо, она и была. Ну, ты молодец, упорный, нашел-таки. Прочитать-то успел?
– Прочел.
– И как? Давненько была написана.
– Замечательная, потрясающая!
– Ты все время хвалишь меня, – Талгат-агай громко, на всю аудиторию рассмеялся.
– Как по-другому сказать, если действительно замечательная. Я ее переведу и отдам в наш журнал.
– Хорошо. «Переправа, переправа! Берег левый, берег правый. Снег шершавый, кромка льда… Кому память, кому слава, кому темная вода. Ни приметы, ни следа...» Чьи стихи, знаешь?
– Нет.
– А это надо знать. Советский классик. Твардовский. Поэма «Василий Теркин».
Опять осрамился. Придется найти и прочитать.
– Ваши произведения я начал читать не так давно. Если бы пораньше, хотя бы на первых курсах студенчества узнал о вас, очень жалею сейчас об этом. Ни книг ваших не встречал, ни преподаватели ничего не говорили. В университетской программе русская, советская классика есть, а ваших произведений нет...
– Значит, я не классик. Писатели-фронтовики сейчас уже выходят из моды. Приносишь в редакцию журнала что-нибудь, первым делом спрашивают: «О чем?» Когда говоришь, про войну, отвечают – «неформат». В моду вошли слишком сложные, заумные, закрученные, совершенно непонятные по содержанию публикации. Ни уму, ни сердцу. Такое отношение идет от взгляда на литературу руководителя страны. Он даже не говорит такие слова, как «культура», «литература», «интеллигенция». Власть закрыла литературу в самую дальнюю и темную кладовку квартиры. Разве тема войны может быть «неформат»? Чтобы не вспыхнула новая война, мы должны неустанно писать о ней. Стоит только войне исчезнуть из памяти народа, сразу голову поднимут неофашисты. Школьную же, вузовскую программу составляют не писатели, а очень далекие от литературы чиновники.
– Ваша повесть «Сто шагов на войне» начинается так: «Все дальше и дальше от меня война. С годами война эта как бы снова начинает приближаться ко мне, вспоминается все чаще и пронзительней, и мнится порой, что она, только она и была главным событием и главным делом моей жизни, или как будто всю жизнь я был солдатом, только солдатом...» После прочтения ваших военных повестей эти слова, кажется, можно понять, однако у вас есть жизнь и до войны, и после нее, почему же вы придаете войне такое значение? На этот вопрос вы только что вроде уже и ответили, и все же хотелось бы, чтобы еще раз рассказали в более широком плане.
– Во-первых, в молодости каждое событие сильно впитывается в память. Война для 17–18-летнего парня – большой стресс, не виданное доселе испытание. Как же может не остаться в памяти внезапная смерть идущего рядом с тобой товарища, твое полуголодное существование, постоянное недосыпание, встреча с глазу на глаз с немцем, тупость и грубость командиров? Это невозможно забыть. И все это, когда пришло время, вошло в повести. Конечно, надо бы избавиться от них, выдавить из себя, но не получается, чувство войны всю жизнь в сердце…
– На той встрече в библиотеке один товарищ сказал, что в ваших произведениях много трагических моментов, и спросил: это война наложила такой отпечаток или же детство было уж больно тяжелым?..
– Как уже говорил, война для меня – это личная трагедия. События тех дней: взрывы мин, разрывы снарядов, свист пуль, смерть товарищей рядом с тобой, стоны раненых, лежание на дне холодных окопов, где снег вперемешку с водой, длинные марш-броски – все это не изгладится из памяти до самого конца жизни. Я не могу не писать об этом, это мой гражданский долг. Не только я, многие фронтовики были в таком положении. Я должен успеть рассказать обо всем этом сегодняшнему молодому поколению. Если не я, то кто расскажет? Писателей, участвовавших в войне, с каждым годом становится все меньше.
– Кем вы себя считаете больше: башкирским писателем или русским?
– Все, кто берет у меня интервью, задают такой вопрос. Вижу, что и тебе поручили задать его. Оказывается, наших литераторов тоже беспокоит этот вопрос. Удивительно. Чаще всего русские задают: с какой это стати, мол, этот нацмен пишет на нашем великом русском языке? Я башкирский писатель, пишущий на русском языке. Это мое несчастье, беда отлучения с самой молодости от родного языка, родной литературы. Если бы мог, первое же произведение написал бы на башкирском. Как же может быть не башкиром человек, который плачет, слушая «озон кой» – протяжные песни? Башкирская песня на человека другой нации не оказывает такое впечатление. У меня есть один друг из русских, хороший человек, он говорит, ваши песни, мол, это какой-то вой. В том, что многие люди глухи к чужой культуре, искусству, литературе, нет ничего удивительного. Одним словом, я представитель башкир в русском мире. Это в более широком плане. Удовлетворен ответом?
– Да, извините, я и сам был того же мнения.
– Выходит, этот вопрос все же тебе в редакции поручили задать. Не так ли?
Я ничего не ответил. Сказать «да» почему-то было неудобно.
– Некоторые и в этом видят какую-то крамолу. В русской литературе таких, как я, много. Айтматов, Ким, Рытхэу, Валиев, например.
– Тогда давайте этот же вопрос переведем в другую плоскость: как начался ваш путь в русскую литературу?
– Кто же знает, как все это начиналось. Наверное, ни один писатель не сможет точно ответить, какая дорога привела его в литературу, потому что не знаешь, когда началась эта дорога. Я ведь в пятнадцать лет ушел из деревни. По-русски вообще не говорил. Знаний почти никаких. После войны, по завершении строительства ГЭС на Кавказе, приехал в Москву и поступил учиться в вечернюю школу. Посадили меня в седьмой класс. А я и в деревне семилетку окончил. По русскому языку пишем диктант, сочинение. У меня двадцать–тридцать ошибок. Математика тоже дается с трудом. В восьмой класс не перевели. Осенью перешел в другую школу. Снова в седьмой класс. Теперь уже, по второму кругу, вернее, третьему, учеба пошла сравнительно легче. Начал решать задачи, примеры по алгебре, довольно пожилой уже учитель каждый день вызывает к доске. Ко мне он был очень требователен, никаких поблажек не делал. А вот по русскому по-прежнему тяжело. Совсем еще молоденькая красивая учительница не обращала на меня никакого внимания, лепила одни двойки. Весной, на выпускных экзаменах, сочинение я написал на четверку. От одноклассников узнал, что есть, оказывается, такие экстернаты, где можно пройти трехгодичную школьную программу за один год и получить аттестат зрелости. Для меня это был очень подходящий вариант. Отыскав один такой экстернат, в августе сдал вступительные экзамены. Сочинение написал на «пять». Неожиданно вызвал директор школы и стал допытываться: «Кто вам написал сочинение?» Я удивился: «Как это кто, сам написал», – говорю. А он никак не верит, что я сам написал. Поверил бы, наверное, если бы моя фамилия была Иванов, Петров или Сидоров, но он подумал: как этот маленький заморыш-нацмен может написать, наверняка кто-то грамотный помог. Директор внимательно смотрел на меня. Он меня совершенно не знает и судит обо мне только по внешнему виду. Все дело в национальности: не русский, а как написал, значит, в школу его не брать, таким среди представителей великой нации нет места, таким можно и неучами остаться… «Если не верите, это же сочинение я тут же, перед вами напишу, можете и почерк сверить», – говорю ему. «Ладно, ладно, – пошел на попятную директор, – бывает и такое. В прошлом году у нас кореец учился, писал грамотнее любого русского. Я только поэтому...»
Взяли меня в школу. Чтобы быть поближе к учителю, классной доске, сел на первую парту. Учительница по литературе очень хорошей оказалась – я обо всем забывал, когда она рассказывала о русской литературе. Некоторые мои сочинения она зачитывала в классе как лучшие – в качестве примера для подражания.
Прошла зима, настала весна. Выпускные экзамены сдал успешно и получил аттестат зрелости, о котором давно уже грезил. Это была моя первая победа. А вторая победа – это поступление в Литературный институт. Об этом уже рассказывал. Всего достиг благодаря своему упорству, целеустремленности. Параллельно с учебой в вечерней школе еще и работал. Сначала фрезеровщиком на арматурном заводе, потом кочегаром в котельной. В общежитии в одной комнате живем пятнадцать человек. Тут я потихоньку начал пописывать. Вот такой длинный ответ на твой короткий вопрос. Сумбурно рассказываю, когда будешь готовить материал, сам упорядочишь.
– По сравнению с тем, что рассказываете, в ваших произведениях, когда их читаешь, видно, что нелегко вам пришлось в жизни. Как вы все это выдержали?
– Кондратьев тоже, бывало, спрашивал у меня: как ты терпел такие муки, как не запил, да как в петлю не сунул голову? Пьянство, как правило, передается от поколения к поколению в качестве генетического наследства, а я к этому не был готов, то есть в роду не было пьяниц. Перед боем обычно давали сталинские, наркомовские сто грамм, я их своим товарищам отдавал. В Красной Поляне работа проходчика была очень тяжелой, ребята пьют, я не могу. А почему перед судьбой не согнулся, не сломался – это уже другой вопрос. Из этого капкана я выкарабкивался, не давая покоя ни себе, ни людям. Видимо, была во мне какая-то внутренняя сила, энергия. И потом, Чехов мне очень помог. Читая его произведения, успокаиваюсь, в душе наступает какое-то умиротворение, как будто начинаю видеть смысл своего существования. Воздействие этого великого писателя на меня сродни мистике. Повлияли, наверное, и слова покойного отца: когда вырастешь, я тебя в город отправлю, ты учиться должен. Эти слова тоже сыграли свою спасительную роль. Многие мои сверстники умерли от пьянки. Очень многое зависит от того, в какое окружение, в какую среду попадешь. Я попал в самую жесткую и жестокую среду: война, голод, недосып. В забое на каждом шагу стресс: на тебя может свалиться порода, горы камней, безмерная усталость, плохое питание.
Когда в 1950 году после Красной Поляны приехал в Москву, она приняла меня как мачеха. Вообще, столица всегда неласково встречает иногородних. Сначала было очень тяжело, попал в ряды рабочего класса, встал за станок. Велика была тяга к знаниям, к учебе. А мне говорят: «Куда лезешь с таким рылом, век живи – дураком будешь».
– Один из ваших героев на войне занимается рисованием и рассуждает об этом виде искусства на уровне профессионала. Его рисунки солдаты, командиры воспринимают достаточно серьезно. Не увлекались ли вы и сами изобразительным искусством?
– Я любитель, самоучка. Технику рисования не изучал, в тонкостях жанра не разбираюсь. Исключительно по велению души. Во время войны в минуты отдыха, на дне окопа, на привале, бывало, рисовал на случайно попавшихся под руку клочках бумаги лица солдат, а когда перешел в кавалерийскую часть – коней, картины войны и природы. Прознав про это мое увлечение, более шустрые солдаты, не довольствуясь только своими портретами, приставали ко мне с просьбой нарисовать обнаженных женщин. Польза от этого занятия была одна: авторитет среди товарищей вырос, многие стали обращаться ко мне не иначе как «художник».
– Может быть, у вас с детства было стремление? Художником не мечтали стать?
– Была такая мечта. После войны замполит поручил мне оформить полковой клуб, а когда я демобилизовался, он даже написал живущей в Краснодаре своей сестре, чтобы она помогла мне устроиться в городе художником. Только в Краснодаре и без меня художников хватало. Хотели взять в школу учителем рисования, но, когда узнали, что нет паспорта, отказали.
И все же страсть к рисованию осталась на всю жизнь: портрет жены Мадины написал, рисовал виды Красной Поляны, родной деревни, осенних копен, сделал копию картины Левитана «Март». А вот попытка нарисовать копию картины Архипа Куинджи «Лунная ночь на Днепре» не увенчалась успехом, ничего не вышло. Свет луны на воде никак не передать. Оказалось, что эта очень тонкая работа мне не по плечу и не по зубам. Мне кажется, такое не сможет повторить даже профессиональный художник.
– Чем же вас привлекла картина Левитана «Март»?
– Причина – в детстве. Я сижу дома. Голодный и без одежды. Особенно тяжко зимой – на ноги надеть нечего. Заворачиваю ступни в портянки и бегу в школу. Ноги мерзнут, но уроки не пропускаю. В классе надо мной смеются. И вот в один из таких морозных зимних дней принесли несколько репродукций картин. Учитель каждую показал по отдельности, друг за другом. Мне больше всего понравилась как раз та самая картина Левитана «Март». Холодная длинная зима изрядно надоела, заморозила, душа ждала весны. Весна – это праздник, тепло, солнце, на ноги надевать не надо. И вот эта картина. Как только увидел ее, сразу поднялось настроение, как будто теплый март наступил. Солнце припекает, снег тает, скоро ручьи потекут, вороны закаркают. Тогда и родилась мечта: вырасту и стану художником, как Левитан, буду дарить тепло таким же замерзающим мальчишкам, как сам. Не получилось. Но другую свою мечту все-таки удалось осуществить: увидел оригинал картины «Март». В Москве, зайдя в Третьяковку, долго не мог оторваться от этой картины. Сразу нахлынули воспоминания: детство, школьные годы, холод, голод, учительница, показывающая вот эту картину. Настоящий талант, оказывается, может произвести огромное впечатление и на неподготовленного человека. Мир изобразительного искусства удивительно интересен, загадочен, он всегда манил меня. Кстати, в Уфе же есть, наверное, художественный музей либо выставочный зал?
– Есть. Музей имени Нестерова и несколько выставочных залов.
– Оказывается, Уфа богата. Как-нибудь сходим. Выберем время.
– Конечно, сходим.
На другой же день я зашел в библиотеку Дома печати, нашел сборник Твардовского и перечитал его поэмы «Василий Теркин», «Страна Муравия», «За далью – даль», некоторые стихи. Конечно, многие из них в какой-то мере знакомы, проходили в школе и в университете изучали, однако никогда нелишне повторить чтение произведений великого поэта. Когда переведу повесть «Переправа», Талгат-агай может снова спросить, прочитал Твардовского или нет. Не хочется второй раз осрамиться. В общем, как говорится, освежил память.
(Окончание в следующем номере)
