№5.2023. Эльза Гильдина. Но музыка звучит со всех ветвей
Повесть
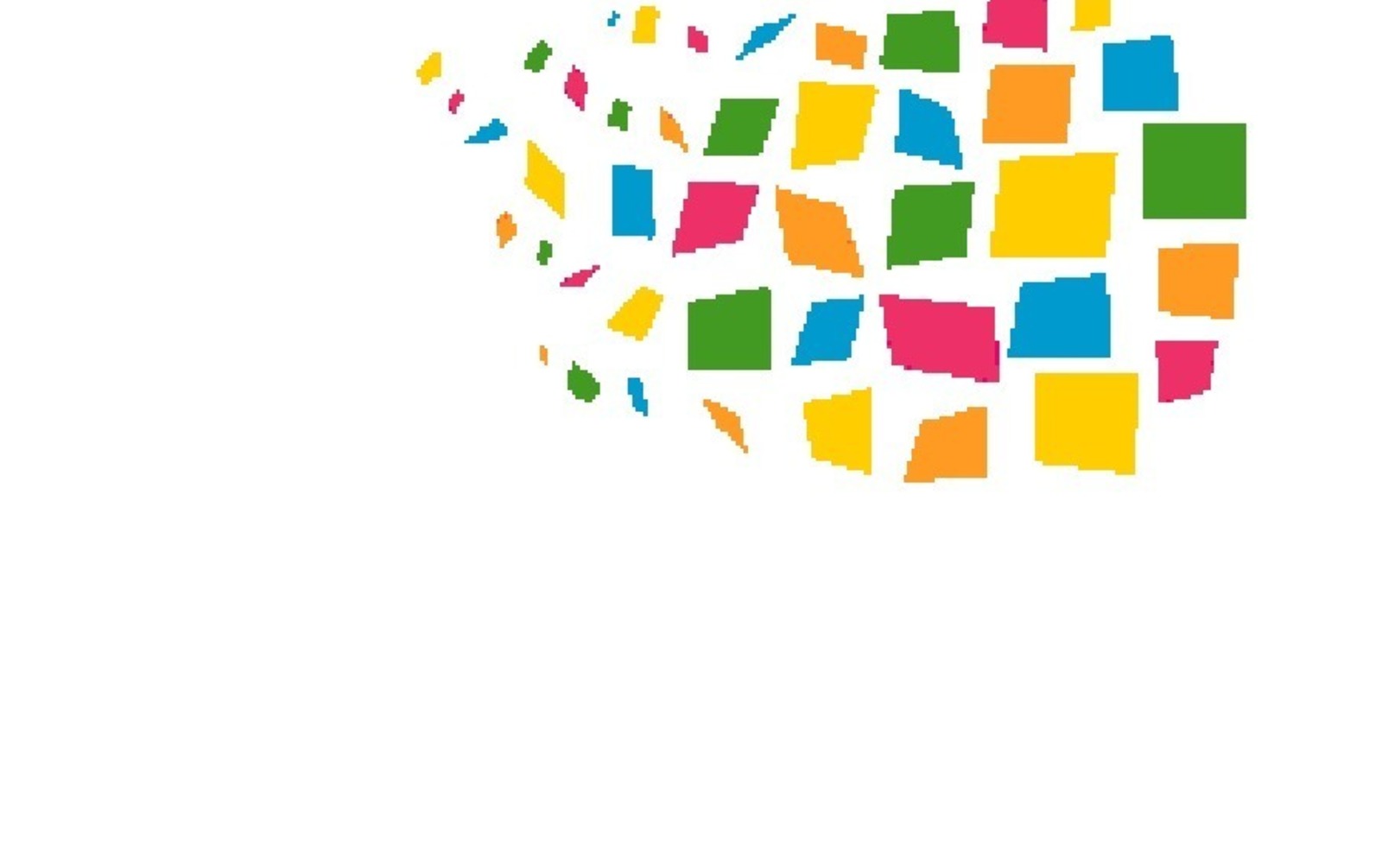
Я знаю, эту проходящую жизнь
Не вернуть уж обратно,
И всё же не печалюсь сильно,
Всё так же ступаю по своему пути.
От сотворения мира и по сей день
Ангелы ведут нас за руку.
Если этот мир будет оставаться цел и невредим,
Большего мне и не надо.
Перевод песни «Проходящая жизнь»
(автор и исп. Фарит Бикбулатов)
Посвящается памяти
Машуды и Нуруллы Калимуллиных
Ҡара ҡарға
Черный воронок
Отец пропал так неожиданно, что Машуда скоро забыла, как он выглядит, но тосковала по нему еще очень долго. Хуже всего, что тогда им с сестренкой Рашидой ничего не сказали. Даже мать неприятно отмалчивалась и только с каждым днем мрачнела все больше. Оставалось гадать, где он и что с ним. Но иногда доходили странные слухи, и односельчане выжидающе поглядывали в их сторону, некоторые даже перестали здороваться. И лишь соседская Халида, своенравная и вредная девчонка, в случайной ссоре прояснила тяжелые сомнения. Когда вместе играли возле лужи, что-то, как всегда, пошло не по ее воле, и она мстительно крикнула так, чтобы остальные дети услышали:
– А знаете, кто теперь Машуда? Дочь тюремщика!
Как страшно вдруг оказаться не тем, кем был раньше. Как страшно отличаться от других. И сразу начинаешь в это верить. А как не поверить, когда все, как по указке, осуждают и косо глядят! Все же не могут ошибаться. А вот Халида ошиблась. Тюремщик – это сторож или надзиратель тюрьмы. Но Машуда поняла ее, ведь беде, наконец, найдено слово – тюрьма. Оно нависло над головой, как грозовая туча. В остальном Халиде можно было верить. Она приходилась племянницей одному из свидетелей – председателю сельсовета Марату. Он показал на ее отца, когда случилось то подлое убийство. Якобы своими глазами видел, как в это же время отец с окровавленным топором проходил недалеко от места, где ограбили и зарубили кассира из райцентра. Одни тут же поверили, а другие не заступились, хоть и знали, что отец в тот день резал бычка. Но все понимали, дело тут нечисто, ведь по весне Марат-сельсовет не учел и присвоил новорожденных ягнят от казенных маток. Опять же все помалкивали. И лишь отец на собрании открыто пристыдил его, а тот лишь наливался спесью и на обвинения твердил одно: «Докажи».
В ту же ночь после убийства из райцентра примчалась троица в длинных кожаных пальто и широкополых шляпах, надвинутых на лоб. Двое остались в сенцах, а третий вошел в дом так лихо и тихо (дверь не запирали, брать все равно нечего), что полураздетые отец с матерью едва успели зажечь огонь, а Рашида в люльке даже не проснулась. Машуда через занавеску следила, как незваный гость привычно подошел к столу, расстегнул верхние пуговицы пальто, из внутреннего кармана вытащил злую бумагу, по которой отца увезли и топор забрали, а мать до утра и все остальные дни украдкой плакала. Машуда с той ночи мало что помнила и еще долго надеялась: кошмар привиделся. И как обрывок жуткого сна, в тусклом свете настольной керосиновой лампы с закопченным стеклом (бегать за керосином и чистить стекло – обязанность Машуды) блеснули тогда кровавым рубином шпалы на синих петлицах воротника гимнастерки оперуполномоченного. То был не сон. Эти в штатском часто наведывались по доносу или если сверху спускалась разнарядка. Что такое «донос» и «разнарядка», Машуда не знала, но догадывалась – это что-то хитрое и строго обязательное. Как школьное расписание или заведенные часы, и надо по их порядку жить... Только на пригорке перед въездом на главную улицу показывался черный грузовичок, весть тут же разносилась по дворам, начиналась сумятица. Взрослые мужчины втягивали головы в плечи, таили пугливые взгляды, а особо неблагонадежные и отчаянные егетляр сами прятались под урындык, то есть под нары. «Воронок» никого не жалел, мог утащить всякого, кто не по нраву, и возвращал не каждого. Тяжело быть взрослым. Если есть за ним вина, то в угол не поставят и не накажут, как детей, а увезут далеко-далеко, навсегда-навсегда, что и ждать перестанешь, и в сердце живьем похоронишь, и забудешь, как зовут.
С Халидой они до глубокой старости делили одну улицу. Куда бы Машуда ни переезжала с семьей, вездесущая и назойливая Халида, тоже выйдя замуж, как нарочно селилась рядом, чтобы через плетень докучать и, как сорока на хвосте, приносить дурные вести, передавать сплетни о неверности ее мужа. Машуда терпела и прощала. Своя же, не чужая. Землячка. И детство общее, и такая похожая взрослая жизнь, долгая-предолгая... И только на ее похоронах Машуда, казалось, вздохнула с облегчением, хотя сама пережила заклятую подругу ненамного, ведь делить стало нечего...
Ҡаҙ өмәһе[1]
Праздник гуся
В один из дней мать наказала наскоро собираться в дорогу. Другого времени не нашлось: как раз выпал первый снег, но запрягать в сани еще рано. В ход пошли нелюбимые колючие варежки на веревочках, толстые носки и тяжелые валенки. Рашиду взяли с собой, оставить не с кем. За воротами дожидался Юлай-олотай с запряженной лошадкой Мальчиком. Олотай то и дело забегал в сенцы и подгонял мать.
В телеге лежала прикрытая холстиной баранья туша. Значит, едут в гости. Девочек поглубже зарыли в сено, почти на самое дно телеги, накрыли пуховыми шалями, стеганым одеялом, отцовским тулупом и еще сверху охапкой душистой соломы, из-под которой они выглядывали, как напуганные зверушки. Машуда заранее съежилась, чтобы обмануть холод, чтобы он не приставал к ней, ведь она и так его боялась. А взрослым все нипочем. Мать в суете забыла о себе и, одетая налегке, пристроилась на облуке рядом с олотаем в распахнутой фуфайке. Недалеко от деревни, на припорошенных снегом мостках речки Таналык шумела под гармонику молодежь. Оттуда навстречу по гусиной дороге[2] тянулись цепочкой женщины в цветастых платках и с омытыми в водоеме, покрытыми тонкой ледяной корочкой гусиными тушками. Их подвесили на коромыслах вместо ведер. Радость хозяек была так безмерна, ничего не замечали вокруг, что на ходу затягивали песни и пускались в пляс под ту же бестолковую гармонику. Дома их печки натоплены.
Кому хоровые песни, а кому одинокие слезы. Кому работа, а кому дорога. Кому счастье, а кому ненастье. Глядишь на чужой праздник, еще горче становится на душе. Матери придется самой на зиму заготавливать мясо и набивать мягким пухом подушки и перины. Прежняя постель давно отсырела и поизносилась, стала несвежей и тяжелой от пыли, сколько ни выставляй на солнце и ни выбивай на ветру. Сегодня она достала бы из сундука синий платок с красной каймой и расшитый фартук, позвала бы подруг потрошить и щипать гусей, пошла бы на водоем с украшенными коромыслами, вечером приготовила бы өлөш[3], и отец, довольно кряхтя, нахваливал бы крепкий бульон. И лежали бы на столе беляши с гусиными потрохами и блины, смазанные гусиным жиром и даже медом. И не терзалось бы сердце, и было бы так тепло и сытно! В деревне хоть и принято считать, что никто не останется один на один со своей бедой, все разделят чужие тяготы, но на самом деле помогают друг другу, только когда все хорошо. Теперь дела с их семьей перестали быть общими. Слово «тюрьма» замарывает. Никто не откликнется на мамино приглашение потрошить и щипать гусей. Даже жена олотая не придет, разве что он сам забьет птицу, но на чай не останется. Конечно, у них не так много гусей. Теперь ни у кого их много не бывает. Кроме Марата… Мать, чтобы дать весточку своим родителям, всегда с письмом отправляла гусиное перо, прикрепленное к согнутому и связанному в круг прутику. Давала знать, что изнывает в тоске и готова прилететь в отчий дом на крыльях. Еще она отрезала пух вместе с кожей, сушила, посыпала мукой, встряхивала и пришивала к детским шапочкам и люльке как оберег от всех болезней и несчастий.
Хочешь прогневать судьбу, родись и живи в степи, а потом поезжай к Оренбургскому этапному тракту. Все напасти на тебя повернет. Юлай-олотай второпях не смазал дегтем колесо в дорогу. Он с беспокойством на него оглядывался и даже останавливался, чтобы еще раз убедиться: дело пока терпит. Мать сокрушенно качала головой, места себе не находила. Каждый скрип колеса неприятно отзывался в сердце. Лишь бы не повернули назад, ведь приличный путь проехали! Ни туда ни сюда. То одно то другое. Что за жизнь… Но Юлай-олотай не передумал. Ведь ему брат Гимай – как Машуде ее Рашида. Ехали молча, словно боясь спугнуть короткую удачу. Лишь изредка взрослые переговаривались меж собой, а детей не спрашивали, не тревожили. Машуда тоже лишний раз не напоминала о себе – матери не до того. И старалась не двигаться, не менять положение, чтобы ненароком не распахнуть общее покрывало, не выпустить драгоценное тепло. Но все равно отвлекалась по сторонам. Так далеко от деревни еще не выезжали, даже за ягодами. А за ней ничего интересного, ведь уже не лето.
Время в степи перестает служить людям. Наоборот, затягивает, подчиняет, и само пускается на волю, размывается и тянется долго-долго, без конца и края, как сама дорога. С ним не сладишь, за ним не уследишь, можно только свыкнуться. Потому что здесь поселилась сама вечность. Здесь ее приютили. Машуда, не касаясь неба и земли, сама будто тонула в ее пустоте. И только мысль, что едут навестить и проводить отца, не давала покоя, удерживала на поверхности. Сестренку же телега, как большая люлька, быстро укачала. Она растворилась в своих детских снах и, как всегда, слегка посапывала, сладко причмокивала. Машуда прикрыла ей шалью рот, чтобы та не застудила горло. А сама позавидовала ей, ведь Рашида еще маленькая и ничего не замечает. Но, глядя на лицо матери, вечно обветренное, изможденное, нервное, себе позавидовала больше. По сравнению с ней Машуда еще меньше понимает и крепче спит.
Вдруг степь задумала себе буран, вот-вот разродится. Горизонт стерся. Все подернулось легкой тающей снежной дымкой, а потом и вовсе затянуло плотной ровной занавесью. В другое время Машуда всегда радовалась первым снежинкам, таким мохнатым и чистым, будто еще не успели измельчиться и озлиться на мир. Но теперь вьюжная колючая крупа сыпала в глаза и за ворот, хлестала по пунцовым щечкам, набивалась в карманы и складки одежды. Промокшая просквоженная солома растратила накопленное тепло и больше не спасала. Окутавшая пелена из-за ветра иногда рассыпалась, и в приоткрытой щели по сторонам дороги проступали редкий осинник и вересковые заросли, как старые черные трещины белого света, ведущие в пустоты зловещего оборотного мира. Отдельно растущим деревьям в этих местах не выжить. Бывало, ураганы с корнем вырывали вековые деревья, а про дикие кусты говорить нечего.
Машуда, окруженная этим стелющимся и растекающимся саваном, представляла, что загодя участвует в похоронном обряде, приноравливается к будущей смерти. В голове звучала музыка, печальная и ломаная, как сама буранная степь, с нескладными паузами и досадными заминками. Мальчик вяз в наметенных сугробах, но упорно ступал вперед. Ведь застрять в непогодной степи – хуже некуда. Башкирские лошадки выносливы и толковы. Если возница сбивался с пути и бросал вожжи, то они сами находили дорогу, выводили куда нужно. Только помочь надо. Все, кроме Рашиды, слезли и стали толкать неуклюжую телегу. Мать рвала на себе волосы, плевалась на бурю, а она в ответ свистела, выла и хохотала. Мать проклинала долю, увещевала Аллаха не губить ее детей, которые по Его же недосмотру и сделались наполовину сиротами. От ее причитаний щемило в груди. Обычно мать всегда искала выход. Сильнее ужаса нет, когда старшие теряют голову. Навела степь на них слепой морок. Даже Рашида не смела пикнуть при матери, напугавшей больше, чем сама стихия.
Юлай-олотай долго терпел, но все же осадил мать за богохульство. Аллах в степи все равно не услышит, а дети же смотрят… Та смиренно стихла, лишь изредка всхлипывала. А степь будто сжалилась. Буран, хищная птица, попугал малость степных зверушек да прошел стороной, слегка задев широкими крылами. Небо прояснилось, снежный сумрак расступился, они выбрались, наконец, на ровное место, и телега среди застывших белых волн тихо поплыла дальше.
Много лет спустя в Уфе Машуду Гимаевну пригласят в Театр оперы и балета на вечер Баха. Она много не выдержит – музыка без слов и танцев – захочет уйти, но когда со сцены польется вторая часть «Итальянского концерта», она узнает свою мелодию из детства, которую в дороге напевала белая мгла, и заплачет.
Дөйөм йорт
Общий дом
Впереди наконец замаячили огоньки. Они мигали, схлопывались, как мыльные пузыри, и снова вспыхивали. С горем пополам все же успели до полной темноты. Остановились возле большого дома из побуревшего кирпича с маленькими решетчатыми окнами, перед которым стояло несколько телег с женами и детьми. Олотай взвалил на плечи баранью тушу, мать понесла тулуп, связанные шалью теплые вещи, и отправились в странный мрачный дом. В таком доме не живут. Это была пересыльная тюрьма. Вот и добрались до изнаночного мира, который мерещился в вересковых трещинках.
Девочек оставили в телеге. Послушная при матери Рашида сдалась и противно заканючила. Машуда сама еле языком ворочала. Руки и ноги закоченели. Из последних сил, как могла, утешала сестру. Но та ей не верила. Чтобы чем-то развлечь, Машуда помогла сестренке выбраться и устроила вокруг телеги небольшие салочки. Но Рашида и тут не оценила ее стараний. Озиралась по сторонам, спотыкалась и продолжала хныкать. В самодельных шубках тяжело передвигаться, тянет к земле, боязно отбегать от лошадки, которая привычно вытаптывала сугроб, вырывала мордой остатки снега, чтобы добраться до колкой ледяной травы. Наконец взрослые вернулись. Баранья туша ушла конвойным (так договорились), а теплые вещи передали отцу на коротком свидании. Кто же знал, что они ему иначе пригодятся. За теплые вещи в лагере выторговывали себе здоровье и жизнь.
Лицо у матери от слез совсем распухло, и глаза сузились в щелочки. И Юлай-олотай будто сам не свой, уголки рта чуть подрагивали. Но при детях взяли себя в руки и принялись обсуждать, как быть с чекой, которая удерживала колесо телеги на оси, а в дороге, оказывается, выскочила. Юлай-олотай пообещал наутро выстрогать новую чеку. Здесь недалеко приметил опытным глазом сухое поваленное дерево. Или, на худой случай, вместо чеки замотает ось куском проволоки…
Машуде все это неинтересно. Она надеялась, что их тоже отведут к отцу или он сам выйдет к дочкам. После сестренки ее капризам пришел черед:
– Вы сами были там долго! – Машуда перебила их. – Я тоже хочу увидеть отца!
Обессиленная мать потеряла терпение и прикрикнула:
– Зачем кричишь? Здесь другие порядки!
Но Юлай-олотай сказал мягче:
– Мы долго просили, а видели его чуть-чуть. Только обняться успели. Отец сильно устал. Они там отдыхают. Они шли два дня. Он просил тебя хорошо учиться, слушать мать, смотреть за сестрой, никогда не бросать и помогать им, – и после паузы добавил: – Тогда, может, вернется.
Искать постой негде, в округе нет деревень. Другие устроились на ночлег здесь же в телегах под открытым небом. Облака – будто пленка несвежей стоялой воды в темном бездонном колодце. Правда, иногда в облачных прорехах посверкивали звездные песчинки, как тайный знак. Никто не мог его разгадать, на земле бы разобраться.
Чуть отъехали от тюрьмы и за большим камнем, чтобы не задувал ветер, развели огонь. В золе запекли картошку, которую взяли с собой, в чугунке растопили снег. Вода получилась мутной, сорной, но она согрела, в животе потеплело. Пока взрослые готовились ко сну, Машуда зажженным концом прутика, которым выкатывала картошку из золы, вычерчивала в небе контуры неведомых созвездий. Под телегой расчистили запушенный инеем ковыль, слабо дышавший и пока не ушедший в спячку. Перенесли вниз подсушенную солому, зарылись в нее и подоткнулись со всех сторон. Олотай остался смотреть за костром. Ночью мать его сменит, чтобы тоже отдохнул перед дорогой.
Машуда сильно наплакалась, отчего утомилась больше, чем за весь день. Глаза заволакивало. Вроде бы только заснула, как уже сквозь щели ночного укрытия робко сочился серый утренний свет. Из общего дома выгнали арестантскую партию и единым скованным строем отправили дальше. Конвойные с карабинами подгоняли. Было ясно, что идти им еще очень долго. На телегах всполошились. Все старались перекрыть общие стенания, истошно выкликивая имена своих мужчин. Машуда тоже вскочила на телегу, мать взяла на руки Рашиду, но не заголосила, как другие, не стала напрасно бередить сердце. Выдержка и терпение – тоже благословение невольному путнику. И вместе старались различить родные глаза в проходящей колонне. Если отец их и заметил, то они его точно не узнали. Арестанты, похожие друг на друга, сливались в одну черную массу.
Йоҡлап курган
Спящий курган
Другие привыкли к степным курганам и не замечали их. А Машуда верила – это боевые шлемы древних великанов, которых раньше стрелой не достать, а теперь вросших в землю. Наверно, рост их превышал путь, который смертный человек преодолевал за весь день. И тень их достигала такого же расстояния. В сказках говорилось: если нападут враги и застонет степь, то поднимутся исполины, раздвигая могучими руками песок и камни, расправляя занемевшие плечи, отряхиваясь от многовековой пыли, звеня кольчугами, копьями и мечами…
Враг напал, и всем мужчинам пришла повестка, кроме Марата, у которого, кажется, на все случаи жизни броня. А батыры тоже не спешили подниматься на защиту.
Врага обратили в бегство. Немногие мужчины вернулись. На Юлая-олотая пришла бумага – «Пал смертью храбрых». У Халиды отец пропал без вести. А вековые стражи так и не пришли на помощь. Наверно, не слышали выстрелов и бомбежек. Война не добралась до этих мест. Машуда поняла: человек всегда один, а степь сама по себе, а герои былых времен, эти громады и величины, сколько их ни упоминай, не привязаны к бестолковым потомкам, даже самая лютая война не задерживается в их головах, все плохое быстро забывают, а жить в мире тоже долго не могут. И, словно всем в отместку, стала представлять, что земляные насыпи – это увиденные на картинках кашалоты, заснувшие на дне древнего моря. Древнее море ушло, а юртовые степняки и кашалоты остались. Самые высокие холмы казались зубчатыми спинами ящуров, а их отлетевшие души – застывшие в небе и растянувшиеся до самого горизонта облачные хлопья. Будто эти облака уносят драконов умирать на гору Кафтау[4]. Видно, как наверху они волнуются и бьют хвостами. Чего только в голову ни придет, когда подолгу смотришь на облака.
Мать целыми днями пропадала на ферме. По двадцать коров два раза в день выдаивала. Руки искривленные, но хватка стальная, а сама вся будто прозрачная. Машуда с сестренкой тоже засветло убегали из дома пасти козу Майку, настолько одомашненную и ручную, что ей даже не надо стягивать рожки или привязывать к колышку. На обратном пути серпами подкашивали траву для будущего сена, охапки перевязывали обрывками старых вожжей и несли на плече. Коза послушно брела за ними, как собачонка. Под вечер приносили в корзине ягоды, а в ведре пескарей и карасей. Рыбы вылезали на песчаную отмель греться на солнце. Сестры ждали, пока они угомонятся, перестанут вилять хвостами, и резко набрасывали на них отцову рубашку, будто сетью накрывали, тут же завязывали узлом. Попадалось по три-четыре штуки. И Майка давала молоко как раз на три чашки. Тем и жили – три подпорки друг другу. В деревне краюхи хлеба не достать. Все уходило на фронт. Даже Марат слегка осунулся. Главное, до весны продержаться на картошке, от нее никуда, а летом ничего не нужно, кроме голода и того, что растет под рукой.
Этим летом у Машуды появился новый интерес ходить за деревню. В голове несколько недель зрел план. В один из дней, еще до жары, они с сестренкой вышли за ворота с пустым мешком и лопатами. Миновали речку Таналык, из-за весенних дождей пока радостную (скоро засуха усмирит ее нрав), и углубились в высокий березняк, за которым открывалась холмистая степь, с ночи повитая, убереженная ползущей туманной шалью, а теперь увлажненная росой, как темно-зеленое бутылочное стекло, еще не выгоревшая и расцвеченная сочным разнотравьем. С ветром проступали душистые пряные запахи... Они уверенно рассекали прелый трескучий бурьян, из-под ног вспархивали разбуженные мелкие птицы и тонкие бабочки, невпопад выстреливали кузнечики. Машуда на ходу прикидывала, к какому из курганов подступиться. В итоге выбрала южную сторону ближайшего:
– Здесь земля мягче, – и с размаху воткнула лопату в травяной ковер, наклонила на себя и, нажав ногой на ее стальное плечо, приступила к работе.
Рашида, глядя на старшую сестру, тоже деловито поплевала на ладони и взялась за отполированную руками матери березовую рукоять. Ее лопата меньше, но ей самой не легче – как степная былинка. Под ее весом нетронутая земля с трудом поддавалась.
Больше часа в сосредоточенном молчании подкапывали курган с разных сторон, идя навстречу друг другу. Из-за сбившегося неровного дыхания и бьющейся в висках крови едва различали, как степь бормотала им на разный лад: ласковым щебетаньем, робким пиликаньем, густым жужжанием, бодрым стрекотаньем. Утренняя свежесть давно испарилась. Нагретый воздух будто застыл, неподвижный и сонный. Концами повязанных на головы платков девочки утирали лица, а пот все равно застилал и щипал глаза, перед которыми все плыло. Духота налипала все больше. Знойная степь – как нагретое блюдце или кипящий казан. Облака – пена, которую сверху забывают снимать шумовкой.
Рашида с непривычки чаще переводила дух, но работу не бросала, то и дело украдкой высматривала старшую сестру, ждала, когда та сдастся первой. Рашида хоть и младше, но и ей упрямства не занимать. С годами Машуда становилась похожей на мать: строгой и отстраненной. Последний сухарь отдавала, спали рядом – щека к щеке, по настроению могла приласкать, но лишние капризы пресекала: «Ярамай! Ты уже не маленькая». Рашида и сама понимала, много внимания не брала, равнялась на сестру.
Машуда подула себе на взопревший лоб, встала на пригорок и посмотрела вдаль, подставляясь теплому ветру и любуясь, насколько хватало взгляда, холмистой медовой равниной. Ветерок приятно холодил застывшую соляную корку пота на лице. Отдышавшись, вытащила из кармана и разделила на двоих большой огурец, завернутый в подмокший газетный обрывок. Несколько минут в полной тишине хрустели огурцом крепкого посола, потом прилегли на траву, закинув руки под голову и рассасывая твердую пластинку вишневой пастилы. Кислинка прошлогодней дикой ягоды приятно распускалась во рту и заглушала голод. Рисовое небо шептало им о каком-то другом мире, птичьем, полетном. Над ними высоко и неподвижно висела черная точка. Коршун добывал себе на ужин суслика. Семейство гнездилось в березняке, ждут не дождутся своего кормильца. Видно, удача улыбнулась, и точка вдруг сорвалась, стремительно увеличилась и пронеслась над степью куда-то дальше. Машуда казалась слишком увлеченной мыслями, чтобы отвлекать ее вопросами, но Рашида все же осмелилась:
– Откуда в курганах сокровища?
– Наверно, какой-нибудь хан запрятал, боялся набегов, – пожала плечами Машуда, словно дело пустячное, клады сплошь и рядом зарывают, – а мы возьмем и найдем.
Когда она толковала о чем-то важном, то всегда переходила на русский, как в школе, когда отвечала урок возле доски. Рашида и в этом пыталась ей подражать.
– Ты узнаешь золото?
– Мне случалось видеть золото, – степенно отвечала Машуда, – жена и дочери Марата-сельсовета ходят в серьгах и кольцах.
– Золото, наверно, тяжелое, – беспокоилась Рашида, будто уже нашла его, – как мы унесем? И куда потом денем? Мама начнет ругаться…
– Наоборот, радоваться будет. Сдадим государству, и нам положено двадцать пять процентов. Вместо них попросим отпустить отца.
– Один процент все же себе оставим, – подумав, решила Рашида, – когда отец вернется, много чего надо купить…
И они всерьез обсуждали, чего еще могли бы себе позволить на заслуженные деньги. Ведро совсем прохудилось. В базарный день петушком на палочке полакомятся. И старые половицы жалобно скрипели, словно просили о помощи. И печка угарная, вся в щелях, глина вывалилась, давно пора звать печника… Эти мечтания придали сил больше, чем речка, к которой вернулись утолить жажду и смыть с лица спекшуюся пыль, прежде чем снова вгрызться лопатами в основание кургана.
Көмөш тәңкә
Серебряная монета
Нельзя сказать, что трудились без устали и ни разу не присели. Прерывались на короткий отдых. Но хотели другую усталость, не пустую, а легкую и приятную, как награду за полезный труд. Никто не подгонял, сами торопились. Боялись не успеть дотемна. И только серо-зеленые мшистые валуны, принесенные сюда древними ледниками, похожие на шершавых неповоротливых бегемотов, затаенно наблюдали и как бы с ленцой усмехались: «Вот же, иҫәр ҡыҙыҡай[5], придумали себе занятие! Ни до вечера, ни сегодня, ни завтра, ни до Второго пришествия пророка Исы (мир Ему и благословение) не управитесь! Мы давно тут лежим. Не видать вам ханских сокровищ как своих ушей».
Штык лопаты наткнулся на что-то твердое. Отбросив инструменты и упав на колени, сестры принялись жадно разгребать сырую тяжелую землю. Машуда что-то нащупала, и, ухватившись руками, упершись ногами, вытащили продолговатый предмет. Кладоискатели от радости обнялись и запрыгали вокруг находки. Успокоившись, принялись счищать с нее землю и с огорчением поняли, что это мятое ржавое ведро. Видать, хан совсем бедный попался…
– Вот тебе и клад, – разочарованно протянула Рашида, с укоризной глянув на сестру. Ее глаза обвиняли: «Откуда ты вообще взяла, что здесь могут быть сокровища?»
– Копать надо глубже, – как бы объясняла Машуда, но на самом деле оправдывалась. Было стыдно, но виду не подавала: – Нужна техника – экскаватор.
– Нимә ул эс-ка-ва-тор? – не поняла Рашида.
– Это машина-землеройка, у нее большой металлический ковш.
– А где взять? Кто нам даст? – почти заплакала от обиды.
– Вот кончим школу, выучимся на механизаторов, тогда и докопаемся.
– До тех пор наш отец умрет. Он сам не выберется.
– Замолчи!
Рашида больше ничего не сказала, повернулась и пошла быстрым шагом в сторону деревни, на ходу утирая слезы. Машуда с досады пнула старую железяку. В ней что-то загремело. С надеждой перевернула его, оттуда вместо древних украшений, ожерелий и колец, выпали подковы, ухналь и много разного скобяного хлама. А с самого дна высыпались побуревшие медные монеты. Стала их бережно перебирать. Одна из них заметно отличалась. Машуда терла ее песком и травой. Монета побелела и заблестела, как дорогая ложка. На одной стороне – 25, на другой – кузнец бьет молотом по наковальне.
Машуда спрятала монеты в мешок, связала лопаты и закинула на плечо. Серебряный полтинник положила в карман, чтобы любоваться по дороге. Почти при каждом шаге проверяла его на ощупь, подносила к глазам, и душа успокаивалась.
Они жили на самой широкой улице, раскаляемой солнцем до предела. Но когда полоса рассветного или закатного короткого часа разгоралась в полную силу и как бы брала деревню в размытый огненный обруч, улица озарялась мягким и теплым светом, и птицы пели громче, и дышать становилось легче, и жить хотелось больше. После редкого дождя еще и радуга проступала. Раньше по улице гуляла молодежь с гармоникой, справляли свадьбы, пастух гонял коров на пастбище. Теперь по этой улице возвращались солдаты. На всю деревню их было мало, но они возвращались. Возле калитки Машуда почувствовала неладное. На крыльце стояли чужие сапоги, пропыленные и стоптанные. Беспокойство усилилось. В сенцах висела шинель, пахнущая горькой махоркой, полынью и дождями. Она побросала лопаты, спрятала мешок в сундук и поспешила внутрь. На кухне мать потчевала гостя. Рашида уткнулась ему лицом в грудь, а он узловатыми пальцами перебирал ее волосы. На столе распечатанное письмо. Видно, кто-то из маминой родни приехал. Односельчане редко к ним захаживали. А чужих людей самим не надо. Незнакомец обернулся. Мать закрыла лицо руками, плечи ее задрожали.
– Һаумы, ҡыҙым[6], – поздоровался тот сиплым стертым голосом.
Машуда от изумления застыла, силилась что-то вымолвить на приветствие, но даже вежливым кивком не ответила. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Судьба, как обычно, балуется. Машуда не поверила и не хотела его узнавать. Даже нездоровая худоба, обритая голова, глубокие морщины, впалые глаза и жалкая беззубая улыбка гостя говорили не в его пользу. Сухая изношенная оболочка, пустая скорлупка в выгоревшей гимнастерке, а не человек из мяса и костей, когда-то смелый и резвый. Но это был он.
Машуда нащупала в кармане влажную от потных ладошек монету:
– Рәхмәт, – прошептала одними губами…
За время срока неграмотному отцу лишь однажды удалось отправить письмо, но не из лагеря, а уже с фронта, однополчане помогли. Он освободился и почти добрался до родных мест, но на станции остановил патруль. Отец просил о малой отсрочке, чтобы предупредить и попрощаться с семьей. Но его забрали прямо с вокзала. Письмо надолго затерялось и пришло ровно в один день с его хозяином. Кому расскажешь, едва поверят, а только головой будут качать: «Була алмай!»[7]
Оҙон юл
Долгая дорога
Вышли утром, когда небо налилось светом. Погода им благоволила. Завтра вечером будут дома. Из тех ребят, кто отправился поступать в соседний район, немногие возвращались с легким сердцем, а обратная пешая дорога и без того трудная. Машуда – среди немногих. Кто-то попытает счастье в будущем году, кто-то больше никогда не покинет пределов родных мест, а Машуда будет учиться.
Она не помнила, когда захотела стать учительницей. По материнской линии – все потомственные учителя. Двоюродный дедушка еще до революции преподавал в медресе. В неграмотной деревне по-настоящему уважали только интеллигентские профессии. Артистов во все времена почитали за красоту и талант, учителей и врачей – за образованность и порядочность. Машуда хотела уважения. Но получила зависть:
– Теперь в школах будут работать дети судимых, – роптали те, кому не повезло…
– Не обращай внимания, – успокаивал Рахим, – посудачат и угомонятся.
Ему можно верить. Он комсорг, опекает земляков-первокурсников. Машуда давно привыкла, что за ее спиной перешептываются, но виду не подавала. Она безмятежно улыбалась своей удаче и с привычной благодарностью сжимала в кармане серебряную монетку, с которой никогда не расставалась, никому не показывала, лишь перед сном тайком любовалась, загадывала сокровенное и прятала под подушку…
Первые тридцать километров преодолели легко. Когда пошел лес, опытные старшекурсники старались выбирать хорошую знакомую дорогу, но все равно попадались подлески, буреломы, овраги. Степнякам такая местность в диковинку. Их дороги выкошены и накатаны для вывоза сена. Ребята приуныли, и лишние разговоры смокли.
– В Крыму тоже степи, – рассказывал Рахим, – в самый зной клочки сухой травы уносятся ветрами и собираются в мягкие невесомые шары, похожи на футбольные мячи. Они перекатываются по бескрайней степи, как вдруг за обрывом открывается море…
Машуда не видела море, но всегда представляла – что-то особенное и очень живое.
– А море какое? – спросила она.
– В конце войны я лежал в госпитале под Севастополем. Первый раз увидел море. Удивлялся, почему местные не замечают его и не показывают своего счастья. Ведь счастье – жить с морем… Я не умею плавать. Пару раз только окунулся. Но море никогда не упускал из виду. Сидел на берегу, смотрел и слушал. День смотрел и слушал. Два. Три. Семь... За месяц устал от моря. Надоело. Потом меня выписали, и я уехал. Но море осталось со мной. Незаметное, спокойное, каким и должно быть счастье. Привез его бережно с собой, как с базара молоко в бидоне. Некоторое время оно шумело и плескалось внутри. Но наше солнце безжалостное. Все высохло, все испарилось, все ушло...
Рахим после фронта поступил в педагогическое училище не с первого раза. Из-за тяжелого ранения его иногда подводила память, мучился головными болями…
Когда-нибудь Машуда увидит море: Черное, Азовское, Каспийское, Балтийское... Побывает в Ялте, Одессе, Баку, Риге... Но море не впечатлит и не тронет ее. Не оставит в душе и на коже соленого следа. Слишком шумное и бестолковое. Больше обрадуется ракушкам и фруктам, которые в качестве гостинцев привезет своим детям.
Ребята спустились по склону, обращенному к одной из лесных проток, над которой уже застыли пластины гуляющего пара. Выбрали сухое место для ночлега, натаскали веток, набрали воды, уютно запахло костром, в небо вился тонкий дымок, в карманах еще остались сухари. Но Машуде спать хотелось сильнее, чем есть. Лечь и никогда больше не вставать. От усталости подташнивало. Спина затекла. Ноги хоть отстегивай. Некоторые, перегнувшись через ствол скрученной у основания ивы, подолгу остужали в воде свои головы и ноги. Машуда сняла порванную галошу. Большой палец натерся до черноты под ногтем. На пятке выскочил здоровенный багровый пузырь. Рахим отвел Машуду к ручью, опустился перед ней и вытащил складной нож. Пока она стояла одной ногой в воде, опираясь на его плечи, он с сомнением разглядывал мозоль, будто примерялся, как подступиться, а потом аккуратно проткнул. Машуда даже испугаться не успела. Пока она болтала ногой в ручье, промывая ранку, и любовалась отражением перламутровых и светящихся изнутри облаков, будто таявших в воде после дождя, Рахим положил ей в галошку под пятку свежий мох, найденный в низинах ручья.
– Ничего, – утешал он, когда вернулись к костру, – человек – самое выносливое существо. Выносливость помогла нашим предкам выжить. На охоте они могли бежать сколько угодно, чтобы загнать добычу. Наши ноги так устроены, что можно долго передвигаться трусцой. Другие звери бегают быстрее, но на короткие дистанции. Они не могут запастись впрок пищей и питьем. Если видят, что не могут догнать жертву, останавливаются, берегут силы…
Как много он знает! Вот кому быть педагогом, а не Машуде. Почему Рахим из всех ее выделяет? Она чувствовала на себе ревнивые взгляды девушек. Откуда у них берутся силы на сплетни? Трудно думать лишнее, а тем более что-то говорить. Огненное ядро солнца проваливалось за деревьями, затапливаясь в собственном зареве. Цвета, отыграв дымно-кирпичным и прозрачно-янтарным, медленно гасли на облачках. Волна холода окатила ее. И дурнота все больше подступала. Как будто что-то должно случиться или уже случилось. Машуда поежилась от озноба. Рахим снял с себя фуфайку и накинул ей на плечи. Она укуталась, а руки спрятала в карманы. В одном из них нащупала бумажку. Чтобы ненароком не смять, вынула и хотела отдать Рахиму. На конверте знакомым полудетским почерком выведено ее имя. Адресовано ей. Рахим не успел ничего сказать, хотя Машуда и слушать не стала бы. Она принялась жадно читать:
«Машуда, наша мама заболела. Весь день они работали в поле.
Поздно вечером стали собираться. Она пошла на речку мыть колхозную посуду. Когда вернулась, уже все уехали. Посуду оставлять нельзя – накажут.
Она сложила все в ручную тележку, сама впряглась в оглобли.
Как раз дождь и ветер пошли, и ночь замерзла. Вернулась под утро, а потом не встала. Дали напиться горячего чаю и накрыли толстым одеялом.
Думали, день отлежится. Отец сам работал. В больницу не мог отвозить.
Сколько еще осталось, не знаем. Приезжай скорей. Рашида».
Машуда подняла глаза. В отблесках огня тревожные лица притихших ребят. Слышно только печальное пение ночных птиц и треск хвороста, который выстреливал им под ноги горящими угольками.
– Письмо передал ваш новый председатель, – с горечью признался Рахим, – мы не стали тебе говорить. Оставался последний экзамен. Прости, Машуда. Мы все тебя жалели.
Ғүмер бишеге һәм үлем һандығы
Колыбель жизни и сундук смерти
Мать, омытую и закутанную в белый кафан, с подвязанным подбородком и уложенными вдоль тела руками, на досках-носилках вынесли вперед ногами. Страдальческое, измученное лицо обескровилось, рот закоченел. Все вокруг ждали, что Машуда забьется в рыданиях, кто-то поглаживал по спине, заранее утешал. Но она даже не всплакнула, как ни старалась. На людях и наспех не выжать из глаз жгучую мокроту. А притворяться сухими слезами тоже невмоготу. Наверно, толпа в мыслях упрекала ее в черствости. Машуда послушно заглядывала в себя, но там лишь стынущая пустота. После письма из чужого кармана острая тревога репьем вкололась в сердце и в дороге разливалась неприятным холодом. Пока добиралась до деревни, вся извелась от тоски и неизвестности. Сначала нужно прийти в себя и просто поверить. Но как принять, если все идет своим чередом? Сейчас опустят и засыплют землей, а потом будут молиться и обедать. А завтра новый день, и будто ничего не случилось, и будто все продолжается.
Мужчины на длинных скамейках докурили, подняли маму, повернули ее головой на восток и понесли к месту последнего упокоения. До захода солнца нужно успеть. Машуда и Рашида с другими женщинами следовали за похоронной процессией до конца деревни. Дальше за каменную ограду кладбища им хода нет. И здесь глухой сдержанный плач Рашиды перешел в отчаянный крик. Отец обернулся на Машуду, будто она виновата, что сделалось с сестренкой. Женщины увели ее силком. До этого отец едва обращал на дочерей внимание. Не обиделся ли он? Машуда не застала мать в живых, не успела попрощаться, и теперь сама оказалась гостьей в собственном доме. Без нее с самого утра скоблили столы, будили печь, месили тесто, бурлила вода в казане... В сенцах на сковородах щелкали лепешки в масле, и самовар выпускал пар. За всем следила Анфиса-апай – молодая вдова Юлая-олотая. Поверх нарядного платья с оборками на рукавах и юбке нацепила чужой праздничный фартук, который покойная мать для себя вышивала. Вот же разоделась! И не скажешь, что к поминкам готовится. Машуде после выноса тела и до возвращения мужчин с кладбища наказали протереть полы.
Перед поминальным обедом пришел хазрат читать дуа за умершую. Никто не понимал арабского, и хазрата тихо презирали. Говорили, он ничего не умеет, только красиво читает Коран, кушает вкусные пироги и собирает хаер. Еще судачили: хазрат продает самогон. Когда к нему приходили, он надвигал на глаза тюбетейку и натягивал до пальцев рукава, чтобы Аллах не увидел его срама, будто не он продает. Однако мужчины в узорчатых тюбетейках и женщины в белых платках во время его бормотания и пения чинно опускали головы и держали перед собой раскрытые ладони, затем поднимали их и как бы умывали лицо, чтобы показать: «Наши руки и мысли чисты перед тобой, Аллах!»
После молитвы стали обмениваться платочками и салфетками. Хазрату подарили полотенце. Анфиса-апай выловила из казана мясо и разложила разрезанными брусочками на общем круглом блюде, сверху посыпав кольцами лука и кружочками моркови. Машуда и Рашида на правах ее помощниц разнесли бульон с лапшой в красивых пиалах (мамино приданое), которые в этом доме доставали по особым случаям, считай, вообще не доставали, не было повода собирать гостей. Поминальный стол накрыт тем, что мама при жизни не могла себе позволить: кыстыбый, блины, медовый чак-чак... Ее дети лишь по праздникам лакомились из погреба катыком с ложкой сметаны.
Во время поминальной трапезы говорить не принято, все вкушается молча. Но односельчане, нагружавшие мать самой черной поденщиной и видевшие, как она надрывается, истончается, наконец, насытились, раздобрились и принялись наперебой вспоминать: «Какой замечательной работницей была наша Файза!» Покорная и старательная, никогда не жаловалась, слова грубого не скажет, взгляда хмурого не бросит. Много хлопот не доставляла, разве что теперь… Но похороны – другое дело. Все там будем.
Где же вы были раньше? Почему дурные слова говорите только за спиной, а хорошие – только о покойнике? Почему плачете по холодным ногам и не жалеете живое сердце? Что вы за люди такие? Лжецы и лицемеры. Вся ваша жизнь – надуманные обряды и ритуалы, в смысл которых сами не верите, но исполняете по привычке, чтобы не выделяться, чтобы плохо о вас не думали.
С Маратом-сельсоветом было с точностью до наоборот. Раньше его боялись, а когда у него случился заворот кишок, все обрадовались. Свидетели его скоропостижной смерти в красках рассказывали, как он по-турецки восседал на достархане со стегаными матрацами и расшитыми подушками. Ему на день рождения закололи барана, а для пущей наваристости добавили в бешбармак пару гусей. Стол ломился от яств: кроме пирожков сухофрукты, орехи, халва... Широкое плоское лицо Марата лоснилось от пота и жира. Щеки наел, что глаз не видно. Они до того заплыли, что не выражали ничего осмысленного и человеческого, кроме прожорливости и тупости. Ел он так же, как и жил: разгрызал чужие косточки и высасывал из них весь сок. И все время любовно поглаживал свой мясистый живот, похожий на туго набитый мешок, будто боялся, что лопнет и из него вывалятся гнилые потроха. Так почти и вышло. Марат-сельсовет сначала обожрался горячим мясом, а потом запил ненасытную икоту холодным шипучим кумысом.
Нет ничего лучше смерти плохого человека. Все рано или поздно получают по заслугам. «Да, я не прощаю, – признавалась себе Машуда, глядя на гостей, – а кто у нас добренький? Все добренькие, пока их не коснулось. Плохие и добренькие себя не обидят. Все у них есть, все им нравится, все им прибавится… Нет, не прибавится! Потому что им всего мало. Врагов надо любить, потому не жалеть, а учить наказанием. Не с миром, но с мечом! Это их мир – пустой мир. Зачем же, Аллах, спустил меня сюда, смертную и обездоленную, ничем не вооруженную, кроме крепкой памяти на обиды? Как защищаться? Молитвой? Долго придется ждать, а спасать нас всех надо сейчас».
Пока разомлевшие гости точили языки, Машуда собрала в таз пустые пиалы и отнесла на лавку. Потом вернулась в детскую комнату, самую теплую в доме – с печью, чтобы вновь прислушаться к себе. Ничего – глухо и черно на душе. Будто накрыли и прижали изнутри чем-то... На подоконнике сушились травы и дозревали помидоры. Под железной кроватью их общие с Рашидой игрушки, к которым давно потеряли интерес: наперсток, мячик, свисток, глиняная и тряпичная куколки, альбом-гербарий… На стене висела детская аппликация из ткани на мешковине. Из потолка торчал крюк для люльки. Самой люльки из лозы давно нет – сгнила. Она донашивала детей три года, помогая привыкнуть к подлунному миру. Мать после смерти первенца долго боялась вынимать девочек из этой зыбки, ведь до этого срока они еще на размытой границе земной жизни. Так и говорят: сорок недель в «тюрьме» сидишь, три года висишь и так на свет выходишь. Настало время, и мать сама перешла смутную черту. Ее обитый железом упокойный сундук с белым ситцем, иголками и нитками, мылом и пузырьком духов валялся раскрытым и пустым. Будто на свадьбу спешно собиралась, а жених – смерть из дальнего села. Словно не упокойный сундук, а сундук с девичьим приданым. Разве было в ее жизни что-то хорошее? Только в детстве, когда жили родители и когда мечтала учиться. Но потом отец забрал ее в свою деревню, появились девочки, пошли свои заботы. Ничего другого не знала. Было бы ей лучше, не выйди она замуж и не роди детей? Неизвестно. Но было бы легче. «Жаль, на карточку не снялась», – мелькнуло в голове.
Яуыз иблис
Злой демон
Начало учебного года близилось – надо собираться в дорогу, как других студентов родители заботливо собирают (вяленого гуся и яблочную пастилу), а отец по-прежнему – ни слова. Зато Анфиса-апай чаще наведывалась, дольше засиживалась. Едва переступала порог дома, привычно приподнимала половички и, морщась, пробовала ладонью пыль:
– Старшенькая еще не стала учительницей, а уже возгордилась, – точила она отца изо дня в день, всем своим словам придавая значительную житейскую мудрость, – совсем обленилась и не убирается, везде бысраҡ[8], огрызается, младшенькой дурной пример подает, – и неизменно переходила к главному: – Зачем девушке образование? Кому-то и в колхозе трудиться надо. А ведь моя дочка не хуже. Сколько ни учись, а умнее и красивее моей дочери не станет. Забота о муже и детях – вот женское образование. Пусть Машуда замуж идет. Я присмотрела ей мужа из моей дальней родни. Вот он ей нрав-то и обтешет!
Да, подальше от родной деревни, чтобы глаза не мозолила, чтобы отец скорее забыл Машуду и больше старался для детей Анфисы-апай. Она, как порча, незаметно перевелась из одного дома (где побывала смерть) в их дом (где тоже случилась беда), чтобы под предлогом присмотра за девочками на самом деле множить разлад, разводить отца с его дочерьми. Они ей не верили, слишком рьяно та пеклась о чужом благополучии.
– Мама всегда хотела, чтобы мы выучились и работали в школе, – сказала Машуда.
Хорошо, что сестренки нет дома. Ни к чему ей присутствовать на таких беседах. Анфиса-апай, видимо, считала, что спорить с племянницей – ниже ее достоинства, но ответом все же удостоила, обращаясь к молчащему отцу:
– Твоя Файза тоже всю жизнь гордячкой ходила, хотя от меня ничем не отличалась. Якобы из семьи педагогов, а сама всю жизнь доярка на ферме. А я вдова фронтовая! А тебя Файза от тюрьмы не уберегла. У хорошей жены мужа не посадят.
– Если так судить, то у хорошей жены мужа на войне не убьют, – съязвила Машуда, – апай, что же ты Юлая-олотая от смерти не отвела?
Гостья не ожидала такого отпора и пошла пятнами:
– Погляди, каких злых девчонок вырастила тебе твоя Файза! Никакого почитания!
– А ну прикуси язык! – послушно осадил отец дочь. – Как со старшими говоришь?
Но Машуда уже не могла себя сдерживать. Терять все равно нечего. Хуже быть не может. После маминой смерти перестала бояться. И больше не могла уважать отца. И со школой покончено, она теперь взрослая, имеет право не соглашаться и говорить поперек:
– Зато ты прикусил и не говоришь лишнего. Слушаешь и не перебиваешь. Лучше ей рот заткни. Своего мужа потеряла, теперь в чужом доме командует, осуждает покойную перед ее же мужем и детьми. Разве наша мама виновата, что тебя тогда оклеветали? Зато ждала тебя больше всех. Как тяжело нам было! Вспомни, какие слова ты передал мне тогда на пересылке? Чтобы я всегда помогала родным и никогда их не бросала. А сам что же? В деревне говорят, ты еще при матери, еще до ее болезни ходил к этой, – кивнула в сторону Анфисы-апай, брезгуя называть ее по имени, – так дело было?
– Астагфируллах! Ой, бессовестная, – горестно качала головой Анфиса-апай, предусмотрительно спрятавшись за хозяином дома, выглядывая из-за его плеча, – стыда у тебя нет собирать за людьми их бестолковые выдумки.
Отец потемнел лицом. Сейчас грянет гром. Машуда, опомнившись, внутри скукожилась и даже зажмурилась в ожидании хлесткой пощечины. Но тот не шелохнулся, даже бровью не повел. И оправдываться не стал. Но одно, понизив голос, произнес ясно:
– Ҡыҙым, не тебе меня учить. Сначала проживи с мое. Только вот не знаю, выдержишь ли, не сойдешь ли с ума? Но меня к тому времени уже не будет…
– Эйе-эйе, – поддакивала за его спиной Анфиса-апай.
– …и некого будет осуждать, – с нажимом продолжил отец, – вы обе так много говорили, что я слова не мог вставить. Но я его все равно скажу. Нам тебя отправлять учиться – накладно и дорого. Пусть твой будущий муж решает, учиться тебе или как…
– Какой муж отпустит жену учиться, если даже отец не решается? – у Машуды навернулись слезы. Сколько трудов стоило добраться в соседний район, сдать экзамены и вернуться! – Я не пойду замуж, я пойду учиться! И завтра ноги моей не будет, пока она здесь. Не нужны ее советы! Без них проживем! Без нее обойдемся! – но по упрямым глазам и плотно сжатым губам отца поняла, что нет, не проживем и не обойдемся.
– Если ослушаешься, на нашу помощь можешь не рассчитывать, – приговорил отец.
Машуда могла бы еще долго увещевать или угрожать, но быстро осознала: в этих стенах она ничего не значит, ведь пришла другая хозяйка. Анфиса-апай не то чтобы красивее матери, а просто моложе и бойчее, егозливая и шустрая. Этим нравом и взяла отца. Он сам немолодой, подбитый и иссякший. Зато есть дом и хозяйство, их надо поднимать, на них нужны силы. В одиночку не справиться. Он не хотел тихо сгореть, как жена, в последние годы походившая на понурую клячу. Он не хотел уйти за ней. Он не успел пожить, как другие люди живут. Нужен тот, кто вдохнет в него новую жизнь, а именно молодая женщина. С этой веселой вдовушкой можно переменить судьбу на другой лад. С ней не заметишь трудных дней, а потому легче их перенесешь. Все у нее спорится, все ей нипочем, всюду сует нос. Как знать, может, еще сына родит. А дочери что же? Известно, дочери – заранее отрезанный ломоть.
После дойки Машуда осталась ночевать в саманном домике, в котором когда-то жили предки отца, а теперь мазанка использовалась как сарай для козы и птицы. Прилегла на охапку соломы в углу. С одной стороны за стенкой копошились сонные куры, с другой – за загородкой гремела ведром брыкастая Майка. Вот же беспокойное хозяйство.
Машуда пожалела, что не захватила фуфайку. В навозно-соломенном жилище холодно. Предосенние ночи такие, что наутро трава сахарилась – покрывалась инеем. И хрупали калошами по этой заиндевелой траве. Гордость не позволяла вернуться в дом. Позже, когда слабый луч керосиновой лампы перестал биться в занавеске кухонного окна, прибежала верная Рашида. Она догадалась принести фуфайку. Хорошо, в темноте ей не видно заплаканного лица старшей сестры. Обе накрылись фуфайкой и, как в детстве, обнялись, чтобы легче согреть друг друга.
– Я поняла, кто наша Анфиса, – взволнованным шепотом делилась Рашида, – это бывшая змея, которая превратилась в девицу.
– Ты фантазерка. Зачем бывшей змее превращаться в девицу? – не поняла Машуда.
– Чтобы выйти замуж, поселиться среди людей, вредить им и сосать кровь из нового мужа. А он с каждым днем будет чахнуть и ничего не замечать. Это демон юха! Выпила кровь из старого мужа, теперь добралась до его младшего брата. Говорят, у юхи нет пупка: ее не рожала женщина, – впечатлительная сестренка продолжала свои страшилки на ночь, – и подмышками дырки. Еще изо рта пахнет. Вот бы подсмотреть нашу Анфису в бане. Она часто топит. Юха любит воду. Ночью она опять превращается в змею и ползет к реке пить. Надо Анфисе подложить соленую еду и подкараулить ночью.
– Ты хоть и большая уже, а в сказки веришь. Она не юха, – устало вздохнула от ее россказней Машуда, повернувшись на другой бок, – она обычная бисура[9].
– Тоже не легче, – трепетала Рашида, – говорят, если у бисуры выдался плохой день, она может подкрасться и задушить человека.
– Спи лучше. Завтра рано вставать, – деланно зевнула Машуда, а у самой сердце не на месте. Что дальше? Отцу веры нет. Куда девать Рашиду? Ее не оставишь и с собой не возьмешь. Куда самой деваться? Беспомощность – когда хуже быть не может. Кончится ли это? Нет, не кончится. Надо навсегда запастись терпением – поможет выжить.
Төнгө бүре
Ночной волк
После утренней дойки Машуда зашила серебряную монетку в подол платья. Худой тюк закинула за плечи. Один карман набила подсолнухом, второй – сушеной черемухой. В руке узелок с провизией, который наполнили сердобольные соседки, после смерти Файзы особенно сочувствующие ее дочерям. Соседка Асма не пожалела десяток яиц. Соседка Таслима – три рубля. Соседка Саима – половину хлеба и несколько молодых картофелин. Отец так и не проснулся (или сделал вид), даже за калитку не вышел провожать. В сельсовете выяснилось, что студенты еще вчера вышли из райцентра. Новый председатель отказал в просьбе нагнать их в пути – нет свободной лошади. И вообще, если родные против учебы, чем посторонние могут помочь? Впереди долгий одинокий путь. Никогда еще Машуда не чувствовала себя такой ненужной. Все ее забыли. Вернее, она всех оставила ради мечты – учиться и стать уважаемым человеком. Она дала себе зарок: если доберется целой и невредимой, все в этой жизни будет по плечу.
За деревней открылась родная степь, перехваченная цепью выгоревших холмов, неудовлетворенная и оцепеневшая от тоски. Щетинистое однотонное полотно из сухих колючек. Белеющая колея петляла и огибала перекатывающиеся холмы, терялась и снова возникала, вела за собой, помогая сокращать большие расстояния между деревнями. От каждого шага взлетало облачко серой пыли и оседало на обуви. В середине дня зарядил мелкий нудный дождь. Летом он, как шпион, проходит по ночам тайком. Гривы лошадей, пасущихся на взмокших и застланных дымкой полях, превратились во влажную тяжелую шерсть. С печальным недоумением поглядывали лошади на случайных путников. Кому еще нужно бродить по степи? И для какой цели? Но в степи нечего бояться. Никто не замышляет худого. Укладываться спать можно под звездами. И весь мир как на ладони.
Зато в чужом лесу ночевать страшно. Легко сбиться с пути. И сколько лютых историй, когда даже днем пешего путника загрызали волки! Вроде торопиться нужно, а ноги в ту сторону не идут. Но как ни оттягивай время, ближе к сумеркам сквозные перелески начали густеть и тесниться. Машуду постепенно обступали темные хвойные и лиственные стены. На подошвы галош налипали жирные комья грязи вперемешку с сырыми листьями и травой. Ей казалось, что щек и рук что-то (или кто-то) влажно касается. То ли паутинка вечерней росы накрывает, то ли невидимый шурале забавляется, щекочет ее длинными крепкими пальцами. Она по памяти шла той дорогой, по которой летом их вел Рахим. В голове накрепко засели его слова: «В незнакомом лесу, как и в жизни, главное – найти основную тропу, идти по ней и никуда не сворачивать». Она часто думала о нем. Чаще, чем о маме и Рашиде. Душа будто давно его знала.
Деревья в этом лесу желтели с макушек, а не наоборот, как положено. Значит, и в будущем году много молодых уйдет. Рахим объяснил бы это так: здесь тоже хозяйничала засуха, потому деревья от недостатка воды и желтеют сверху, то есть очень рано. С ним трудно спорить, он много замечает и здраво рассуждает. Однако народные приметы вернее умных наук. Еще перед войной по ее деревне проскакал табун белых лошадей. Неизвестно откуда взялся и неизвестно куда исчез. Еще шустрые синички часто и заранее заглядывали в окна домов, куда потом приходили похоронки.
Последний луч солнца вспыхнул зелено-голубым. Вечернее небо сделалось как тигр с темно-синими глазами и белым облачным мехом. Впереди знакомая остановка. Тогда ребята не дождались автобуса. И теперь его не было. Ноги от сырости подмерзли. И Машуда двинулась дальше. Надеялась добраться до ближайшей деревни, попроситься на ночлег к какой-нибудь пожилой хозяйке. Вдруг из-за деревьев в свете луны неторопливо вышла большая собака с поджатым хвостом. Остановилась и повернула на нее серую морду. Взгляды их пересеклись. У собаки круглые янтарные глаза! Машуда бросилась назад к автобусной остановке. Не помня себя, взобралась на крышу, покрытую старой толью, и что есть силы вжалась в нее… Сердце болезненными толчками било в горло. Тяжело дыша через раздутые ноздри, она старательно прислушивалась ко всем подозрительным нижним звукам. Но вокруг тишина. Только ветер свистит, со скрипом и стоном раскачиваются вершины деревьев, ухают птицы... Машуда боялась выглядывать из-за крыши, чтобы снова не встретиться взглядом со страшной собакой. Судя по глазам, она, должно быть, очень хитрая! Наверняка, тихонько подкралась и сторожит, ждет не дождется, когда глупая девчонка потеряет бдительность и прямиком спустится в ее пасть.
Скованная страхом, всю ночь пролежала ничком, не смея шелохнуться, между сном и явью, между страхом и отчаянием. Дрожь пробирала по всему телу. Ни о чем не могла думать, кроме своего ужаса, с которым почти сроднилась, потому что он пробрался до костей. Все ждала рассвета, но под утро провалилась в забытье.
Сквозь непрочную дрему услышала шаги и снова насторожилась. Голоса и смех приблизились. Машуда едва могла пошевелиться, однако сделала усилие и свесила голову вниз. Возле остановки весело переговаривались знакомые ребята. Среди них Рахим.
– Это же Машуда, – обрадовался он, первым заметив ее на крыше.
– Эй, ты зачем туда взобралась? – опешили другие студенты. – Загораешь, что ли?
– А нам сказали, ты передумала учиться и замуж собралась.
– Или отец тебя не пустил? – наперебой строили догадки.
Та не могла толком ничего объяснить, будто онемела. И лишь заплакала от бессилия. Ребята поняли, что дело неладное, вмиг посерьезнели и помогли спуститься. Она едва перебирала ногами. Ее тормошили и растирали через одежду, напоили водой и дали перекусить. Машуда кое-как пришла в себя, сбивчиво поведала о вчерашнем случае.
– Зря напугалась, – как всегда успокоил ее Рахим, – наверно, это волчица шла по своим звериным делам и просто переходила дорогу. Летом и осенью волки обычно не нападают. Они сытые – нечего бояться. А вот встретились бы вы зимой! Но смотреть зверю в глаза все равно опасно. Это сигнал к нападению…
Пока он рассказывал, к остановке подошел первый автобус.
Когда-нибудь в семье Машуды появится желтый «москвич», и тот же многодневный пеший путь будет преодолеваться за несколько часов. Они с удовольствием будут ездить в гости к друзьям юности, кумовьям, родственникам...
Ауыр уҡыу
Тяжелая учеба
Рашида в конверт с письмом положила гусиное перо. Дома все то же или то, что ожидалось, то, что должно было случиться. Отец женился на Анфисе-апай. Никто не осудил. Сделали вид, будто она перешла к нему по левирату[10]. К тому же его дело пересмотрели – недавно пришла оправдательная бумага. Отец прямо смотрел в глаза людям, все это время не дававшим забыть прошлое. Раньше они имели над ним моральную силу, осуждали, дескать, помалкивай себе, слова не имеешь. Отца это угнетало, он не мог себя защитить. Но сейчас пришел их черед виновато опускать головы и заискивающе улыбаться. После реабилитации он на радостях справил себе новую одежду, но ко всему остальному давно остыл. Держался сам по себе, посторонним не доверял, ни за что не боролся, никуда не лез. Все его внимание занимала семья. Прежний дом продал, деньги отдал жене и переехал к ней. Ставни дома выкрасили в зеленый, а крышу – в красный. Обновили забор и ворота. Еще родился мальчик. У мачехи свои дети: дочь Гульемеш и сын Жамиль. Жили по-прежнему скудно, чуть ли не впроголодь, лишним сухарем не разживешься. Особенно Рашиду попрекали. Гульемеш ябедничала на нее. Только Жамиль жалел новую родственницу. Когда взрослые уходили на работу, он открывал подпол, там под замком хранились картошка и масло. Наспех варили одну-две картофелины и, чтобы жевать было не так сухо, смазывали топленым солоноватым маслом, сверху посыпая щепоткой укропа. Вот и все лакомство. Однажды Анфиса-апай вернулась раньше и учуяла не выветренный запах вареного картофеля. Гульемеш свалила на Рашиду. Жамиль пробовал заступиться, но Анфисе-апай того и надо – подходящий виновный найден. В тот же день нажаловалась учительнице, что Рашида хоть и учится на пятерки, но растет воровкой. Сестренку публично отчитали на школьной линейке.
Анфиса-апай – демон юха! Перед домашними никогда не расчесывала волосы, ведь если юха расчесывает волосы, то снимает голову. Отец ни разу не гладил ее по спине, потому что у юхи на спине змеиная чешуя. А когда мать была жива, то, не прячась, распускала косу, и отец гладил ее по спине. У родителей была любовь, которая хранила и защищала детей. Здесь же нет любви или ее прячут от детских глаз. Если мачехе хорошо, она не замечает никого. Если плохо, то рыщет, на ком бы злость сорвать. Рашида вечно под руку попадалась. Так любой заболеет, у кого вместо сухого хлеба горькие слезы. Она совсем ослабела. Плохо запоминала уроки. Не хотела в школу, но и дома оставаться не могла. Мечтала умереть, чтобы все забыли и оставили ее в покое.
«Машуда, живи вместо меня, учись и выходи замуж,
а я посмотрю с неба и порадуюсь за тебя».
До чего договорилась! Плохо дело, надо ее забирать. Со свету сживут, как мать, или заставят бросить школу и выдадут замуж, чтобы лишний хлеб не ела. Машуда крупным почерком с сильным нажимом в последнем письме уговаривала сестренку не бросать учебу! Надо продержаться до выпускного класса, последний год остался. Ведь Рашида умная и старательная девочка, всегда хорошо училась, после школы обязательно поступит, и будут они жить вместе, как раньше.
Летом студенты уехали домой. Машуда осталась, как всегда, некуда возвращаться, а теперь и другие заботы прибавились. Сначала продала мамину шаль, с ней тяжело было расстаться. Потом мыла полы. Не осталось бани, которую бы она ни топила, ни одного картофельного участка, который бы она ни окучивала и полола.
Рахим перед каникулами договорился с администрацией училища, и Машуду за деньги привлекли к ремонту фундамента и стен здания. Но в то же время из-за наплыва абитуриентов в койко-месте отказали. И рабочими рукавицами не снабдили. Пришлось трудиться голыми руками. Побелка и краска въелись в кожу. Ночевала в поле. Здесь же соорудила печку, нашла старый чугунок и готовила картофельную или мучную похлебку, иногда сгущенную яйцом, которое тоже доставалось с трудом. Иногда пыхтела пышная пшенная каша. Но чаще перебивалась черствыми хлебными корками и запивала кипятком.
Одна из преподавательниц иногда подкармливала ее и в особо прохладные ночи пускала к себе, разрешала оставаться в сенцах у порога. Она боялась своего мужа, который не терпел чужих нахлебников в доме, тем более такую замарашку с огрубевшими ладонями, стертыми в кровь от тяжелых малярных инструментов. По той же причине, чтобы не портила аппетит, ее и за общий стол не сажали. На их расстеленной скатерти свежеиспеченные шанежки, курица с блестящими каплями солнечного жира, домашняя конская колбаса, по запаху нежная и сочная, со сливками и душистым чесноком…
К осени Машуда заработала столько, что пошла на базар и купила две фуфайки, две пары калош, три метра ситца, горшок топленого масла и мешок муки грубого помола. Когда собиралась расплачиваться, на что-то отвлеклась, и какая-то женщина подняла шум: «Эй, чего ворон считаешь? Тебя сейчас обкрадут!» И точно, карманник почти вытащил у Машуды узелок с деньгами, среди них верный оберег – серебряная монетка. Вора тут же след простыл, а Машуда сначала обомлела, потом с рыданиями бросилась на шею спасительницы... Теперь она могла позвать сестренку учиться.
Машуда надеялась, что вдвоем станет проще. Но проще не стало. Скудная пища в столовой не спасала. Председатели других колхозов передавали студентам родительские гостинцы. А сестрам не от кого было ждать подарков. Соседки на выходные уезжали домой, оставляя в тумбочках недоеденный хлеб. Девочки не смели его трогать. Они дожидались, когда те вернутся со свежими продуктами и выбросят прежние остатки на улицу для птиц. Машуда и Рашида подбирали, прятались в уборной, чтобы их не задразнили, и доедали. Над ними все равно смеялись: в одинаковых платьях из одного отреза. В какой стране ни живи, все равно будут глумиться над чужой бедностью, хотя сами ненамного богаче: на одну пару галош, на один мешок муки, на одного отца, на одну мать. В комнате общежития двадцать пять кроватей. Студентки готовились к занятиям за общим столом, по обеим сторонам которого длинные лавки, и свет только посередине, до темных углов едва добирался. Старшекурсницы вечером занимали места ближе к лампе и тушили ее по своей надобности. И пока горела эта лампа, сестры вязали на продажу шали. Учились, надеясь только на свою память. «Үрмәксе[11], паучихи, спекулянтки», – обзывали их беспечные девушки и убегали на танцы или в кино. А сестры продолжали скоро работать спицами и втихомолку плакать от зависти. «Терпи», – учила Машуда сестренку, а сама в душе кляла судьбу: «Сколько можно нас испытывать? Что мы тебе сделали? Ведь ничего больше нет, все забрала! Видать, монетка потеряла свое волшебство...» Но, опомнившись, тут же торопилась возблагодарить монетку за все сотворенные чудеса: возвращение отца, поступление в училище, спасение от волка, сохранение денег от вора. Да, монетка не спешила исполнять любую прихоть. Это была достойная монета. Она выручала в самых крайних случаях. Когда жизнь загоняла в угол, Машуда показывала ей монетку, и злодейка слабила свою хватку. Да, другие девчонки бегали на свидания, у них пахучее мыло, духи в пузырьках, пудры, булавки со сверкающими камешками, щипчики для волос, ленты для косичек. Но у Машуды имелось то, что дороже всех вещей на свете.
Сабантуй
Празднику плуга
На сцене девушки в плавном танце звенели монистами, а парни в прыжке издавали победный клич. Хвосты их лисьих шапок взмывали вверх. Но толпу больше занимал не концерт, а куреш[12] на майдане. Нур снял рубаху, закрепил кушак на запястье и под крики болельщиков вышел на вытоптанную площадку. Соперник попался жилистый и крепкий. Настоящий силач. Такие используют серьезные приемы. Они поднимают свою жертву на плечи (и даже выше головы), чтобы кружить вокруг себя и бросать на спину. Нур легче и вертче. Его дело вовремя изворачиваться и изгибаться. Долго не протянет. Три подхода, каждая схватка по четыре минуты. Машуда желала Нуру оказаться на спине.
Борцы сошлись и обхватили друг друга полотенцами. Здоровяк навалился на Нура и рванул кушак на себя, но тот рывком головы выпрямился, разогнул ноги и поднял его на себе, потом резко наклонился, опустился на колени и сбросил противника… Вновь сцепились. Здоровяк тяжело переступал, как цирковой медведь на задних лапах, Нур же ловко перебирал ногами. Здоровяк снова сжал его в своих лапах, хотел упасть на бок, чтобы утянуть Нура за собой, но тот усилием рук перебросил его через себя. В какой-то момент здоровяк запнулся, Нур бросил его на спину через выставленную ногу... Толпа возликовала. Здесь были его ученики, их родители и девушки в белых чулочках… Нур – всеобщий любимчик. Одна Машуда не желала ему победы. Но он, как всегда, одержал верх. Борьба с соломенными мешками на бревне, лазание на тертом жиром шесте, разбивание горшка с завязанными глазами – везде он был первым. Разве что в шуточных конкурсах (прыжки в мешках, бег с полными ведрами на коромысле, бег с ложкой и яйцом во рту) не участвовал. Сегодня он батыр, унесет главный приз сабантуя – барашка.
Вечером парни и девушки под гармонь, украшенную зеркалами и медными бубенцами, в пляске выходили друг против друга. Девушки запросто красовались перед Нуром, подмигивали и заигрывали. А Нур и рад. Густая и пышная шапка волос, зачесанных назад, но слишком непослушных, то и дело волной спадающих на лоб, он часто поправлял и откидывал назад эту живую копну. В нагрудном кармане красная расческа и комсомольский билет. На ногах пушистые галифе и начищенные хромовые сапожки. Тьфу, смотреть противно!
Еще в педучилище у Нура все спорилось. Побеждал в соревнованиях по волейболу. Его стихи печатались в районной газете. Со сцены читал Тукая и Гафури, играл почти на всех доступных инструментах (курае, мандолине и гармони). В клубе всех мужчин обставлял в бильярд и шахматы. Про таких говорят «бәхет бөртөгөн ашаған»[13]. В педучилище, будучи председателем студсовета, он прорабатывал Машуду по комсомольской линии. И когда ее решили выгнать, она не стала дожидаться публичных унижений и ушла сама. Устроилась воспитателем в детском интернате. Нура же после окончания направили учителем младших классов в школу того же поселка. Как судьба иногда чудит: он, лучший выпускник, и она, отчисленная неудачница, а работают бок о бок, их интересы пересекаются. Здания интерната и школы рядом, делят одну спортивную площадку. Ее подопечные учатся у него и получают двойки по предмету и за поведение.
– Эй, Машуда, погоди-ка! – повелительно окликнули ее, когда она с другими девушками возвращалась с сабантуя в общежитие при интернате, где у нее под кроватью связка книг и узел с бельем.
Как бы нехотя задержалась, чуть отстала от подруг. Нур проехал на мотоцикле «Киевлянин» чуть дальше и резко перед ней затормозил. Прохожие на улице оторопели. Довольный тем, какое впечатление произвел, он принялся важно отчитывать Машуду:
– Нам с тобой надо что-то решать с Айнуром Кашаповым. Мы его от нашей школы отправляем на районное первенство, а он дурака вздумал валять. А тебе и дела нет!
Раньше Машуда робела перед ним и заливалась краской. Но теперь без тени покорности на лице, положенной молодой женщине, решила осадить гордеца и хвастуна:
– А я в чужие дела не лезу, и ты меня не учи, я тебе не подчиненная. Ты к нему не можешь найти подход, с тебя и спрос. Тоже мне, дипломированный педагог!
– Он мне успеваемость портит. Теперь еще и тут подвел. Видно, с тебя пример берет? – тоже припомнил ей прошлое. – Если за ум не возьмется, таким же неучем останется.
– Когда мать жива была, я тоже хорошо училась, – щеки ее еще больше запылали, – много от парня хочешь. Он сирота, у него и так ничего нет, а ты двойки ставишь. Но тебе не понять. Такие легко порхают. Думаешь, что другие тоже умеют летать.
С одной стороны, это замечание польстило, однако же она к нему была несправедлива:
– Это почему же мне не понять? Я тоже без отца рос. Если родителей нет – значит можно лениться? Когда вынесли на голосование вопрос о твоем отчислении, мы тоже хотели взять тебя на поруки. Ты сама испугалась трудностей. Училище так и не кончила.
– У меня сестренка – тоже студентка. Чтобы одной учиться, вторая должна работать.
– Напомнить надо было, – Нур не из тех, кто признает вину и сожалеет о сказанном.
– Я прибедняться не люблю. Не отщипываю жалость и беру, что дают. Живу как есть. Себя не сравнивай. Я знаю, ты из многодетной семьи, но твои старшие братья давно выросли и помогали тебе. Ты спокойно учился, не думая, где завтра хлебом разжиться.
– А ты судишь поверхностно и думаешь, что верно, – оскорбился он, – да, я самый младший в многодетной семье – кинйә малай. Мама родила меня поздно. Говорят, твоего отца судили? Моего отца тоже посадили – за якобы спекуляцию бычками. Помалкивай, только тебе говорю, потому что ты сама меня поймешь. Когда он умер, я даже не понял, никто не объяснил. Пока его хоронили, я игрался на его могиле. Что с меня взять, года четыре было. Да, за отца мне старшие братья были. Но меня не баловали. Все они воевали. Один из них (Валиулла) так и не вернулся, а у него семья осталась. У меня трудовой стаж с одиннадцати лет. Когда война началась, все грамотные ушли на фронт, я работал учетчиком в тракторной бригаде с женщинами, потом секретарем правления колхоза. В нашей деревне Баймурза не было старших классов, я сам дома учился, а потом приходил в конце года и все экзамены сдавал. Все учителя удивлялись. За это хочешь меня обвинить?
Машуда с недоверием слушала, поигрывая кончиком пояска от платья. Нур, закусив губу, тоже в задумчивости засмотрелся на нее. Раньше он едва обращал на нее внимание. Привык выделять других девушек: нарядных, веселых, жеманных. Нур и сам на виду, а Машуда как бы в толпе. Примелькались. И тут впервые они сошлись лицом к лицу, без свидетелей. Подружки не в счет, они ушли вперед. И, наконец, ее разглядел. Оказывается, она интересная. Ровные белые зубы, худые бледные плечики и тонкая кожа, как у горькой луковки. Степной зной такую луковичную кожу не прощает. Машуда все время стыла среди загорелых, будто иссохших на солнце степняков. Точно фарфоровая фигурка, да только натруженные руки выдавали в ней далеко не хрупкую куколку.
– И этот мотоцикл моему другу раньше принадлежал, – продолжил Нур, но более доверительно, как бы оправдываясь и желая, чтобы его по-настоящему поняли, – он разбился. Его родители не хотели продавать и оставить тоже не могли. Мне так отдали, – и неожиданно предложил: – Садись, Машуда, подвезу до дома.
Ялан яланы
Дикое поле
На день рождения он подарил ей перевязанную лентой коробку зефира. На крышке Красная площадь и Большой театр. Она знала, что есть такие города, как Стерлитамак и Магнитогорск – люди там учатся и работают. Она даже готова поверить в Уфу и Казань – тоже на слуху. Но вот Москва и Ленинград – как Венера и Марс. У них есть названия, их рисуют на картинках кондитерских изделий и показывают в кинохронике. Но побывать там – как в космос полететь. На экране горожане спешат мимо чистых витрин, катаются в парках на коньках, по широким асфальтированным проспектам спешат автомобили. А Машуда в стороне, в темноте зала, мимо нее в пустое серое полотно проекционного экрана утекает неведомая несбыточная жизнь. Теперь она часто ходила в кино на один и тот же фильм, чтобы полностью записать куплеты одной грустной привязчивой песенки. Там тоже молодая скромная учительница, в нее влюбляются взрослые ученики. Машуде заранее жаль своей незаметной судьбы, о которой даже собственные дети когда-нибудь забудут, потому что их самих когда-нибудь не будет, а ведь она есть, она была.
С той же тоской думала о сестренке, которую с пути сбивает ее бестолковый жених. Подговаривает, чтобы бросила учебу. Еще не поженились, а он уже прикладывается к бутылке и распускает руки. Присмотра за ней нет, подбирает всякую грязь. «Не смей!» – писала ей в письме и грозилась приехать. Но работа не отпускала из поселка.
Еще вспоминала отца, у которого недавно нашли онкологию. Сжирает его демон юха! Онкология, как морская мина в темных глубинах, долгие годы ждет своего часа.
Она вырывала обрывки фраз из чужого кино, из чужой любви, из чужой песни, потому что про ее тоненькую неброскую жизнь никогда не снимут фильм, не напишут в газете, не споют песню. У нее ничего нет, она просто работала и ждала, что будет семья. Муж – это друг и защитник. Глядя на Нура, часто представляла их общий будущий дом, осаженный чистотелом, и сад, обрызганный утренней росой. За это счастье можно уступить.
Был такой летний день, и была такая летняя ночь, когда много солнца, но еще больше луны, и необыкновенная легкость витала в воздухе, лицо Нура вдруг сделалось особенно властным, он притянул ее за талию и теснее сжал в объятиях. Машуда старалась не даваться в губы, рот будто запечатала, выставляла вперед руку, упиралась кулаком в его каменную грудь, сдерживала напор, но ласки его становились яростнее и нахальнее…
Однажды он сказал, что умрет, если ее не будет рядом. Но это было давно, когда облака цветущей вишни гудели изнутри роем пчел, слышалась дальняя чистая кукушка, все становилось белым и нежно-зеленым, в масляных подрагивающих солнечных пятнах и сквозных синеватых тенях и шептать можно было что угодно, облизывая с ночи распухшие сухие губы. Все равно те слова ничего не значили. Все равно те месяцы давно уплыли, и остыл загар на их лицах и плечах. Теперь гладкие вытянутые листья на вечно поникших ветках боярышника, в тени которого они укрывались от посторонних глаз, окрасились в ярко-оранжевый. Скоро на них поспеют желтые плоды, но они тоже скоро осыплются. Когда стало видно живот, Нур ни от чего не отказывался, но и разговоров о будущем избегал, словно врасплох застали, а еще столько всего нужно успеть! Он не подозревал, что самое важное в его жизни уже случилось, ничего не поправить.
Многие шептались: не пара же совсем. Скрепя сердце можно согласиться. Для нее Нур – впечатление единственное, но и этого мало, и так не хватает. У него же столько всего и в таких количествах! Он спешил делиться собой со всеми, не только с ней, еще не понимая, что истинная жизнь проходит в узком близком круге, в котором место только двоим. Машуда первой об этом догадалась. И будто распускалась на нити, обвивалась вокруг него, душила собой, настаивала. Он срывался и уходил. Она тоже злилась. Раньше рассчитывала только на свои силы, а теперь себе не принадлежит, слабая и зависимая. Оба угодили в западню, которую себе же на двоих устроили.
Однажды, когда ее не было в интернате, приехал Рахим. Но сообщили почему-то в первую очередь не ей, а Нуру. Видимо, на драку хотели поглазеть. Нур и затеял драку на заднем дворе возле котельной. Их кое-как разняли, когда прибежала Машуда.
– С другим еще гуляешь! – кричал в бешенстве Нур, вытирая разбитую губу.
Рахим же посмотрел на ее живот, ни один мускул на лице не дрогнул, и просто сказал:
– Машуда, собирайся со мной.
Она отступила назад и прикрыла живот фуфайкой:
– Не могу бросить работу. Мне сестренку еще надо кормить, ее жизнь устраивать.
– Когда свою жизнь будешь устраивать? – с жалостью спросил Рахим. – Надорвешься раньше времени. Тебе о себе надо думать. Напрасно уйдет твоя жизнь... Пойдешь за меня? Сестренке твоей вместе будем помогать.
Рахиму самому нелегко жилось со своей фронтовой контузией, из-за чего бросил училище на последнем курсе. Врачи не могли ему помочь.
– Видишь же, за другого сосватана, – соврала она, глядя на Нура. Так ей хотелось думать. Но Нур ничего на это не сказал. – Видишь же, никого у меня нет, кроме сестренки, – и поторопилась прочь, куда глаза глядят, в степь, затянутую дымом осеннего пожара.
На днях ударила молния, и пламя от обуглившегося столба с провисшими проводами быстро перекинулось на сухую траву, радостно овладело ею и, разрастаясь, разделяясь на огненные ручейки, поползло дальше, вылизывая все на своем пути. В этих краях, где ни до чего нет дела даже Создателю и нет других хозяев, все пущено на самотек, огонь никто не тушил. Рано или поздно, в зависимости от ветра и высоты травы, огонь сам упрется в реку. Эти земли часто вступали в заговор против человека, а человек смиренно пережидал сезонную стихию. Обманчивое царство ковыля и тысячелистника, но без посевов и урожаев. Бураны и засуха. Дикое поле не для людей, но для их скота. Земли, которые за ненадобностью никогда не вспахивали. Но время шло, и в степь поверили. Целина радушно приняла энтузиастов. Ей понравились новые поселенцы, непохожие на ее степных детей, образованные и культурные, терпеливо и старательно обживающие ее просторы без дорог, техники и хранилищ, спящие на земляном полу, в палатках и вагончиках. Ей льстило их внимание. До поры до времени. И каждый раз непредсказуемая истеричная натура брала свое. Отмытая от вековой пыли, причесанная, накормленная целина вдруг отбрасывала привитые манеры, бунтовала, привередничала и отбивалась (например, не принимала сорт зерна). Она никак не приспосабливалась к новым порядкам и вспоминала старые кочевые привычки, убегая к забытым барашкам и низеньким лошадкам. С ней и по-хорошему, и по-плохому, а ее все лихорадило пыльными бурями, которые выветривали почву распаханной земли и портили зерно…
Машуда бежала вглубь степи вдоль искристой огненной полосы, отбрасывающей на нее дымную фату. Веером вырывались чадные язычки, но они не разгоняли тьму. С переменой ветра волна пламени вдруг приспустилась и с взлетающей в небо плотной черной чадрой настигала и окружала. Порывы раскаленного ветра хлестали по лицу, валили с ног, опаляя жаром, обдавая гарью. Сажа въелась в лицо, на зубах скрипел пепел. Машуда оказалась в огненном мешке.
Нур
Луч, свет, сияние
Когда очнулась, голова все еще болела и кружилась. Над собой увидела белый потолок. Чуть приподняла голову. Пустые железные кровати в два ряда. Стены покрашены белой масляной краской. Стулья и тумбочки тоже белые. Машуда впервые оказалась в больнице. И только заметила, что руки ее забинтованы. Вспомнила, как, падая на тлевшую траву, инстинктивно подставила ладони.
В палату вошли Нур и еще двое мужчин в накинутых на плечи халатах. Машуда догадалась, что это его братья, очень на него похожие, вернее, он на них, только старше. Те же дугообразные бровки и ямочка на щетинистом подбородке. У всех деревенских мужчин, особенно фронтовиков, независимо от степени родства, есть что-то общее.
– Салям, Машуда, – мягко сказал один из братьев, и они по очереди представились.
Юмагужа-агай выглядел более спокойным и снисходительным. Второй брат, Навиулла-агай, в дальнейшем разговоре в основном помалкивал и только строго наблюдал. В его волосах проседь заметнее и морщины на лице глубже. С таким не забалуешь. Нур тоже заметно робел перед ними. В глаза никому не смотрел, особенно Машуде. Никогда его таким не видела. Обычно подбородок выставлен, гордая нижняя губа выпячена. Братья же с Машуды глаз не сводили. Сели на соседнюю свободную койку:
– Мы вчера только приехали, – справившись с неловкостью, сказал Навиулла-агай, – прознали, что у вас делается. Потолковали и вот что решили. Һеҙҙә тауар, беҙҙә сауҙагәр[14].
Машуда повернула голову к стенке не в силах сдержать слезы:
– Я ничего больше не хочу. Он не хочет, и я тоже не хочу.
Нур хотел было что-то ответить в свое оправдание, но, перехватив суровые взгляды братьев, проглотил обиду и снова опустил голову.
– А ты что же хотел? – резонно заметил ему Юмагужа-агай. – Выставил на мороз воду, теперь удивляешься, почему ледышка? Мы тебе всегда говорили: не обижай девчат. Есть девушки, с которыми шунда-бында[15], а есть, с которыми на всю жизнь. Если Машуда бер тапҡыр[16], зачем обманывал? Отпустить надо было. А теперь идите в сельсовет расписываться! Не надо пышного праздника, но по-людски все сделайте. До нашей деревни уже слухи дошли, а про нас никогда не судачили. Не позорьте. У нас при живых отцах дети сиротами не растут. Мы Машуду не оставим. Мы все про нее знаем. От работы не бегает, сестру поднимает. Люди рассказывали. Нур хвалился тобой. Нам годится такая невестка. С нами будешь жить. Ребенка сами вырастим и воспитаем. Нур, как будешь в глаза смотреть своему ребенку, когда он меня отцом будет называть?
Машуда тоже про Юмагужу-агай кое-что знала. Со слов Нура, брат привез с фронта красивую русскую жену Зою. Родня ее приняла за уживчивый нрав. Она быстро выучила чужой язык и быт. Сыновей назвали Борисом и Юрисом…
– Вы молодые, а мы пожили и знаем: ошибки вовремя надо исправлять, чтоб потом не тянулись за вами, чтоб не было повода вас упрекнуть. Нур, тебе большой путь делать надо. Ты в Стерлитамак собирался, в пединститут поступать. Каким директором станешь, раз семью бросил? Как в партию примут? Значит, веры тебе нет. Машуда, наш Нур станет большим человеком. Он из нашей семьи выше всех взлетит, а мы на земле останемся. А ты при нем будешь. Вы по жизни вместе идите. Машуда, не гнушайся нашей помощи.
– Машуда, – набравшись решимости, подсел к ней Нур и легонько коснулся пальцами ее забинтованной ладошки: – Они дело говорят. Соглашайся. Там видно будет.
Она осторожно высвободила руку, добавив, что ей нужно отлучиться по нужде. Мужчины помогли подняться. Она нашарила под кроватью тапочки, накрылась шалью…
В конце больничного коридора на посту дежурной медсестры горела маленькая лампочка. Машуда подошла к окну и прижалась лбом к холодному стеклу. Обида ее давно сточилась. Рассеянным взором наблюдала в окне выжженную и раскрошенную степь, после пожара замершую, истощенную, не простившую и не прощенную. Пыля черными кругами золы вперемешку с уцелевшими осенними листьями, носился ветер. Замшелые валуны, почернели и стали похожи на огромные головешки. Еще недавно их замысловатая мозаика из кружевного лишайника и сизой «каменной розы» («заячьей капусты») с мясистыми сидячими листьями говорила с ней давно забытыми и затертыми абстракциями. Как мамин ковер (ее приданое), который Машуда в детстве любила изучать перед сном. Из самого центра в нее вглядывался распустившийся звездчатый медальон – небесное светило, от него строгой тесной цепочкой отходили спирально закрученные лучи или крючковатые чешуйчатые ромбики с зазубренными листочками. По рельефному бордюру из плотно переплетающихся стеблей и венчиков цветов бежал пес и скорпион. И чудились стаи взлетающих птиц. И сочные зерна расколотого граната. Земной рай, цветущий сад, каждый узел которого туго завязывали тонкие женские пальцы. Указанные символы сулили благоденствие и покровительство Высших сил, но теперь они обернулись иным смыслом, кликали будущую утрату и смерть.
История ковроткачества – как история человечества и судьба человека. Ковер – колыбель для младенца и носилки для усопшего. Ковры – как люди. Со сточенными ворсинками и высоким упругим ворсом; потоптанные и изношенные; грубошерстные и шелковые; с золотыми, серебряными нитями и затканные драгоценными камнями; с богатым орнаментом и насыщенной цветовой гаммой; с хорошей родословной и традиционным узором; с мелким однотонным и крупным рисунком; с размытыми пастельными и густыми звучными оттенками…
Тот мамин ковер давно выцвел и прогнил. И нет отчего дома. Остался колодец, из которого только во сне можно набрать воду, но нельзя напиться. И тебя больше нет. О тебе не снимут кино и не сочинят книжку. Одна из многих. Твоя судьба не выдумана и прожита. Испита до донца горько-сладкая чаша. Усмиришь гордость, выйдешь замуж и с течением жизни станешь женой уважаемого человека. Сама станешь уважаемым человеком. Любимой учительницей, строгой матерью и терпеливой женой. Никто не посмеет упрекнуть. Не дашь повода. Грязь не пристанет, как бы ни старались соперницы. На тебя станут равняться. Помиришься с больным отцом и его семьей, забудешь старые обиды, научишься прощать. Они тоже забудут и примут твою помощь как должное. Они согреются в твоем доме, ведь с тобой всегда тепло и сытно! В твоем доме поселится честный достаток. В шкафу модные платьица из крепдешина и шифона, каракулевая шубка, но в их карманах по-прежнему пряничные крошки и сахар, ведь тебе всегда будет зябко и тревожно. Будешь кутаться в пуховую шаль, наедаться впрок. Заветная монетка со временем затеряется. Сначала не заметишь, затем огорчишься, но потом и вовсе выкинешь ее из головы, потому что появятся другие заботы и радости. Еще не раз услышишь глухой стук комков земли о крышку гроба. Не только в старости переживешь сестренку, но и свою старшую дочь (демон юха сожрет), а умрешь на руках младшей дочери. Твой муж, все годы сравнивающий тебя с другими, перед смертью будет повторять лишь твое имя. Похоронят вас рядом. В твоей жизни много произошло того, о чем не стоит упоминать, иначе оскорбит память о тебе и потревожит твой дух.
Деревьев на пути всегда мало, негде отдохнуть в их узорчатой тени, но ведь откуда-то же сочатся птичьи трели? Нас не будет, а они все равно будут петь. Для нас нет ничего специального, но мы все равно можем слушать птиц, словно это только для нас.
[1] Обрядовый башкирский праздник, заключается в коллективной обработке гусиного мяса, пера и пуха.
[2] Дорога к водоему, по которой раскидывали гусиные перья и произносили благопожелания об обильном приплоде, чтобы в будущем году гуси ходили этой дорогой.
[3] Блюдо из жирного мяса. Может подаваться как первое, так и второе блюдо.
[4] Мифическая гора на краю света, где обитают фантастические и мифические персонажи сказок и эпических сказаний народов Ближнего и Среднего Востока.
[5] Глупые девчонки.
[6] Здравствуй, дочка.
[7] Не может быть.
[8] Грязь.
[9] Низший дух, кикимора. Живёт в глухих лесах или домах, где происходят частые ссоры.
[10] Брачный обычай, при котором брат умершего мужа женится на его вдове.
[11] Паук.
[12] Восточная борьба на полотенцах.
[13] Съел зернышко счастья.
[14] У вас товар, у нас купец.
[15] Туда-сюда.
[16] Один раз.
