№4.2023. Валерия Шимаковская. Зелёное платье
Рассказ
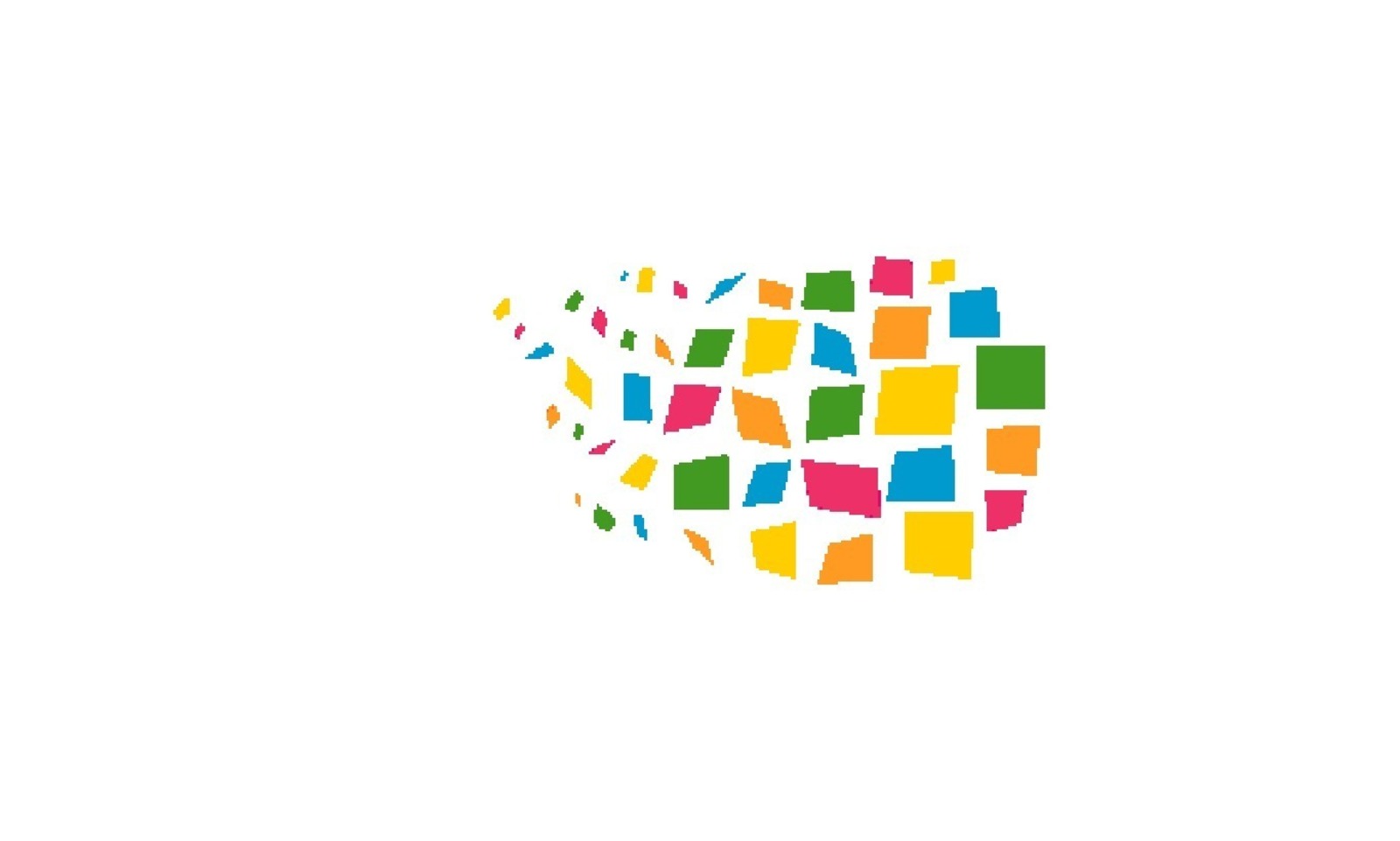
У нашей мамы мечта – зелёное платье. Его, идеального зелёного платья нужного покроя, немнущейся ткани и оптимального фасона, пока что никто не видел. Дело не в том, что его не существует в природе. Просто пока мама куда чаще заглядывается на покров, ткань и фасон одежды для нас с сестрой, а сама ходит в многолетних платьях. Она говорит: «Главное – уметь носить». Ещё: «Нужна только аккуратность». И покупает нам новые вещи, зная, что мы за время, прошедшее от предыдущей покупки, в деле аккуратности не продвинулись.
Мечтой о зелёном платье мама поделилась, когда вместе лежали перед сном. Шёл две тысячи пятый год. Нас это удивило. Нам казалось, только дети мечтают о чём-то, а взрослые подобной потребности – мечтать – не испытывают. Само понятие мечты не присуще, на наш взгляд, было взрослым.
Озвученная мамой мечта заняла своё место в гардеробе памяти и, как вещь, до которой надо дорасти, там висела. Мы взяли коробку, фломастером вывели: «Тут лежит будущее мамино зелёное (лучше изумрудное) платье, уже есть: тридцать рублей, двадцать рублей, двадцать пять. Осталось…» Сколько осталось, ни одна из нас не могла сказать. У нас о деньгах понятие было весьма приблизительным.
В магазинах терпеливо покачивались на вешалках зелёные платья. Все они, однако же, не дотягивали, по мнению мамы, до мечты. От платья требовалось быть в меру нарядным и строгим в меру, не слишком открытым и закрытым не чересчур; лёгким, чтобы на набережной выгуливать, и тёплым, чтобы не мёрзнуть в городе неприморском, то есть платье должно было соответствовать множеству несоединимых критериев одновременно. Мы и сами пробовали сделать эскиз, но перенос платья на бумагу лишал его неземной красоты. Платье было намечтано, и чем быстрее шло время, тем великолепнее становилось оно в мечтах и тем сложнее было найти его на витринах.
Но пора было принимать меры, иначе все зелёные платья на свете, хоть мало-мальски запросу маму отвечавшие, разобрали бы.
Мы с сестрой после нового дня безрезультатных поисков утешали себя тем, что платье могло быть просто не вывешено в зал. Мы знали, что так бывает. Когда примеряли вещь и она не подходила, мама просила посмотреть на складе, где отыскивался размер. На складе наверняка хранилось платье, и оно бы обязательно нам оттуда бы было принесено, если бы запрос сформулирован был конкретнее, нежели «Нам, будьте добры, похожее на мечту зелёное платье».
Выходя, мама радовалась сохранению денег и возможности приобрести ещё по вещи нам. Не то чтобы после этого без удовольствия шли и мы в детские магазины – но оставалось чувство невыполненной, живущей в душе мечты.
Мы знали, что угодить маме с одеждой непросто. Папа однажды ей привёз из Германии сапоги (почему-то, правда, белого цвета, так что мама в них только и могла, что танцевать народные танцы) и, поскольку мама носить их не стала, больше уж ничего не покупал. Она подбирала одежду как никто из нас – в этом, как и во многом другом, маме не было равных. Мама не терпела халтуры, и подбор одежды не был исключением: ко всему следовало относиться с душой.
* * *
Лай раздавался, как хор Турецкого. Хор Турецкого выступал на этот раз за гаражами, близ леса, по Дороге жизни, Седьмой километр. Во мне давно, далеко, в исходной точке характера, прописался страх к собакам, а страх, как утверждал кто-то примерно в той же точке, надлежит встречать лицом к лицу (в отдельных случаях – лицом к морде).
Если долго слушать собачий лай, можно начать разбирать в нём слова. Претензии к соседям по будочной площадке и недовольство изморосью, из-за которой цельный день не вылезти из конуры.
Николай приехал из Приднестровья, где медбратствовал. Не вправленная орфоэпическими словарями речь его тонким лезвием резала слух: «А вот как ля́жу», «собачьими капля́ми», «о́тседа иди». Он, в отличие от начальницы Али, которая так ни разу не села, разнося по ста тридцати вольерам завтрак и полдник, а в перерывах закапывая котятам в глаза, не был по своей природе расположен к деятельности и бо́льшую часть времени находился в домике, представлявшем собой укрытие для людей, кошек и собак в дождливое время. В домике стоял диван, места́ на котором уже давно закрепились за собаками и кошками; холодильник с человеко-собачьей едой вперемешку с лекарствами для обеих категорий населения, рукомойник и банки приднестровского варенья. Николай то и дело вытаскивал ложку из клубничной банки, когда начинался зуд, навеваемый совестью: выходил на крыльцо, подставлял руку под не шедший дождь и протяжно произносил одно только слово, нёсшее смысл, какого хватило бы на предложения: «Неохота».
Олег был значительно младше обоих. Сидел в стороне и тихо сипел растворённым кофе, гладя запутавшуюся в ногах собаку, давая ей половину печенья и кладя другую половину себе. До этого работал с лосями и зубрами: хотел быть ближе к величественному. В течение нескольких лет выносил навоз. Ни заповедные зубры, ни кошки с собаками приюта на Дороге жизни, Седьмой километр, его не ценили.
Все собаки были как люди, разнохарактерны – крикливые и дички, гулялелюбивые и домоседы. У собак, как у людей, были плохие и хорошие дни. Сплошь из плохих дней, если судить по содержанию негативных нот в лае, состояла жизнь двух псов, сидевших по обе стороны при входе в приют. Их символично звали Алтай и Байкал. К вечеру Николай таки приступил к работе, ибо один нашёл общий язык – неправильный, южнорусский – с Байкалом и Алтаем. Кормил их он.
Периодически собаки взлетали. Тарелка служила взлётной полосой. Один ротвейлер Матвей с прошлой недели постился – отказывался обедать без увезённой в реанимацию овчарки Вербы. Кроме обеда, завтрака, полдника и ужина, радости было мало: разве что хвост, представлявший бесконечную загадку возвращения.
Слышится мне лай. В лае звучат слова, которые я, как в музыке хора Турецкого, разбирать начинаю. В нём поётся об окупавшей все безрадости радости – однажды когда-либо может быть кому-нибудь принадлежать.
* * *
Женщины продолжали приобретать зелёные платья. Одни выбирали первое пришедшееся по вкусу. Другие отправлялись за платьем в целом, не конкретного цвета, или конкретного, но не зелёного, а синего, скажем, и, так как синего не было, а зелёный оказывался не так плох, брали его. Но это же совершенно другая задача – синее платье. Это задача, бесконечно далёкая от зелёного платья. Это как-то не по-человечески, легкомысленно, малодушно – прийти за синим платьем и купить зелёное.
Так или иначе, женщины, менее принципиальные в данном вопросе, носили зелёные платья, у них, возможно, их было целых несколько. Это же какое счастье, иметь четыре зелёных платья, по платью на сезон – красота, волнующая не меньше вивальдовских «Времён года».
* * *
Зачиналось одно из утр, что уже с усталостью. Ситуацию до некоторой степени улучшало солнце, которому надоело прятаться за карнизом. Трамвай, остановившийся отдышаться, ждал.
Искать работу легко. Определился со страхами – и выбирай работу, связанную с ними. Помимо собак, я боюсь отсутствия внимания. Без внимания я заболеваю.
Зайти с чёрного входа и, не показываясь в холле, одною рукой передать ключ. У посетителей гостиницы от вида горничных портится настроение. Нужно стать уменьшенной в объёме и громкости копией себя.
Завхоз была женщиной с руками, разошедшимися от моющих средств, и с мягко, как стихи, по языку катившимися матными словами.
Встретили как потеснившего жильца. Одна сразу прошла, задев плечом, точно нечаянно, будучи на несколько голов выше. Выбежала познакомиться улыбистая Гуля. Шефство надо мной было поручено опытнейшим горничным, каждую из которых звали Розой.
Говор их, мне неведомый, казался то руганью, то песнью. Но в каком-то по счёту, двунадесятом гостиничном номере вдруг спросили обе Розы мои: «Не устала? – не на моём, не на своём языке спросили, на языке человеческом. По позвоночнику карабкалась боль, помнящая вес тележки, время тянулось не кончавшимся пододеяльником, в котором не найти событий-углов. Но вопрос их склонил кивком мою голову: не устала, мол. – Тогда за пылесос».
Самое тяжёлое было – обед. В обед сильней всего я ощущаю одиночество. Случись мне не встретить знакомых, и вот к супу мне хлеб не надобен: я его одиночеством заедаю. Оно очень терпкое, обеденное одиночество. Розы задержались, и я никого не знала, даже познакомиться не могла. Не пригодились никак мне три иностранных.
Первою, кого встретила, войдя в маленькую кухонную комнату, была та, что при знакомстве задела плечом. Мне сразу перехотелось есть. Я повернулась в сторону тележки и готовилась всё объяснить своему позвоночнику. Но вот подозвала Гуля, освободившая место подле себя и отложившая оладий, зная, как труден первый день горничной.
Обед был столпом, разделяющим день, единственной верстой на пути от начала работы до её окончания; день, в котором не имелось окон, кроме тех, что было нужно бесконечно протирать.
Пообедав, давали волю лени. Приходила завхоз, поднимала бранью, отодвигала шторы, вела по уголкам губ плинтуса, смотрела под кровать – забиралась в самую интимность комнаты, пытаясь отыскать оставленные пыльные следы.
Гуля почувствовала, что не остаюсь, и записала свой телефон на случай, если окажется нужной. И Розы мои, букет из двух Роз, счастливое чётное количество, почувствовали и сказали: «Отдыхай» – на неведомом и понятном. Только одна из всех не поняла и на прощание задела плечом в третий раз.
* * *
Все платья, на женщинах встреченные, незамедлительно нами с сестрой обсуждались. Обсуждение, как правило, представляло собой критику. Вслух вычленялись недостатки, из-за которых платье расходилось с мечтой. Мы критиковали платья, как дома посёлка, в котором жили в детстве, то есть всякий раз подытоживали, что наш дом (мамино будущее платье) лучше. Но после критики в адрес платья шли к его обладательнице и спрашивали: где выбирали? есть ли там такие ещё?
Дамочки в зелёных платьях были неотзывчивы и высокомерны. Они могли позволить это себе. Если они смогли позволить себе зелёное платье, они могли позволить себе и всё остальное – ничего недоступного отныне не оставалось для них.
После особенно нелюбезных ответов дамочек мы просили маму стать чуть менее доброй, чуть более высокомерной, когда у неё появится зелёное платье. Мы допускали, что, надевая другую одежду, мама останется не высокомерной и доброй самой собой, но уж, когда решала бы она пойти в нём, пусть натягивает эгоизм и равнодушие и в получившемся тоне отвечает двум девочкам, вздумавшим узнать, сколько стоит надетая на неё зелёная мечта. Мама, будучи уверенной, что платье так и не перейдёт из разряда мечты в категорию шкафа, обещала.
Сложно оказывалось определиться и с цветом. Мы проводили для мамы нескончаемый опрос. Зелёный был везде: в кувшинках, в кустах смороды, озёрная вода иногда окрашивалась в болотистый, но такой цвет тоже неплохо может смотреться на платье; фисташки, кузнечики, лопухи, крыши, классная доска, зелёнка на заболевших ветрянкой лицах – было много зелёноцветного.
«Может быть, цвета травы? Трава хорошего цвета», – предлагала маме, как докучливый консультант, одна из нас. Вторая, на манер заведующего магазином, поддакивала: «Да. Благородный». Тот факт, что платье должно было быть благородного зелёного цвета, не подвергался сомнению. Это было единственное, что удалось по поводу цвета определить.
У мамы рябило в глазах. Она перестала заикаться о платье. Мамина мечта для неё обернулась работой. Она собиралась свою мечту мечтать, отдыхая, но за время, прошедшее с две тысячи пятого, поняла, что мечта тоже требует беспрестанных усилий. Так она преображается и расстаётся с девичьей фамилией – Мечта, называясь отныне Целью.
* * *
Ему нужно было привить любовь к чтению, как полагали его родные. Прививаться он категорически не хотел.
Я очень люблю людей, которые не любят читать. Сознание их не затуманено мыслями такого-то автора на такой-то странице в таком-то переиздании. Кажущаяся ограниченность безгранична.
Он переходил в пятый класс. Когда я спрашивала его: «Какие любишь стихи?», в ответ неизменно звучало: «Короткие».
От занятия к занятию удалось выяснить, что и с его точки зрения в мировой литературе найдётся пару хороших книг. Хорошие книги определялись по количеству страниц. Чем оно было меньше, тем больше у книги было шансов попасть в реестр гениальных. «Мы прочтём одно замечательное стихотворение». – «Короткое?» – «Да». – «Тогда оно в самом деле может быть замечательным». Он читал стихи Маршака как катехизис католической церкви.
Он развлекал себя тем, что задерживал дыхание, за чем я вынуждена была следить, дабы наши занятия не окончились трагическим исходом. Зачерпывал в лёгкие воздуха, грёб пару бассейнов-абзацев.
В иные, плохие, субботние дни он занимался, перенеся тело с кровати за стол и предварительно не умывшись, жмурился, как от боли, и говорил: «Ой-й! Не могу».
Он умел выйти из ситуации, не прибегнув ко лжи. После разговора о Пушкине: «– Что ты помнишь об Александре Первом?» – «Что он был первым, что после него шло ещё несколько людей с его именем. Ласково его звали Сашей. Он был сначала маленький, затем молодой, а под конец умер, как это ни печально».
Пушкин же меня и подвёл. Не Погорельский, не Вильгельм Гауф, а тот, кого мы все, кто наше всё. Я думаю, похожее случалось со многими начинающими педагогами. Абстрактное и лирическое начало стихотворения вдруг находит на затонувший корабль в виде тщательного укрытого катренами выражения. У всех, повторяю, преподавателей чтения, которые недостаточно тщательно готовятся к урокам и выбирают для разбора стихотворение «Телега жизни».
Не уверена, что за время занятий мне удалось сделать ему прививку любви к книгам. Я не восприняла это как своё поражение, ибо его свобода осталась шире той, какую можно извлечь, листая страницы.
* * *
Безусловно, не следует привязываться к вещам. Одержимость вещами приводит к непредсказуемым последствиям, не раз показанным поэтами и писателями разных стран. У нас дома долгое время висела табличка с фразой о том, что нужно, если решил вести счастливую жизнь, быть привязанным к цели, а не к вещам или людям. Со словом «цель» наше с сестрой знакомство состоялось уже потом. То, что не стоит быть привязанным к людям, нас озадачивало: отвязать себя от членов семьи, каждому из которых отведён был отдельный том сборника стихотворений в моём случае и песен в случае сестры, казалось делом непостижимым. Вопрос, в действительности ли можно не дорожить вещами также, шатаясь, стоял под сомнением.
Постепенно мы разъяснили себе слово «цель». Поняли, что людьми всё-таки дорожить стоит, что они приходят и уходят, и не со всеми протекает бесследно этот процесс. Вещи же, был наш вывод, не обладают ценностью, содержащейся в цели и людях, но иногда вещь относится к людям и целям непосредственно. В нашем случае взаимосвязь существовала между человеком – мамой, вещью – платьем и целью – мамой, одетой в него.
* * *
Итак, с моей профессией всё с самого начала было неопределённо. Никакое дело не отталкивало, как и никакое других более не привлекало. Костюмер, корректор, продавец книг и пирогов, составитель карт, преподаватель французского, русского, тунгусский тоже выучить можно, кладовщик – ни одна область не пугала, но и не светила на общем фоне разнокостюмных и разнооплачиваемых работ.
Сестра, которая уже нашла себе дело, видела, как я извожусь, и предлагала вакансии: товаровед на овощной рынок, машинист электропоезда. К машинисту, кстати, предъявлялось довольно мало требований: образование не ниже среднего, которое имелось; дисциплинированность, недостатка в которой не ощущалось мной, и желание учиться, чего, по моим подсчётам, у меня было сполна.
Хотелось всё познать и попробовать. Сделать, по Репину, далёкое близким. Очеловечить, по Блоку, всё сущее. По нему же, несбывшееся воплотить. Иначе говоря, в поезде, машинистом которого меня бы взяли, вместо предупреждения о закрытии станции на ремонт мы читали бы «Заблудившийся трамвай». После слов «Следующая станция – Достоевская» говорилось бы: «А не прочесть ли нам отрывок из романа “Идиот”?» Чёрная речка никогда бы не объявлялась, а если бы кто-то иногородний всё же спрашивал по прибору для связи, какая станция, получал бы ответ: «Я ему, Дантесу, сукину сыну…»
Нелитературные станции, даже при том условии, что они являлись важными городскими узлами, мы бы, естественно, пропускали. Зато подолгу стояли бы на Адмиралтейской, слушая о судьбе Мандельштама и пытаясь увидеть сияющие издали фрегат, акрополь и циферблат. На Кирзаводе погружались бы в биографию Рубцова, работавшего кочегаром неподалёку. С Чернышевской отправлялись бы, только дочитав до конца один из снов Веры Павловны. Отправлялись бы мы, соответственно, с вагонами полупустыми.
К счастью, жители моего города по-прежнему пересаживаются в нужных местах и не опаздывают, так как в их обязанность не вменено прослушивать лирику Николая Рубцова. Потому что в огромном списке профессий отсутствовала самая главная. Ведь хотелось, если подумать, стать ни машинистом, ни музыкантом, ни почтальоном – самим собой. Собрать себя из разрозненных частей – накрепко и воедино. В резюме не напишешь: хочу стать самим собой, а ведь именно эта специальность – единственно искомая. Кто-то там говорил (Че Гевара!), что путь без препятствий ведёт в никуда. А я-то иду в куда.
Последним планом моим было работать няней, как была у меня или какой была, скажем, Арина Родионовна, и чтобы с французским, как Лидия Михайловна, и я стала няней на французском. Расскажу, постараясь не слишком отвлечься от изумрудного ориентира.
Наша няня няней до нас с сестрой не была. Она была учительницей музыки по классу фортепиано и женой командира мурманской подводной лодки. От работы досталась ему крупная пенсия и слабое сердце, что по задумке должно было друг друга уравновесить. Когда сердце мужа не смогло более довольствоваться предоставленными привилегиями, Ирина Евгеньевна уехала в Петербург.
На синем блочном доме, в котором она поселилась, висели вверх тормашками объявления. Ирина Евгеньевна потянула за край одного из них – на нём значилось: «Ищем девочкам няню».
Она не хотела становиться няней. И просила так себя, войдя в наш дом по объявлению мамы, не называть, невнятным, детским, а всегда полностью – Ириной Евгеньевной. Не по статусу было ей, преподавателю музыки, вдове командира подводной лодки.
На блочный дом продолжали крепить объявления. Белые, плыли они по синему фасаду, как облака. Там было одно о том, что отдают пианино. Пианино отдавали в хорошие руки. Степень хорошести рук измерялась умением играть.
Пианино приехало к нам под ночь, прокатилось грохотом по дороге, было внесено, как китайский император, в дом. Вблизи выглядело оно куда менее помпезно, чем китайский император, куда более отечественно и звалось «Берёзка». Ирина Евгеньевна начала учить нас игре на фортепиано. В жизни её восполнена была музыка.
Мы больше всего любили слушать, как она играет. Соглашалась неохотно, но играла долго и не только то произведение, над которым работали. Поначалу робко бралась за клавиши и не хотела снимать рук, словно отпущенная клавиша тотчас ушла бы в небытие. Чем чаще менялись мы с ней местами, тем увереннее становилась её игра.
У нас были показы. Мы сдавали бабушке разученные произведения. Мы ждали, что нам в честь этого разрешат миновать обеденный суп, зная, что за всю историю детства ещё не случалось такого, но, как и во всю историю детства, не переставая надеяться.
А ведь изначально собиралась преподавать французский, примерно ровеснику – вспоминается мне, пока держу ручки коляски, в которой спит – год и семь – Глаша. На коляске три пары ладошек – Юры, Даши и Маши. («У меня глаза больше, у Даши поменьше, а так мы совершенно похожие. У нас почти у всех – у пятерых – карие, только у Юрки голубые».)
Родители позвали меня в качестве няни. На французском. С детьми играть и жить, только à la française. Мама мягкая, у неё самый тёплый оттенок карих глаз в семье. Папа грозный, но цитирует Гришковца и Довлатова и, читая их, пожалуй, хохочет, а грозный в силу профессии главврача, много времени проводящего в орапеционной.
Тип работы – эксперимент.
Цель – зажечь. У детей всё есть, а это страшный недуг, когда есть всё. Зажечь по-русски и по-французски. Всех – от Глашеньки, год и семь, – до подростков.
I
* * *
Сначала клетку нарисуй
с открытой настежь дверцей,
а рядом что-нибудь ещё
красивое,
простое,
то, что придётся по душе
и пригодится птице.
Потом рисунок свой повесь,
повесь
в лесу
на ветке,
потом, дыханье затаив,
тихонько
жди у клетки…
Это начало стихотворения Жака Превера «Как нарисовать птицу». Его перевёл Владимир Орёл. Он был переводчиком по призванию, и ему удавались стихи про птиц. Возможно, этому он был обязан своей фамилии.
Только вы не пугайтесь. Она очень беременна. У неё сорок первый месяц.
Одному нашему дедушке восемьдесят, а другому – девяносто восемь. Но он всё ещё живой. Зрелый старичок.
А это Юра, Маша и Даша. Их язык в оригинале привожу я.
Когда у нас с сестрой была няня, она делала записи в тетрадке с названием «Говорят дети». Как Корней Чуковский. Правда, пореже.
Я провела первый урок французского. Рисовали птицу Жака Превера. Слушали стих.
Пошли к пожарному водоёму. Присоединилась Полина девяти лет и её мама. Набросанный Дашей портрет Полины («С ней лучше не общаться. Она обижается много раз») сошёлся с действительностью: Полина начала с рассказа о физкультуре: «А так как я одна из самых спортивных и к тому же высоких в классе…» О её маме Маша с Дашей не преминули меня полногласным шёпотом оповестить: «Только вы не пугайтесь. Она очень беременна. У неё, знаете ли, сорок первый месяц…»
По пути они рассказывали о семье. Один дедушка празднует своё восьмидесятилетие, а второму недавно исполнилось девяносто восемь. На моё «ого» последовало заверение: «Да, но он всё ещё живой», – и итог: «Зрелый старичок», в чём сомневаться не приходилось.
Дети хвастали Полине, что теперь учат французский и что мама пообещала с теми, кто за год выучит, отправиться летом в Париж (в Геленджик поедут все остальные). Даша, закинув под голову руки:
– Поеду на башню и… – обернулась ко мне за помощью: – Что можно делать на башне? Пить какао, трогать облака? А что-нибудь чувствуешь, когда до облака докоснулся? А свобода какая? Большая, длинная? Безграничная или как?
Во время купания Даша рассказывает не полюбившейся Полине:
– В будущем году поеду во Францию и увижу лавандовые поля и ещё поля Елисея.
– А что с полями делает Елисей?
– Елисей-то? – Даша плывёт, думает: – Следит, пропалывает… васильки и лаванду.
Полина прикусывает губу, оказываясь за бортом выигрышного положения одной из самых спортивных и к тому же высоких в классе.
Собираем букеты для мамы и старшей сестры Вари. Маме поярче, Варе – нежнее. Ей тринадцать, она – принцесса, и в этой должности до скончания переходного возраста и останется. С чьего-то участка глядит из-за забора роза. Говорю об Экзюпери.
– Кого из близких автор мог представить в образе розы?
– Собаку? (слышала бы жена Консуэло).
Собака – больная тема. То и дело маме:
– Мама, у нас шесть детей и ни одного пса.
– Зато один папа, и тот с аллергией. Тут нужно сделать выбор: собака или отец.
Сникают, глядя в супы:
– Сложный, честно сказать, выбор…
2
Вплетала в сестрорецкий парк «Дубки» французские реалии. Рассказала про Эйфеля. Даже двухгодовалой Глаше, памятуя о том, что у детей всё остаётся, и на самом деле просто не умея с маленькими говорить. Хочется не подвести их, не соврать. У каждого ребёнка внутренний сверхчувствительный детектор лжи.
Читала им Экзюпери на французском и русском про то, что все одинаковы и живётся всем скучновато.
– Все люди разные, – спорит Даша. – У них разный размер ноги, характер – приятный, нелицеприятный, нормальный. И живётся скучновато лишь нелицеприятным.
Ждали обеда. Рассказывала про деликатесы во Франции. Договорились засушить шесть – по числу детей – лягушек из соседского ручейка. Приготовили крок-месьё (горячий бутерброд в русской транскрипции) и «Ля Пеш Мельба», персик с мороженым, прозванный именем певицы, боявшейся заморозить связки. Собирались сделать салат из семечек подсолнечника с французской горчицей, но подсолнух ещё не созрел.
Юра предложил сбор подсолнечных семечек с участка на продажу. С этого можно бы было немало выручить. Предполагалось оштраховывать всех, кто предпочёл бы иные марки. Считали бы мы во французских деньгах. Так что, если встретите сестрорецкие семечки за два франка пятьдесят центов, вы знаете, кем они взращены.
Глаша молчала и показывала, что её удивляло всего более, а более всего удивляли её деревья, вода и собаки. Она мычит, поднимается в коляске, направляя палец в лабрадора, в сосну или в колонку с водой (и любит же она воду, упивается каплями, стекающими по губам!). Все жаждут беседы с ней. Лезут в карман за словом, дабы нечаянно выпавшее не стало третьим после «папы» с «мамой». Обещали повысить оплату, если им станет сочетание «Ля тур Эйфель». Неважно пока ей живётся, бессловесной иностранке в мире слов родного языка.
II
Бывает, птица тут как тут,
бывает, год за годом
в лесу прилёта птицы ждут.
Но всё равно
ты жди,
жди, если надо, год за годом:
знай, птица
к рисунку твоему
должна спуститься.
Всегда было интересно, как чувствуется с изнаночной стороны. Мне-то казалось, что нашей няне безгранично повезло, что ей всегда обеспечена шутка и необыкновенное времяпрепровождение, не осознавалось, насколько трудно сидеть с утра до вечера с нами – день кончается, в детской свет становится тусклым, и такая тоска. Участвовать в выдумках, на которые у детей безлимитный запас фантазии, и при этом субординацию сохранять – необходимую вещь в деле воспитания, настолько неясную, что не знаешь, сколько в слово вписать букв «б» и в какую сторону они пишутся.
Их мир состоит из семьи. Детей по количеству материков, папа – Северный полюс, всех охлаждающий; мама – омывающий континенты и папу мировой океан. Кроме семьи, в их жизни есть дом и дача – из категории пространства, погода – из категории времени.
Дача пахнет дождём, грибами и банным чаном. На даче есть магазин «Балтика», название которого выгравировано пивными буквами и который для них – почти храм, со священнослужителями – братьями-продавцами Шамилем и Исламом («Близнецы. Только у Шамиля волос попышнее».) На даче есть черничные места, и лес, в нём всё такое большое и живое и пахнет, и колонка с водой, на которую Глаша может долго-долго смотреть и прикасать ладошки к лицу, оставляя на память вкус воды, который она готова предпочесть вкусу чупа-чупса.
Можно собирать лягушек у дома и кормить хлебом уток на озерце. Сесть на поваленное бревно, смотреть на лес, опрокинутый в озере, и угадывать погоду.
– Как, Маруся, понять, куда идут тучи?
– Смотреть, Даша, сосредоточенно.
Если зима и тучи несут в себе снег, он будет сладкий, с еловым привкусом. Если лето и туча выльется в дождь, нужно просить, чтобы не скрылось солнце и дождь оказался грибным дождём.
Юра:
– Дождь. В солнце. Бери корзинки! Грибы пошли.
Даша:
– Юрка, да рано же.
– А сколько ждать?
– Полчаса, думаю, подождём.
Единственным отрицательным пятном во всей дачной их географии выступает пруд – пожарный водоём. Когда мы в первый раз к нему направились, рядом стоял гражданин. Даша, Юра и Маруся меня заблаговременно, то есть за метр, предупредили, что он страшно злой. Как-то неудобно с ним после этого было здороваться – прошли, запустив взгляды кто куда.
В пруду, по детскому поверью, водится немерено огромных щук. По подсчётам взрослых, щуки там три, и длиной каждая со школьную линейку.
Житель линии, на которой находится пруд, решил его облагородить. Повесил список запретов, где, помимо «не курить – не распивать – не мусорить», было: «Не шастать по газонам, не переходить канаву вброд, не кидать под сосну фантики». Детям, как можно понять, оставалось там нечего делать.
Запретил купаться одним до двадцати одного года. Маруся, Даша, Юра и Глаша в периоды, когда не имелось у них няни (а няни сменялись в семье, как правители в эпоху дворцовых переворотов), продолжали ходить без взрослых, объясняя:
– Мне девять, десять Маше, Юре пять, Глаше скоро два. А дома тринадцати и пятнадцати Варя с Ваней. Нам даже больше, чем двадцать один.
Пока дети бомбочкой прыгали, пришла женщина. Мои, уже день изучавшие французский, а до этого, с другой няней – английский, сразу после «Здрасьте!» спросили её:
– А вы ещё мисс или уже целая мадам?
– Надо говорить «Здравствуйте», – сказала она и грациозно опустилась в воду.
Рядом с ней тут же прыгнули, завизжали – померещился щучий хвост! – заволновались.
Когда она вышла из воды и сорвала цветок из своей клумбы, Глаша, внимательно на неё смотревшая, его не взяла. Он подарен был не из сердца.
Гражданин косил траву, дети возле пруда ходили. Выключил пилу, повесил её на себя и, приняв облик викинга, обратился:
– Хотите, чтобы трава никогда не выросла?
Даше с Юрой, измерявшим лужайку в единицах собственных ступ; Марусе, помогавшей одуванчику пробиться сквозь камень, и до всего любопытной Глаше только того было и надо, чтобы взошла трава. Мы попятились в сторону дома, целясь в гражданина репейником.
Маруся:
– Не дай Бог такого дедушку. В пруд попрыгать не даст, на костре не пожарит сосисок.
Даша:
– И ему не хочется говорить «здравствуйте».
Юра:
– И «спасибо».
Маруся:
– И «извините».
III
И если птица прилетит
(когда захочет),
молчи и жди,
пока она не впрыгнет в клетку –
тогда
тихонько дверцу кисточкой закрой.
Потом резинкой
сотри по одному все прутья клетки,
не задевая птицы,
и дерево рисуй –
пускай она садится на лучшей ветке,
потом рисуй зелёную листву,
и лето жаркое, и тихий ветер,
и солнце, и шуршащую траву.
И жди теперь, не запоёт ли птица.
Все случаи, имевшие место в жизни, кажутся детям особо ценным знанием, которым следует при первой же возможности поделиться. За упущение сочтут, если не расскажут, сколько раз кого по дороге вырвало и кто надел на голову во время обеда горшок. Истории я выслушивала, некоторые, особо пикантные, просила подсократить, иные умоляла пресечь в самом начале. Но под конец пребывания в доме, когда знала, какой у каждого из детей пупок – выпуклый или впуклый – словом, когда наконец мы стали донельзя близки, я и сама выпростала им пару историй из своего детства.
Такие истории могут обернуться для автора двояко: победоносным завоеванием авторитета либо падением со взятых высот. Отважившись, источник должен помнить обо всех возможных исходах.
Я, Юрочка, Маруся, Даша, знаю, что значит ударить лицом в грязь, не понаслышке. Стояла на нашем участке ванна. К ней приближалась я в миниатюре. В ванне лежал навоз. А мне к тому времени солнце осточертело, не терпелось облиться водой, и я, не подозревая о содержимом ванны, закрыла глаза и в таком положении соприкоснулась с ней. Дальше каждый додумает сам: отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы, и так далее, скоро будете в школе учить.
Этот случай можно бы не вспоминать, чего я искренне, Юрочка, Даша, Маруся, желала бы, когда бы не стал он коронным номером моей бабушки. Как только примется она за этот монолог, годы её сбавляются, и я готова нестись искать навозную ванну – чтобы у неё было хотя бы пару таких историй для смеха, актёрства и помолодения кожи лица.
Отклик на случай был куда живее, чем на факты об Эйфелевой башне. Потому мне пришлось ещё покопаться на чердаке детской памяти и достать оттуда все истории из разряда «Завоевание авторитета среди ровесников посёлка». Благо, я прибегала к ним в своё время с удивительной частотой, так что истории, хоть и залежавшиеся, сохранились в почти не тронутом взрослением виде. Там была краткая биография каждого шрама лица и тела.
Даша:
– Тебе было очень больно?
– Да. (И очень жаль себя.)
– А когда мне обидно или больно и ещё хочется зареветь, я просто кусаю себя за руку или другую конечность или щипаю за шею, и боль переходит в другую боль.
Обещаю попробовать. Так легче будет переживать истории из разряда «Завоевание авторитета» и хранить их без боли на чердаке своей детской памяти.
IV
Раз птица не поёт,
считай – не повезло, рисунок не годится
С приходом беспогодных дней сменилось настроение дома. И если вчера мы могли единодушно искать сразу после грибного дождя грузди и не отчаивались, их не находя, пообещав друг другу проверить то же место завтра, то сегодня, вслед за долго копившей обиду и разрешившейся громом тучей, плохое настроение ворвалось в дом, и его оттуда уж было не выдворить.
Родители уехали, дети считали, сколько времени прошло от отъезда мамы и сколько осталось до приезда её (число часов, оставшихся до приезда, всегда было меньше). Звучали соображения касательно времени. Юрочка, лёжа, закинув руки под голову, в любимой позе детей, стимулирующей мечтание:
– Мама когда уехала? Сегодня?
– Вчера.
– А мне казалось, сегодня. Ночью. Примерно в одиннадцать.
– Одиннадцать – это вчера.
– А одиннадцать пятьдесят девять?
– Сегодня.
– Значит, я видел её в одиннадцать шестьдесят.
Было ясно только то, что мама была тут, а сейчас её не было, она была в Москве, на годовщине свадьбы с папой, а мы в доме – уже не в дачном, а в городском, на улице Авиаконструкторов, названной в память о первом аэродроме.
Ссора началась с пустяка. И, как сорняк, разрослась на пустом месте. Даша отобрала у Юры игрушку. Игрушка, о существовании которой забыли уж, тут же обрела невероятную ценность, за какую не жаль ущипнуть младшего брата и укусить старшую сестру.
Даша смелее Юры. Он – мужчина пяти лет. Мужчина, о чём ему вынуждены напоминать, но таки пятилетний, о чём напоминает сам в свою очередь. Юра всхлипнул, и уж бесполезно подсказывать было ему, что он мужчина, в тот момент он только и знал, что взяли его игрушку и что ему всего-навсего пять лет.
Пошатнулся и внутренний стержень Даши. Позвонила папе в слезах. Тишина набухла в комнате. И висит она, точно туман, плотная (по убеждению их отца, самое страшное происходит, когда тихо), а Юра и Даша, задержав во всхлипе дыхание, лежат, повернувшись спинами друг ко другу.
В комнате – много рисунков. Все посвящены семье и содержат подписи: «Это папа. Он врач. Он всегда всем помогает и маме на кухне»; «Это мама. У неё коричневые волосы, любовь к детям и румянец на щеках». На стене идут птичьи часы: тикают звуком, который издаёт изображающая час птица.
Помирить детей – то же, что посредником выступить в споре конфликтующих государств. Оба субъекта с радостью от твоих добрых услуг отказались бы. Говоришь одному, что мириться первым – благородно. Говоришь второму, что первый не так и виноват. Рассуждаешь о великом даре прощать. Но ничто не достигает цели.
Тогда я предлагаю скорее мириться, чтобы вместе идти за мороженым. Государство с бо́льшею слабостью к шоколадному рожку сдаётся: Юрочка тянет к Даше мизинец. Страна попринципиальнее не соглашается: Даша говорит, что ждёт, когда Юра за что-то прошлое извинится, вот уже год. Юра, которому вместе с возникшим образом мороженого добавилось мудрости («Даша, ты же знаешь, я вообще почти совсем неумный. И нехороший. Но к вечеру-то должен похорошеть»), парирует:
– Иногда ждут несколько лет, когда извинятся. Даже десять.
И потом совершенно как царь Соломон:
– Иногда ждут, даже когда умерли.
Через время принципиальная моя страна Даша протягивает, не оборачивая головы, Юре мизинец. Ссора пережита. Государства мама и папа оказались не втянуты в войну.
Вместе с портившейся погодой накрапывали мысли о конце лета.
– А после лета будет осень? – спросила меня Маруся, переходящая в четвёртый класс. Я бы, если могла, ответила ей отрицательно, вставила бы какое-то новое время года между летом и осенью, постелила б матрас на железную кровать, чтобы не так больно было срываться в учёбу.
Юрочке пока что хочется в школу. Ему до неё год. Маруся и Даша уверены:
– В школу сначала хочется, потом расхочется.
Мне нравится, что в них нет стремления быть лучшими. Отсутствие целеустремлённости – скажут мне. Свобода с восклицательным знаком – отвечу я, изводящаяся с детства при невозможности сделать задание лучше всех в классе. Даша написала диктант на два и учителю объяснила: так и так, семейные обстоятельства в виде пятерых братьев-сестёр.
Приближение осени печалит моих школьников. И Маруся, поэтичная Маруся, грустных нот набросает в личном дневнике: («Что ты в дневник записываешь?» – «Ну... записи своей души»). Они разные с актрисой Дашей (та, накрасив ногти: «Хорошо чувствовать себя женщиной!..»). Но это мои именования, данные по названию кружков, которые посещают, и по склонности характера. На деле же диалог о профессиях состоялся у нас короткий:
– Думали уже, кем хотите стать?
– Нет. А что, нужно думать?
Много ли успели по-французски? Прошли алфавит, цвета и цифры, этр и авуар, членов семьи («В чём счастье?» – «В маме. Как море, только слово подлиннее»).
У Даши получался французский, у Маруси похуже, Юра не поддавался учению, хотя во время ловли бабочек затвердил себе слово papillon. Глаше не нравилось категорически, что во время уроков на неё почти не обращаем внимания, и она голосила на всех знаемых по-русски словах, среди которых имелось и обращение, самое ласковое из когда-либо ко мне относимых: «я-я».
В общем, в какой-то момент урока неизменно начинала реветь Глаша, разбрасывая по комнате стихи, аксаны и Эйфелевы башни, и мы шли играть с ней, принимая то за заслуженное блаженство. Маша и Даша устраивали игру в школу, больницу, парикмахерский салон, где мне непременно ставилась тройка «за неокуратность», делался укол и заплеталась причёска «гнездо на волосах».
Одну сторону моей головы (до того смоченной компрессом) заплетает Маруся, другую – Даша, разделяя волосы так, чтобы ни одна часть не перешла сестре. Глаша, почувствовав эмансипацию, сорвала памперс. Юра ревёт, что не играю с ним. Я закрываю глаза и думаю уж не раз меня посещавшую мысль: что я вписала в анкете на учителя по французскому чтобы очутиться в таком качестве здесь?
Нужно было добавить походы и игры, которые бы показали законность ежедневных мучений. Прописали животных и отправились в зоопарк. Дальше остановились у птичьей клетки – возможно, Преверовой. Я со своим наставлением повторять французские слова и самой себе стала напоминать ловца птиц. Но у меня нет клетки. Есть любовь к языку и к парам глаз, обладателям которых хочется дать французский для увеличения площади крыла и высоты полёта.
V
А если запоёт, то, значит, повезло
и время подписать рисунок подошло.
Вот птичье пёрышко –
оно бы подошло.
Возьми его и подпишись под птицей.
В зоопарке шёл дождь, не дававший забыть, какое время года за летом последует. Это что это получается: впереди – ссутуленные дни, сгорбившиеся месяцы, ни один из которых не будет летним и ни в одном из которых мы не пойдём искать лягушек после дождя, а вечером, в электричке, я не буду вытряхивать из капюшона репей? Не много же стоит такая жизнь!
Когда лето совсем почти истекло и мне надо было возвращаться в Москву, в город, в котором есть много всего, но нет четырёх пар – трёх карих («У меня, Маши, больше, у Даши поменьше, а так мы совершенно похожие») и одних голубых глаз, да ещё глаз старших подростков, а значит, в город малой привлекательности я приехала прощаться на дачу. Зашли в «Балтику», заглянули в грибной лес, попутно в нём отыскав черничное место, и всё было спокойно, но я никак не могла собраться, и Маша на мой вид обратила внимание – так же, как фиксировала в полный голос все изъяны и изменения моего лица:
– У тебя глаза, будто ты долго-долго плакала.
Я покатила коляску с Глашей скорее. Пахло лесом, черникой и подступавшей к горлу осенью. Они знали, что следующим летом я не смогу быть у них, что у меня диплом, это важное мероприятие, в котором около сотни страниц, но ни с одной из которых не звучит смех Глаши при виде текущей из колонки воды. А через два года они переедут в другой дом. И их маме придётся заново шить занавески. Зато участок будет больше и на нём будут деревья и, следовательно, грибы. Потому вот, что слышалось мне:
– Зато грибы взойдут прямо у дома, когда позаследующим летом приедешь.
Раньше, когда у меня самой была няня, каждое лето я выбирала одну ночь и в неё не спала, чтобы её прожить от края до края. Благодаря этой ночи мне удавалось запечатлеть лето сполна и в течение года смотреть на мысленный снимок. Не было режущей боли в последние дни августа.
В этом году лето быстрее, точно его кто подсократил и не дал досмотреть до конца, остановив на самом на интересном: Глаша заговорит вот-вот и сможет выразить всё, что от молчания наболело – радость встречи с водой, и с солнцем, и с белым грибом, заметным ей в силу роста более, чем кому-то другому. Не исключено, что на французском.
Наша няня научила нас ходить на горшок, отличать право от лево и играть на пианино. Этими навыками мы пользуемся по сей день. Няня первой рассказала про смерть и мужа-моряка. И в тетрадке вела летопись наших детств.
Я помню, как няня ушла, и знаю: не нужно держать обид, знаю от неё, но это правило до конца не приняла себе, оно вместе с особо сложными местами из грамматики не улеглось в моей голове.
Няни уходили. Няня нашей подруги Кати, Наталья Прокофьевна, была мягкою – черта, заложенная отчеством. У нашей было Евгеньевна отчество, что твёрже звучало и отражалось на её принципе воспитания нас.
Наталья Прокофьевна разрешала Кате обедать без супа, а зимой строила детям ледяной лабиринт. Мы с сестрой были бессильны против суповой атаки, ведущейся бабушкой с няней, приём супа и становление настоящего человека были связаны у них непосредственно. Когда проводился у нас праздник осени и роли распределялись в соответствии с темпераментом, няня Кати изображала Золотую осень, Ирина Евгеньевна – Урожай (потому что всегда была готова дать новую порцию упражнений сольфеджио), бабушка – Тучу. Ни у кого не возникало сомнений по поводу актёра на последнюю роль. Всем видевшим бабушку, угрожающую тому, кто не ест суп, был очевиден прообраз тучи.
Тем не менее Наталья Прокофьева первой ушла. Нам подумалось, что своё мягкое отчество она не заслужила. Катя же с ней росла. У неё была няня с ледяным лабиринтом и опциональной возможностью не есть суп.
Ирина Евгеньевна позже ушла. Нам оставила она строгость, поручив её бабушке полностью, забрала же обучение правилам морали и музыке. Ирина Евгеньевна не унесла с собой пианино – не настолько физически сильной была она, но следом за ней исчезла необходимость играть каждодневно. Не то чтобы мы этому воспротивились, не то чтобы музыка считалась занятием добровольным – я не знаю ни одного человека, который по своей воле подписался бы на уроки сольфеджио, но теперь некого стало просить занять стул пианиста.
Мы с сестрой уход няни предательством не обозначили. Не могла она после того, как обучила письму и на слух различать три восьмые; доказала, что свою ценность имеет каждый суп; после того как открыла про смерть и позаботилась о доставке пианино. Няня просто решила, что хватит с нас сонат, а с тем, чтобы мы каждый обед ели суп, бабушка сама управится, и потому ушла. А не потому… Не потому…
Когда наша няня уходила, нам не было сказано остроконечной фразы: «Няня больше не придёт», и потому у нас не было последнего дня с няней. Мне всё же кажется, что её необходимо произносить.
Дети поняли, что я уезжаю, и не прекратили крутить мясорубку, вчетвером стоя на стуле и бросив короткое: «Ага». Дети должны быстро привязываться к людям, вошедшим в дом, и с тою же скоростью отпускать их. Соглашусь. Но согласие не противоречит тому, что я жду звонка от повзрослевшей Глаши и декламации (таки слушала!) первых строчек стиха Превера.
* * *
Сколько зелёных платьев было за это время сшито? Думал ли тот, кто покров проектировал, кто прилагал ценник в магазине, что то не рутинная работа по производству и продаже платьев, а приближение к нашей маме одного из зелёных платьев, того самого, которому суждено будет однажды стать наглядным осуществлением мечты?
Шли годы (пятнадцать лет), сменялись моды (пятнадцать мод), неизвестное платье распускалось и зрело. Тот, кто за ним ухаживал, носил бейдж «модельер», хотя мог бы сменить его на «исполнителя мечт», особую эту профессию, сложнейшую и счастливейшую из всех профессий.
На этот раз, выпавший на окончание весны, мы поехали в магазин без мамы. Ходили сосредоточенно. Сестра было показывала на приглянувшийся ей аксессуар, но я скоро выправляла обратно её энергию в нужное изумрудное русло.
По ходу возобновлённого поиска появлялись варианты: салатовая юбка с пиджаком, бирюзовый комбинезон, сарафан цвета дозревшей оливки. И это могло бы сойти за правду. Но стоило лишь взглянуть на эту сарафанно-комбинезонную правду поближе, как оказывалось, что то была совсем не единственная изумрудная правда, которую разыскивали мы и которую были готовы отстаивать. Нельзя копить на собаку и согласиться на кошку, поскольку менее хлопотно, а после и вовсе не протестовать против хомяка.
Оно сразу забралось в сердце, потеснив другие образы. Примерка производилась сначала на мне, так как у меня мамин рост, затем на сестре – у неё мамино сложение. Нужного размера платье было одно. Не залежалось на складе второе. Не имелось у нас пока и средств.
Мы старались о мечте никому не рассказывать, главным образом потому, что у услышавшего могло возникнуть желание аналогичное, и нам было бы ещё труднее. Но ситуация стала безвыходной, и мы приоткрыли консультанту завес мечты мамы. Та, услышав, распустила мышцы лица, после чего сказала, что оставит платье в дальней примерочной, спрячет от взглядов, не вынесет в зал.
За лето мною испробованы были различные профессии, от учителя, няни, продавца, почтальона и горничной до сотрудника собачьего приюта. Моя сестра выучилась на массажиста. Массажный стол еле поместился в нашей квартире. А потом в ней еле помещались мы, а ему жилось вполне вольготно. У сестры к этому с детства лежала душа и были приспособлены руки. Раньше руки забирались на канат под самую высь, а теперь мяли одеревеневшие спины. Она играла по позвонкам, как по арфовым струнам. На осень мы были записаны на стажировку по специальности конюх-разнорабочий.
К концу августа собрали средства, но возник, как маяк, вопрос: дождалось ли платье, одно-единственное зелёное платье в большом нашем городе, в котором много женщин со сложением мамы, хорошим вкусом и страстью к зелёному? Мы отдавали себе отчёт в том, что платье могло уже гулять по Петербургу, и, прежде чем звонить в магазин, соскребли предварительно всю надежду. Платье-невидимка, спрятанное другой одеждой, осталось некупленным.
В тот день не делалось ничего. Вспоминались пятнадцать лет, которые длилась мечта, что немало, поскольку мы обе были несильно старше пятнадцати. Оплатив, возвращались пешком: оставалось тридцать рублей, двадцать рублей, двадцать пять.
Нечто похожее на опустошение пронеслось над нами с сестрой, но мы скоро взяли себя в руки, тем более что в другой руке одной из нас находился пакет с зелёным платьем. Зашагали бодрей и запели, потому что всегда, где бы ни находились: в посёлке, в котором выросли, на Васильевском острове, куда переехали, или в Русском музее, – поём, изгоняя прокравшуюся в сердце грусть. Сердце было заполнено изумрудным, благороднейшим из всех зелёных платьем, готовым принять в объятия нашу маму. По пути мысленно и вслух мы благодарили консультанта, выслушавшую выговор; модельера, придумавшего платье; швею, воплотившую его в жизнь; заносчивых дамочек, служивших необходимыми вехами на пути познания зелёных платьев; маму, оставшуюся в том же размере, и друг друга за то, что не расплескали мечту и донесли её до конца.
Платью в шкафу выделены особые покои. Встанем, бывает, ночью, откроем, друг на друга глядим: «Даёшь!» – «А то!» Мечта не истекла – есть одно пока только летнее платье. А в чём мама будет ходить осенью, зимой и весной? Как поправит не в ту сторону свернувшее настроение? Зазвучат четыре платья, как музыка Вивальди. К каждому мы, как он, напишем на бирке стихи. Так что там с вакансией конюхов-разнорабочих?..
