№2.2023. Сергей Янаки. И мы пахали… Рассказ
Сергей Георгиевич Янаки родился 17 сентября 1952 года в Уфе. По образованию техник-электрик, основная специальность – инженер-связист. Поэт, переводчик, публицист. Член Союза писателей России и Союза писателей Республики Башкортостан. Автор книги стихотворений «Моё язычество», публиковался в «Литературной газете», республиканских и российских СМИ. Сделанные им переводы представлены в антологии «Современная литература народов России. Поэзия» (2017) и в ряде книг поэзии башкирских и татарских авторов. Скончался 16 октября 2021 года в Уфе.
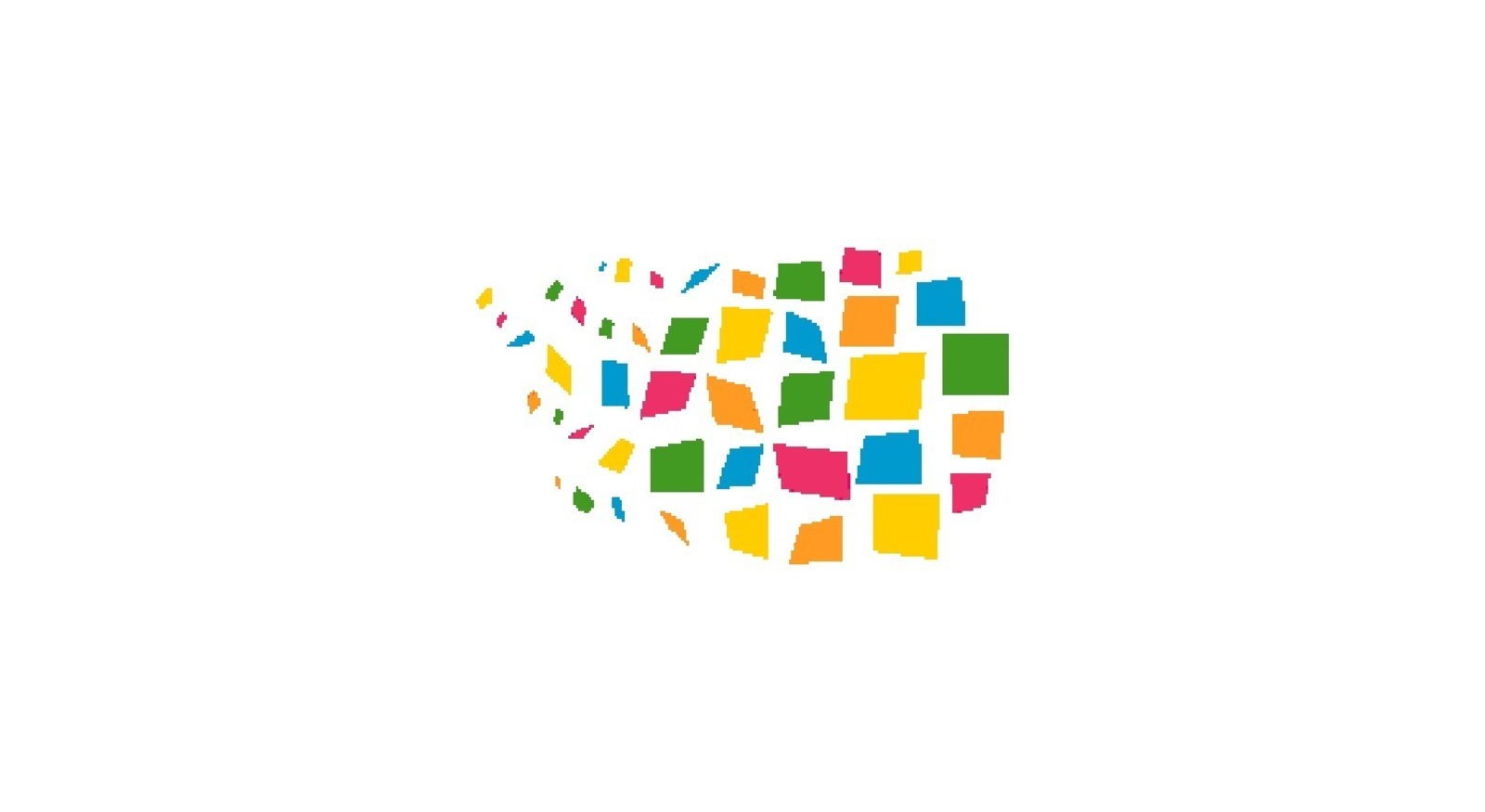
Кажется, это был 1988 год, когда в Доме печати, в цехе «Фотогазета», ещё точнее – в моей смене, появился новый работник. «Электрический механик», – так с чувством ответственности и незамысловатым юмором прокомментировал я полное название его специальности. Ведь в кои-то веки на должность электромеханика пришёл человек с высшим филологическим образованием, имеющий опыт работы референтом на одном из предприятий Уфы.
Позднее Игорь признавался, что ему тогда надо было где-то отсидеться год-два, а потом, глядишь, и место найдётся по душе. Но «отсидел» он на самом деле «по совокупности статей» (обстоятельств) приличный срок – восемь лет. Думаю, не худших. К тому времени я как раз начал «разрабатывать» правую руку... Нет, никаких травм – ей-ей! – не было, просто, если годами, кроме заполнения дежурного эксплуатационно-технического журнала и оставления подписи в зарплатной ведомости ничего не писать, неизбежно возникают последствия, мешающие замахнуться на большее. Это «большее» стало всё чаще и чаще заявлять о себе: стихи и стихия не просто случайные однокоренные слова.
Работа в газетном производстве одна из тех, что нельзя перенести на завтра. А наш участок по напряжённости, особенно во время партийных пленумов и съездов, был вообще её эпицентром. Зато в будни между вечерним и ночным сеансами связи с Цехом передачи Издательства «Правда», что в Москве, часто выпадали манной небесной трёхчасовые перерывы, позволявшие нам заботиться не только об исправности оборудования, но и о «профилактике» нарождающихся наших с Игорем дружеских отношений. Посмеиваясь над ходячим и привычным для газетного уха словосочетанием: «техническая и творческая интеллигенция», как-то Михаил Жванецкий популярно обозначил их качественное сходство: точно такое же, как сахар и талоны на сахар...
В один из таких перерывов, душным летним вечером, наши коллеги из травильного участка цеха «Фотоцинкография», одурев от паров азотной кислоты, вышли на природу подышать… другими парами, то есть отпраздновать день рождения своего товарища. Благо природа начиналась в десяти шагах от крыльца Дома печати. Заросший дикоросами и старыми деревьями своеобразный «парк» со своими нехожеными укромными уголками гостеприимно приютил весь сплочённый рабочий коллектив... Звёзды, луна и гордый рабочий человек – пока ещё хозяин своей великой советской и необъятной... Реализм и романтика в одном стакане, так сказать!
Не знаю, то ли тосты были такими задушевными, то ли травильщики умели и анекдоты травить профессионально, но захотелось всё послушать и экипажу патрульно-постовой службы. Вскоре подъехала ещё одна «скорая милицейская помощь», и вся пролетарская ячейка из шести членов вместе с мастером была взята под белы… под натруженные руки и отправлена в вытрезвитель... А часики-то тикают. Намечается срыв выхода ночных газет. Скандал неслыханный! Главное, из-за чего? Из-за какого-то пустяка! А что скажет Башкирский Обком КПСС?! Звонок директора Издательства открывал вовсе не радужные перспективы для людей в погонах… Одним словом, вскоре везли – задержанных, но не сломленных наших товарищей – из мест временного содержания назад с музыкой и с мигалками… Свободу патриотам полиграфического производства!
Встретили моего напарника в коллективе с радостью!.. Ещё бы! Выяснилось, что как раз надо было кого-то срочно отправлять в колхоз на целый месяц веточно-заготовительно-прополочных работ… Но ум гуманитария не готов был так сразу смириться с этой неожиданной прозой жизни. Со времён Герцена так повелось: ропот рафинированных дворян, свободолюбивых декабристов и идейных гуманитариев… «Страшно далеки они от народа!» Так неожиданно вековой русский вопрос встал и предо мной во весь свой неконтролируемый рост: «Кто виноватъ?» и «Что дѣлать?»… А бездействие преступно и чревато!.. Ведь придётся привыкать к другому электромеханику. Но, кажется, я знал, где найти ответы, недаром томик стихов А. Вознесенского облюбовал себе достойное место на моей прикроватной тумбочке…
– «Кто виноват? Пушкин! Поэт всегда виноват!» – как-то искусственно-неубедительно подбадривал я себя в палящий зноем день, отбиваясь от полчищ слепней, по дороге в деревню Новые Камышлы. Казалось, за спиной так и слышалось их торжествующее: «Погнали наши городских!»
Сопротивление последнего укрепления: «сам погибай, а товарища выручай» – было смято тонкой придорожной веткой, оскорбительно хлестнувшей по вспотевшей щеке горожанина…
– Тоже мне, нашёлся доброволец… двадцатипятитысячник… Семён Давыдов, хренов… Давай-давай, иди, стирай грань между городом и деревней, внучок Паши Анге́линой!..
Ох и языкастым бывает наш внутренний голос, если не дать ему вовремя укорот!
Но ближе к центральной усадьбе слепни стали отставать, наверное, признавая в измождённой жертве какого-нибудь ядрёного, проспиртованного мужичка, кровь которого их брату противопоказана.
Умывшись до пояса на колонке и войдя в двухэтажное серое здание местной администрации, я тут же услышал гулкий и прерывистый стук пишущей машинки…
– А председателя колхоза и председателя сельсовета нет на месте. И когда будут, не известно, – узнав, в чём дело, смущённо сообщила мне девушка-секретарь.
За время ожидания я успел ознакомиться со всей информацией, висящей на стенах по обеим сторонам пустынных коридоров казённого учреждения. Наконец, девушка, увидав в окно знакомый легковой «газик», подъехавший к гаражу, вышла на крыльцо, улыбаясь и говоря нарочито громко, чтобы слышало и подъехавшее начальство: «А вот и председатель сельсовета!»
Тот уже энергично направлялся мне навстречу, чуть ли не под мои ноги так же энергично высморкался направо и налево, ловко обходясь без носового платка и тут же подавая мне смуглую руку. Мы вошли в его кабинет с длинным, человек на двадцать, столом, взятым в осаду одинаковыми, как на подбор, стульями. Впервые оказавшись в роли старшего группы, я стал интересоваться у него полномочиями председателя колхоза и председателя сельского совета, вопросы-то размещения, питания и оплаты труда уже до меня довели. С кем их решать, ведь группа работниц Центрального телеграфа, к которому относился наш цех, уже неделю как трудилась на полях района? Мой собеседник приободрился, вышел из-за своего стола, перпендикулярного столу для заседателей, и произнёс, как я понял, своё давно и с болью выстраданное:
– Посуди сам, кто он? Председатель колхоза, просто хозяйственник. А кто я?.. – и, выждав актёрскую риторическую паузу, резко и окончательно подытожил: – Советская власть!..
– Зайдите ко мне! – позвал меня через распахнутую дверь неожиданно возникший председатель колхоза, почти сразу после неосторожного монолога хозяина длинного кабинета. Видно, секретарша уже доложила ему обо мне. Выслушав мои соображения, он тут же дал поручение всё ещё смущённому сельсоветчику получить в магазине, находящемся рядом со зданием администрации, несколько упаковок яиц. Стоя у окна, я вскоре увидел его с коробками, переходящим дорогу к дому наискосок... «Видно, своих кур нет, вот и для себя тоже отоварился», – предположил я.
Из кабинета председателя колхоза я вышел с победной запиской кладовщику холодильника с распоряжением выдать предъявителю сего 40 кг говядины и десяток пачек сливочного масла. Тут же у другого кладовщика я получил несколько буханок хлеба и 15 пачек чая.
А машину у председателя сельсовета уже увели. Без спросу… Открыв замок большого кирпичного гаража, ответственному работнику ничего не пришло в голову, как оскорбить несправедливыми словами безответное помещение. Проезжающий мимо нас «просто хозяйственник» остановился и, не задавая вопросов, отдал ключи от своей машины «советской власти»…
Поселили меня в добротный дом к пожилой женщине, у которой, к несчастью, младший сын-зоотехник содержался в уфимском СИЗО за драку. В его комнате я и проживал, по вечерам изучая «Справочник зоотехника», или «Справочник по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных», или другую литературу, сильно расширяющую мой однообразный технический кругозор.
Второй сын, старший, проживал в этой же деревне Ильмурзы, но на другой улице, не рядом. Вскоре ещё три наших работницы-девчонки переселились из чьего-то дома-развалюхи в новые рубленые сени хозяйкиного жилища.
Сельские просторы с непривычки сильно радуют городской глаз!.. Когда взгляд не сворачивает на зеленеющие свекольные или морковные грядки, уходящие за голубой горизонт. А у нас были – они, родимые. А над ними круглый день ястребом кружило хищное солнце, зорко высматривающее под собой и моё беспомощное двуногое существо, заброшенное на чужбину. К 18 часам к нам на двухколёсном мотоцикле подъезжал бригадир. Из последних сил оглядывал тощие грядки и всё ещё гладких, раскрасневшихся пропольщиц универсального профиля и укладывался тут же отдыхать рядом с аккуратными грядками. Нам казалось, что вокруг и без того хилых растений создаётся какая-то опасная атмосфера, несовместимая с их жизнью. Но вдруг, догадываясь сам, приподнявшись, бригадир подзывал меня, спрашивая, как будто впервые:
– Мотоцикл водить умеешь?
– Не пробовал, – честно признавался я в очередной раз.
– Тогда поехали, а то мотоцикл новый, – логично вручал он мне ключи зажигания.
Молясь по дороге, я деланно уверенной походкой приближался к технике, ведь приходилось же мне в юности пару раз прокатиться на мотовелосипеде школьного товарища. Бригадир садился сзади, азартно выкрикивая: «Гони!»
Лавируя между кочек, едва успевая объезжать гусей, индюков и глупых кур, бросающихся под колёса, мы доезжали до его дома, где у ворот уже ожидала неулыбчивая женщина, никогда не отвечающая на моё заискивающее «Здрасьте!» Видимо, из-за неохоты отрываться от составления своего плана действия на самое ближайшее будущее.
Утром, припозднившись, у дверей кладовой, поправляя тёмные очки и надвигая кепку до самых бровей, появлялся хмурый бригадир, молча выдавал мотыги и лопаты… И весь божий день, то тут, то там слышалось знакомое и безнадёжное: «Бригадира не видали?» А вечером опять, вдоль и поперёк села, по всем закоулкам разносилось, обгоняя наш увалень-мотоцикл, залихватское бригадирское «Гони!»…
Через дорогу, напротив нашего дома, жила бездетная, скандальная, регулярно выпивающая пара. Из всего хозяйства у них было три гуся, может, и куры водились, не знаю, не видел. Пруд находился неподалёку, в низине, сразу после довольно крутого и узкого спуска. Гусиные тучные стада тут встречались и мирно расходились, прижимаясь, одни – к правой стороне улицы, другие – к левой. Но так было не всегда. Стоило тем трём гусям из неблагополучного семейства встретить на своём пути даже многочисленное скопище чужаков, как начиналось представление. Забияки, растопырив крылья, перекрывали всю трёхметровую ширину улицы и не давали спуску никому. Крик, гогот, паника, позорное бегство – вот исход таких встреч с ними. «Неужели гуси копировали поведение своих социально-активных наставников?» – мучился я вопросом на досуге.
В свободное время я догадался заготавливать хозяйке дрова на зиму. Переколол все чурбаки во дворе, но, оказалось, что за углом отдельного сарая лежат, посмеиваясь, ещё не пиленные брёвна. А у меня, как назло, на суковатом и свилеватом полене надломилось топорище. Стал я мудрить, обернул его прочным железным хомутом, чтобы можно было хоть как-то работать дальше. А пока пришлось мне пилить брёвна, наточив двуручную пилу и сделав ей развод, как сумел. Хозяйка насчитает потом в уложенной поленнице где-то семь кубометров колотых дров...
А пока пришёл сын, впервые; посмотрел на мою работу, поцокал языком, вертя в руках топорище, мол, долго служить будет. Я ему и признался, что так вину свою заглаживал, лечил сломанное топорище, надолго всё равно не хватит.
– Так это обычное дело, что ты! Я завтра же принесу из дома новое топорище... Спасибо, что матери помогаешь, – подбодрил меня Ринат. – Ты извини, огород бы ещё вспахать, участок под помидоры, там земля мягкая, годами унавоженная, только лошади нет, вручную надо.
– Надо так надо, говори, что да как, – отвечал я ему, подходя к огороженному старым плетнём участку. А самому любопытно: как пахать будем?!
Хозяйка баню топит. Чувствуется, довольна, что крестьянские дела решаются, забота с плеч сваливается.
– Ну, впрягайся, Сергей-дус, конём поработаешь нынче!
– Ты, Ринат, только плетью меня не больно охаживай, даже лошадь-то и о четырёх ногах, да спотыкается…
Пошло дело, может, и не сразу ладно и споро, но – лиха беда начало!
Пашут – татарин и русский, деревенский и городской. Один с сохой, другой тягловый. В баньке парятся потом, веничком друг друга обмахивают. За столом сидят. Выпивают, разговаривают. И ведь есть о чём. Под одним небом живём, одним воздухом дышим, одну воду пьём. Отцы наши или деды, может, из одного окопа в бой поднимались. И мы, придёт время, в одну́ землю ляжем…
– Слышишь, Ринат, девчонки мою частушку поют-дурачатся?
Камышлы идём-гуляем,
Ильмурзинский клуб сидим.
Свой Уфа не вспоминаем,
Сторона тот не глядим!
Я уезжаю домой, а девчонки ещё остаются на неделю. Добрался пёхом до Новых Камышлов, оформил документы, какие положено. Захожу в магазин свериться, какие продукты на нас в тетради записаны и во что родному предприятию это выльется… Продавщица зачитывает:
– Яиц три упаковки, девяносто штук, по цене…
– Стоп! – перебиваю. – Какие девяносто штук, когда шестьдесят всего и две упаковки?!
– Нет, у меня записано верно, я помню: три упаковки!
И тут до меня доходит:
– Знаю, – говорю, – где остальные: через дорогу, наискосок… Там ведь председатель сельсовета проживает?
Продавец догадывается, о чём я, и, зачем-то смущаясь, опуская голову, тихо роняет:
– Там…
