№9.2022. Евгений Николаев. Я живу здесь тысячу лет. Рассказ
Евгений Николаев (Евгений Николаевич Сазонов) родился в 1958 году в Уфе. Получив гуманитарное образование в Москве, занимался педагогической деятельностью в Коми АССР, трудился на заводе на Украине, с 1987 года – на административной работе и в строительстве в Уфе.
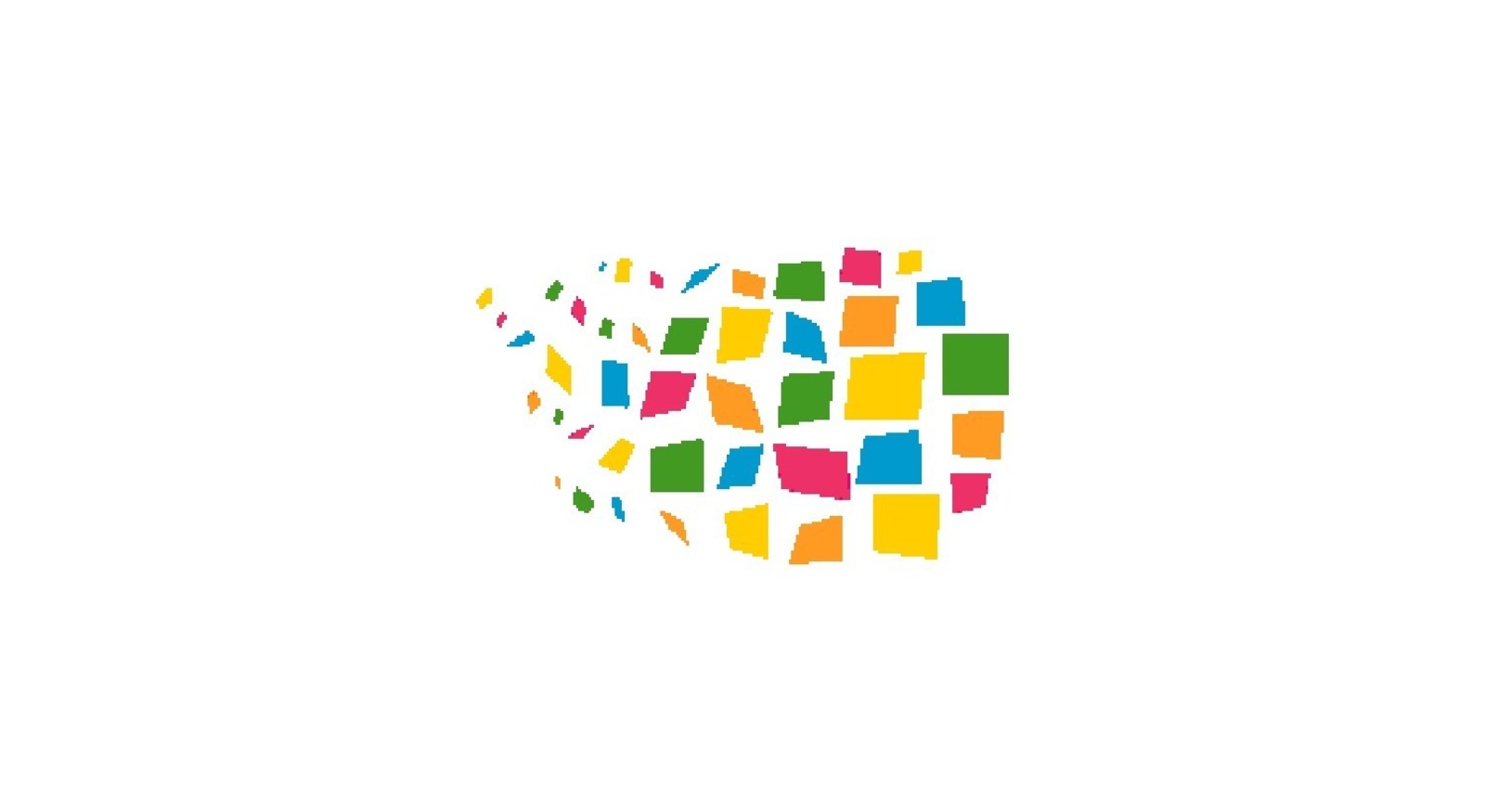
Евгений Николаев (Евгений Николаевич Сазонов) родился в 1958 году в Уфе. Получив гуманитарное образование в Москве, занимался педагогической деятельностью в Коми АССР, трудился на заводе на Украине, с 1987 года – на административной работе и в строительстве в Уфе. В разные годы публиковался в газетах «Молодежь Севера», «Ленинец», «Вечерняя Уфа», журналах «Бельские просторы», «Дальний Восток».
Евгений Николаев
Я живу здесь тысячу лет
Рассказ
…Вспомнилось, как в кузов грузового мотороллера, имеющий форму куба, набивалось четыре-пять мальчишек, после чего он закрывался на замок и начиналось движение. Для одной части из тех, кто оказывался внутри, поопытнее, это являлось стопроцентным баловством, возможностью испытать эйфорию от безумства происходящего, для другой – своеобразным испытанием, по сути, шоком. А водитель, садясь за руль своего «мустанга», каждый раз сдавал «тест» на соизмеримость со всенародным кумиром, шестикратным чемпионом мира Габдрахманом Кадыровым.
Колеса «Муравья» скользили, конечно, чаще не по льду, а по грязи неасфальтированных староуфимских дорог, да и особой прытью старенький мотороллер не отличался, но его ловкое маневрирование среди рытвин и ухабов выглядело верхом мастерства. Ведь за рулем был Реня – Ринат Газизов, пользовавшийся у местных беспрекословным уважением и авторитетом. Прошло много лет, потертый пиджак он сменил на милицейский китель работника госавтоинспекции, а преклонение перед ним в душах мужской половины окрестного населения осталось.
…Самойлов пристально смотрел на приятеля, как будто только сейчас додумался до чего-то важного, доселе не постижимого:
– Ты знаешь, Санек, мне кажется, что все мы ощущали себя по-настоящему живыми и очарованными этим миром только тогда, когда выходили после хорошей встряски из того фургона на свет божий.
Григорьев рассеянно улыбался, то ли слушая приятеля, то ли думая о своем. Ему припомнилось, как старенький, купленный, должно быть, у десятого по счету хозяина мотороллер часто ломался и пацаны, желая помочь Ринату раздобыть на его ремонт и запчасти деньги, пускались во все тяжкие.
Доходило до того, что мальчишки, иногда с помощью старушек, у которых постоянное торговое место на подступах к церкви было давно «забронировано», накануне вербного воскресенья продавали пучки буро-красных, с пушистыми соцветиями веточек ивы, обильно растущей в овраге на улице Белореченской, а также торговали рыбой, собственноручно выловленной в реке Белой. Ни то ни другое не приносило большого дохода, но все-таки понемногу пополняло общую кассу.
Обнести большие сады на улице Менделеева, чтобы, продав яблоки, пустить деньги на «святое» дело, руки чесались всегда. Обладателем одного из садов был высокий лысый еврей по фамилии Радуцкий, другого, напротив, – сгорбленный усатый старик Ковач. Говорили, что он мадьяр. Люди совершенно разные, но одна проблема была у них общей – урожай. Осенью яблони в саду буквально разламывались под весом созревших плодов. Разумеется, обобрать их не успевали, а то и просто не желали. Яблоки стекленели и мякли от первых заморозков прямо на ветвях. Ковач противоестественную порчу урожая переживал молча, а Радуцкий, становясь с первым снегом необычайно добрым, обычно предлагал ближайшим соседям и Санькиному отцу в том числе:
– Пусть детишки подходят, яблоки соберут – полакомиться!
В общем, отказываться от идеи «помочь» садоводам вовремя снять урожай особых причин не было. Но Радуцкий держал собаку, которую отпускал на ночь погулять и которая в сочетании с двухметровым глухим забором превращала сад почти в неприступные райские кущи. Поэтому выбор в подавляющем большинстве случаев падал на усадьбу Ковача. Однако детали, связанные с освобождением сада от излишков урожая, почти стерлись из памяти, зато хорошо помнилось другое.
Старик любил париться в бане и топил ее через два-три дня. Обожала побаловаться парком и Наташа. Назвать ее внучкой главы семейства, что соответствовало действительности, значило бы сильно отвлечь читателя этим трогательным словом от образа вовремя созревшей, вполне сформировавшейся девицы. Глаз, ищущий красоты и гармонии, на ней не отдыхал, он цепенел от созерцания совершенства молодого упругого тела.
Тем вечером операция по сбору урожая совпала с очередным банным днем семьи Ковач. Когда группка воришек, набив яблоками пару заранее приготовленных мешков, собиралась покинуть сад, в свете, падающем из небольшого банного окна, мелькнула знакомая девичья фигура. В баню шла Наташа. Соблазн увидеть картины, давно будоражащие юношеское сознание, был слишком велик, и отчаянные смельчаки решили хотя бы ненадолго задержаться на месте преступления.
К бане подкрадывались молча, если не считать, что двенадцатилетнему Никите, как самому младшему, в резкой форме было приказано «отвянуть» и ждать компанию возле забора. Столпившись возле слегка запотевшего, закрытого изнутри шторами окошка, парни, казалось, силой одной мысли пытались их раздвинуть, но, увы, тщетно. Зато собранные в пучок волосы на голове в узком просвете между занавесками и верхней частью оконной рамы, очертания тела девушки – тенью на белом полотне – они видели отчетливо, до интригующих подробностей.
– Санек! Санек, ты где? – Максим Матвеевич пощелкал возле лица приятеля пальцами. – Ты о чем задумался, парень?
Григорьев вдруг засмеялся и смеялся долго, пока, наконец, не выдал сквозь хохот:
– Вспомнил, как старик Ковач гнал нас банным веником до забора, а тебя стегал им на заборе, ну, когда ты башмак свой потерял в саду и замешкался… Вот до чего женщины доводят! – он похлопал друга по плечу.
– А-а-а, ты об этом! – притворно равнодушно произнес Максим Матвеевич, но тут же оживился, припомнив кое-что явно смешнее: – Да, точно! Они и до ЗАГСа кой-кого довели! В ушах-то у тебя, наверное, до сих пор звон стоит? – Самойлов сочувственно посмотрел на Александра Даниловича.
– Какой звон?
– Забыл ты, оказывается, все на свете! Помнишь, на Ямальской дрова Решетниковы сгрузили и они несколько дней так горой и лежали на пятачке, где мы часто с пацанами собирались? А в тот день что-то и Катюшка твоя между нами крутилась. То да сё, ты какой-то анекдот начал травить, ну, и ввернул пару словечек нецензурных… Катюшка встала, подошла к тебе. Я думаю: что это она? А она размахнулась так широко-широко и бац!.. Такую звонкую пощечину тебе влепила! Потом еще и еще одну! Ты орал, как тот дьячок, во всю Ивановскую! Ну и ржачка была! У меня аж живот от смеха разболелся!
– Смейся, паяц, над разбитой любовью! – сопя выговорил Александр Данилович.
– Почему же смейся? И почему разбитой? Ты, по-моему, с Катериной душа в душу до сих пор живешь и в ус не дуешь! Для ее золотого характера сатана – не пугало! – Самойлов иронически улыбнулся. – Или погоны ее смущают? Нет, батенька, не верю! – он снова хихикнул. – Она ведь у тебя прокурор?
– Прокурор, – не без гордости подтвердил Григорьев.
– Майор, наверное, уже?
– Полковник.
– Ну, вот, а ты говоришь! Трудно представить, чтобы тебе аж с полковником жилось плохо! Эх, Санек, Санек! – Максим Матвеевич на какое-то мгновение замолчал. – Сколько воды с тех пор утекло!
Александр Данилович вслед за приятелем мысленно ужаснулся скоротечности времени, а вслух сокрушенно произнес:
– Да уж! И, главное, черт знает куда!
– Все наше время ушло на них! – улыбнулся Самойлов, глубокомысленно поднял указательный палец вверх и наполнил пивные кружки.
– Вот ты скажи, скажи, почему, когда мужики встречаются, они больше всего любят о женщинах говорить, а? Не знаешь? – он смотрел на друга выжидающе. – Вот и я не знаю! Впрочем… зачем ковыряться в причинах? Давай-ка выпьем за них, наших староуфимских девочек! Было ведь в них что-то такое… необыкновенное, неожиданное, сводящее с ума… Ты помнишь, две сестрички на Белореченской жили, Гузель и Альмира?
Младшая-то нас, отроков, в силу своего малолетства не интересовала, а вот старшая как магнитом к себе притягивала. Когда выяснилось, что голос опереточный у Альмиры, оказывается, прорезался, когда девочка в филармонии стала петь, помнишь, как она быстро в отрыв от местных пошла? Мини-юбки, колготки в ботфортах… Ну, и косметики, конечно, на лице от души… В общем, впечатление наша певичка производила двусмысленное: с одной стороны, она, конечно, не была обделена красотой природной, с другой – явно стремилась усилить ее такими средствами, которые уводили эту красоту куда-то в сторону… рискованной фривольности, что ли... И, что греха таить, именно это тянуло к ней пацанву еще больше.
Максим Матвеевич задумался, благодушно улыбаясь и «гипнотизируя» бокал с пивом.
– Нет, не за всеми, конечно, пацаны табунами бегали, – продолжил он. – Тем более что некоторых девочек папа с мамой в ежовых рукавицах держали. Но посмотреть на них, на таких, как Милочка Радуцкая, было приятно. Помнишь? Ну, проводить взглядом… или просто проводить… до ворот. Дальше было нельзя, дальше были недремлющие родители и злая собака. А Леночка… Помнишь? – Максим Матвеевич как будто оживился. – Ну, когда старая Уфа застраиваться стала… Она со своей мамочкой в первом подъезде первой построенной девятиэтажки жила. Где она сейчас? Леночка! С такими большущими глазами, как у стрекозы… из-за которой пацаны чуть ли стенка на стенку не ходили… Улица Карпинского на улицу Пирогова, улица Пирогова на улицу Малая Московская… Это прямо-таки своеобразным развлечением было – рожу друг другу начистить, примерно как с горки прокатиться или в городки поиграть. А все почему? Потому что краситься умела, шорты тертые раньше других надела, словечками импортными блистала… Ах, девушки! За них стоит выпить!..
И Максим Матвеевич сделал, наконец, глоток пива из своей кружки.
– Вот что я думаю иногда, дружище, – продолжил он, – это ведь именно с Альмирой, Милочкой, Леночкой в Старую Уфу пришли форца, американские джинсы и рубашки с лейблами на карманах. Может, это и хорошо, но одновременно с ними из нашего благословенного анклава безвозвратно ушло, улетучилось без следа что-то несоизмеримо более ценное…
– Кончай, Самойлов! – неожиданно резко возразил Александр Данилович. – Вечно тебя на какие-то философские обобщения тянет, на противопоставление нашей душевной глубины тлетворным западным ценностям. Согласен, слезы с соплями по шмоткам из-за бугра, это, может, и пошло, не патриотично. Но катаешься ты почему-то не на «Гранте», и дома ты по вечерам в «Соньку» смотришь, и пиво не из «Бирюсы» достаешь!
– Да, у меня и телефон американский. Почему я должен отгораживаться от цивилизации, жить в другом измерении? Нет, я отгораживаться не буду. Другое дело, нас пытаются отгородить. Хотя, может, все это и к лучшему! Лично мне никогда не нравилось быть прикормленным потребителем. Я немножко больше, чем это «сытое слово»!
– Не случайно тебя, Матвеич, в школе в комитет комсомола выдвинули. Ты еще тогда идейным был, таким и остался…
– И, представь, мне почему-то не стыдно!
Александр Данилович, всегда уступавший в спорах принципиальному другу, махнул рукой, словно моментально отказался от своих прежних несущественных мыслей.
– А ты Леру Пеклич помнишь? Любовь, что ли, у тебя с ней была? – переходя на прежнюю, несомненно, более интересную для него тему, неожиданно спросил он.
Да, Максим Матвеевич хорошо помнил эту девушку. В школе общался с ней практически ежедневно. Вот, вероятно, и сохранилась в голове у Григорьева картинка, на которой он, Самойлов, и она, Пеклич, всегда вместе. А сейчас друг, вероятно, хотел поведать ему о чем-то важном.
– Недавно узнал… меня как молнией шарахнуло…
– Не надо. – перебил его Максим Матвеевич, догадавшись, о чем пойдет речь. – Я знаю.
Лерочка жила неподалеку, на улице Коллективной, но познакомился Самойлов с ней в школе, где комсомольская братия взвалила на него, как на человека ответственного, выпуск стенгазеты. Он хорошо понимал, что газета без яркого, бросающегося в глаза рисунка никому не интересна. А Лера занималась в художественной школе и могла помочь с красочным оформлением молодежного «рупора». С этой целью и привела ее в комсомольский штаб Таисия Павловна – организатор по внеклассной работе.
Это была очень простая история. Буквально с первого взгляда на невысокую, по-спортивному собранную и подтянутую девушку Самойлов почувствовал необъяснимое доверие к ней. И, действительно, на два года Валерия стала надежной его помощницей.
Редактор рассказывал, как он в общих чертах представляет себе художественное оформление очередного номера газеты, а Лера старательно воплощала его замысел с помощью красок на бумаге. Но с каждым новым выпуском в девушке не только все больше проявлялся безошибочный вкус, но и зрело очень тонкое романтическое чувство влюбленности к Самойлову. Как это проявлялось? Да никак, если не считать изящной беззаботной игривости и едва заметной приподнятости настроения.
Он не мог не замечать и еле уловимые изменения во взглядах и поведении девушки, но не хотел ничем выдавать свою наблюдательность. Больше того, как человек не лишенный расчетливости, не желал как-то перестраивать их отношения, потому что интуитивно боялся девичьей капризности, непредсказуемости. Ведь газета выпускалась, привлекала всеобщее внимание и обсуждалась не только учителями, но и учащимися. Так зачем же нарушать устоявшийся порядок вещей? Лишь однажды, желая как можно более тепло выразить благодарность за безотказную и бескорыстную помощь, Самойлов легко сжал Лерочкину невесомую руку в своей, а потом неожиданно для себя погладил.
Позже он пару раз проводил ее из школы до дома. Для него оказалось абсолютной неожиданностью, что она была дочерью священника, отца Феофана, служившего в Сергиевской церкви. Это обстоятельство, казалось, никак не соответствует натуре вполне современной, инициативной и деятельной комсомолки. В своем стремлении понять своеобразие взаимоотношений в «святом» семействе, предполагаемую несопоставимость позиций и курьезность взаимоотношений Леры с родителями Самойлов словно упирался лбом в стену. Он запутался в своих размышлениях, но очень хотел разобраться, а при необходимости даже чем-то помочь своей подруге в ее, как ему казалось, противостоянии отцу, религиозному укладу быта ее семьи и в целом давлению близких.
Обозревая довольно внушительное двухэтажное строение, в котором прошли Лерочкины детство и юность, Самойлов удивлялся зажиточности батюшки, всерьез задумывался в связи с этим о возможном расхищении пожертвований прихожан. Каково же было его удивление, когда позже он узнал, что семья священника из пяти человек занимала лишь третью часть этого, в общем-то, уже довольно старого дома. Однако больше всего его поразил слух о том, что отец Феофан неравнодушен к спиртному.
Неуемная страсть батюшки казалась невозможной, учитывая нравственные принципы церковной епархии, но, удивительно, она сходила ему с рук. Временами Самойлов замечал в поведении Лерочки и раздражительность, граничащую с грубостью, и обидчивость, но жалел и прощал ее, так как списывал все эти проявления на сложные отношения в семье.
Учитывая, что общественная нагрузка не предполагала мирного сосуществования редактора школьной газеты с нарушителями дисциплины, Самойлов получил вскоре прозвище «корреспондент» и стал объектом их обостренного внимания, а иногда и пошлых насмешек:
– Ну, что там поповская дочурка? Сильно сопротивлялась? – подобными вопросами они вынуждали его отстаивать честь девушки с кулаками.
Оскорбления и колкости сверстников только подталкивали Максима к сближению с Валерией. Однако подобие романтических отношений с ней, да, собственно, как и комсомольская юность, сама жизнь, не располагавшая к глубоким размышлениям о ее смысле, вызывали у Самойлова очень противоречивые и сумбурные чувства. Таинственный мир кривых пыльных улочек, утопающих в яблоневых садах, с дымящимися трубами бань и голубятнями; игры до полуночи в козла, вышибалы, кандалы, казаки-разбойники; строительство грандиозных запруд и устройство обманов в талом снегу под колокольный звон Свято-Сергиевского соборного храма; непреодолимое желание просто похохмить в окрестностях очень к этому приспособленных и вместе с тем вырваться из плена серых некрашеных заборов в мир настоящих страстей, а не развлечений; обостренное чувство ответственности напополам с благородной принципиальностью и первые поцелуи, от которых сносило голову… Как это все уживалось в нем одном? Загадка!
Самойлову порой трудно было представить, как вообще можно жить без этой бьющей ключом энергии, позитива его школьной подруги. А иногда и вовсе казалось, что судьба уже сделала странный потайной стежок в пользу их вечного союза, что поведи он себя более решительно, и девичья крепость рухнет, как, возможно, рухнет и все его представление о незыблемых моральных устоях ее набожной семьи. Но Самойлов скорее по инерции боялся перемен, упрямо сопротивлялся своим желаниям.
Через несколько лет, отслужив в армии, Максим встретил старшую сестру Лерочки, которая, вероятно, предполагала, что ее сестра была с ним когда-то в довольно близких отношениях. На вопрос «Как там Лера?» глаза у Маргариты заметно сузились, будто она не верила, что ему не известна страшная правда.
– Лера?.. Лера давно уже… умерла.
Самойлов вдруг ощутил в своей груди невероятно тяжелое сердце.
– Как?.. Но почему?
– Рак.
– Рак?
– Рак матки. – Рита замолчала, вглядываясь в Самойлова и наблюдая за его реакцией. – Э-э-х, ребята! – закончила она, наконец.
А что «э-э-х», что? Что означает это выплеснутое из души сожаление? Он гнал от себя, как ему казалось, то ли циничные, то ли предосудительные, то ли абсолютно лишенные логики мысли. Сама жизнь и существование его на земле, возможно, должны были быть подчинены каким-то неведомым, объективным законам, согласно которым он, очевидно, обязан был делать то, что должно вершиться им со значительной долей вероятности, и жить так, как он предпочтительно должен был жить, чтобы не нарушать хрупкое равновесие, установленное природой. Но он не делал… не жил… и вот результат.
Максим Матвеевич в Старой Уфе родился и вырос. Он, собственно, и не рвался никуда. В его глазах все, что было подарено жизнью, приобрело силу привычки, имело свой грандиозный, почти сакральный смысл и обладало непреходящей ценностью: родительский дом, так часто наполненный запахами вкусной еды, радующий сказочным многоцветием палисадник, гараж со старенькой «Волгой» и загадочной всякой всячиной, столярная мастерская отца, где он, особенно на пенсии, постоянно что-то изобретал, тесал, пилил и строгал.
После окончания мединститута, в котором Самойлов, к слову сказать, неплохо учился, он довольно быстро, вовсе не имея обыкновения лезть из кожи вон, стал заведующим отделением и вскоре руководителем городской клинической больницы. Работа отнимала много времени и сил, но как только он оказывался в домашней обстановке, на очень маленьком, но бесконечно дорогом пятачке земли с тропинкой, вымощенной кирпичом, с неожиданным ульем в углу огорода, куда усердно собирала нектар временно вывезенная с дачи по какой-то надобности пчелосемья, с коптильней в самом центре двора, в которой после очередной рыбалки пропитывалась дымком речная рыба, с восточно-европейской овчаркой, радующейся ему больше, чем кому бы то ни было, настроение быстро улучшалось, силы восстанавливались…
Как врач, Самойлов всерьез считал само пребывание в этом экзотическом и благословенном уголке мегаполиса терапией от всех жизненных невзгод и несчастий. Но в случае с Лерочкой никакая терапия не помогала. Шли годы, а она не помогала.
В то время, когда Самойлов понемногу отходил от своих воспоминаний, Григорьеву позвонила жена.
– Здравия желаю, товарищ полковник! – гаркнул тот в трубку не то в шутку, не то всерьез и встал, вытянувшись в струнку, как по команде «смирно». – Самойлов в гости пригласил. То есть, нет, не в гости! Сам я к нему зашел: у нас же на гараж предписание наклеили, убрать требуют. Куда-то его пристроить надо. Вот и заглянул к Максу: может, разрешит у него во дворе поставить…
Григорьев не лукавил. На его металлическом гараже действительно было наклеено объявление с предложением вывезти незаконно установленный гараж на окраину города. Около пятнадцати лет назад из родительского дома на улице Менделеева, где планировалось строительство двадцатиэтажки, он вынужден был перевезти все свое нехитрое наследство к жене на ее жилплощадь в многоэтажном доме. Благо, далеко перевозить домашний скарб не пришлось. Квартира Катерины находилась неподалеку. Гараж с беленькой «Тойотой» пришлось временно приткнуть на пустыре, находящемся от нее в шаговой доступности. Его-то и предлагалось убрать в связи со строительством очередного многоквартирного дома.
Между тем Александр Данилович продолжал:
– Нет-нет-нет-нет-нет! Клянусь, дорогая! Только пиво!
Максим Матвеевич не мог сдержать улыбки от манеры разговора друга с женой.
– Ужин?.. – округлил глаза Григорьев. – Так точно! Ужин приготовил!.. Служу России! – наконец, он отключил телефон, а Самойлов разразился раскатистым смехом.
Александр Данилович, напротив, как будто набрался сил, даже зарядился энергией от общения с женой, расправил поникшие плечи, словно на них тоже лежали прокурорские погоны.
– Ты, конечно, можешь смеяться, Макс, но Катерина для меня на всю жизнь командир, с тех самых пор, когда она меня много лет назад с анекдотом тем осадила. – Он глубоко вздохнул. – Ну, когда по щеке меня хлопнула… Хорошее было время, откровенное, правильное! Знаешь, мне всю жизнь хотелось придумать что-нибудь такое, чтобы как-то сохранить память о том времени, о Старой Уфе, которая бесследно исчезает, безвозвратно поглощается новостройкой. Знаешь, Макс, я очень люблю копаться в земле, когда еще родители были живы, высаживал у нас в саду хорошие сорта яблонь, ну, как у Ковача, помнишь? Хотел оставить после себя сад. Но на его месте сейчас стоит двадцатиэтажка. Хотел написать о нашем с тобой детстве книгу. Но гладко писать я не умею. От нашего маленького Отечества, Макс, остался памятник культуры – Дом Васильева да жалкая горстка частных строений вокруг! А ведь Сергиевская гора, где мы живем, начала заселяться еще с конца шестнадцатого века.
Григорьев замолчал.
– Ну, а делать-то что, Санек, ты знаешь? – обратился к нему Самойлов.
Александр Данилович как будто не услышал вопроса. На самом деле ответа он действительно не знал.
Самойлов выдержал паузу, потом тихо начал:
– Что тебе сказать, Санек? Ты прав! Но, к счастью, есть люди, которые знают, как и, главное, какой памятник поставить нашей «старушке». Я вот когда в супермаркет, в «Старую Уфу», захожу…
– В какой супермаркет? – встрепенулся Григорьев. – Ты же ярый противник иностранщины! Кончай язык засорять! Не в супермаркет, Макс, а в магазин! – иногда и он был патриотом до мелочей.
– На этот раз правильно говоришь. Так вот, захожу я в магазин и думаю… жил же среди нас человек! И себе, и окрестностям, где все мы родились и выросли, памятник возвел! Вячеслав его звали, Порфирьев. Земляк наш, староуфимский… И над входом в этот памятник, который сотни людей в день посещают, крупными буквами написал всем знакомые и родные два слова: «Старая Уфа».
– Ну, и что? Заходишь в магазин, значит… проходишь в ликероводочный отдел…
– Дурак ты, Санек! Захожу я в этот памятник… глаз радуется: и товары отменного качества, и кафешки для задушевных бесед, и аквариум в центре торгового зала с золотыми рыбками… И не мой же вроде магазин, а все в нем такое знакомое и дорогое!..
– Да, это точно, такое дорогое! Очень все дорогое!..
– Не кривляйся и не перебивай, комментатор дешевый! Не дороже, чем в супер-пупер… Так вот, прохожу я внутрь, а в каком-нибудь отделе продавщица меня новенькая встречает, обрати внимание, не кассир, а продавщица, как в старые добрые времена повсеместно было. Улыбается. И я улыбаюсь. Но не дай бог, если она мне ответит невежливо, поймет неправильно или посмотрит не так! Это мне-то, старожилу? Это на меня, на аборигена? Разве можно сравнить ее, без году неделю как тут появившуюся, и меня, живущего здесь тысячу лет? Или вот еще… Спросил я как-то в магазине коробочку небольшую картонную, ну, потребовалась мне зачем-то… Направили меня в подвал их, с тыльной стороны, значит. А там грузчик, явно не местный, может, с зоны недавно… говорит мне: «Двадцать рублей, папаша!» Да я… Представляешь? Меня как водой холодной окатили! Не в деньгах, Санек, дело, не в деньгах! Что, у меня двадцати рублей в кармане не нашлось бы? Просто из-за такой мелочи, из-за пустяка какого-то, из-за коробочки размером в скворечник он на наш неписаный староуфимский устав наплевал!
– На кого наплевал? – спросил Григорьев с напускным тревожным любопытством.
– Все паясничаешь?
– Совсем нет. Я тебя понимаю! – подхватил Александр Данилович. – Не веришь? Вот в кулинарном отделе, например… Вкусные пироги они пекут, молодцы! Но блины…
– А что блины? Блины как блины. А если их с икоркой…
– Понимаешь, то ли они иногда муку непроверенную используют, то ли молоко слишком жирное добавляют, то ли пропорции нарушают… Идеальными, одним словом, блины у них не всегда получаются. Знаешь, так и хочется поинтересоваться, а то и подсказать… Я ведь сам блины пеку. Катерине, между прочим, нравится.
– То-то я смотрю и недоумеваю, откуда у тебя такие познания и такая прыть? А ты по блинам специалист, оказывается, великий! Одно не понятно, почему ты свои печешь, а чужие пробуешь! Да еще и критикуешь! Думаю, что и без твоих советов они как-нибудь обойдутся. Я врач, ты пенсионер, а кто-то пекарь. Каждому свое, и каждый пусть своим занимается.
Григорьев, немного поразмыслив, попытался объяснить:
– Да я и не вмешиваюсь. Но душа болит… Понимаешь? Хочется, чтобы у нас, в «Старой Уфе», все, как надо, вкусно и по-настоящему было. Мы, аборигены, это заслужили. Памятник нашему захолустью, он ведь должен каждой мелочью в головах оставаться. Согласен? Ну, ответь, ты ведь тоже так хочешь?.. Хочешь, я знаю.
Он еще долго продолжал о чем-то говорить и философствовать под звон колоколов соборного храма после вечерней молитвы. И казалось, что именно об этом он уже рассуждал когда-то, так же для большей убедительности понижая голос, округляя глаза и разводя в стороны свои большие руки. И чудилось, что все происходящее много раз повторялось, как в давно знакомом советском фильме, который без устали показывали по телевизионным каналам много лет подряд.
Церковный звон, настойчивыми своеобразными интонациями больше напоминавший молитву в бронзе, покрывал звучной дробной россыпью отходящую ко сну округу. До деталей знакомые очертания крыш и заборов становились призрачными, почти сказочными. Наступающая ночь с решительной смелостью, присущей настоящему художнику, размашистыми темными мазками настойчиво мирила старую Уфу с победившей ее новостройкой. Под гипнотическим воздействием гулкой безбрежной тьмы все земные разговоры и мысли начинали казаться какими-то микроскопическими, ничтожными. Но одновременно с этими ощущениями в душе Максима Матвеевича росла уверенность в собственной своей силе и способности уяснить, наконец, то, как и ради чего люди должны жить.
У Григорьева снова зазвонил телефон, и он, на этот раз для убедительности приложив руку к груди, стал ласково успокаивать потерявшую его жену:
– У Самойлова я, Катюша, у Самойлова!.. Да, понимаешь, уперся как баран. Земли ему жалко, понимаешь… Пришлось вспомнить, что мы в одной школе учились, что друзьями считаемся, в конце концов! Так никуда и не уходил, все с ним спорил… Конечно, куда он денется! Нет, какая пьянка? Какое рукоприкладство? Пусть только попробует! Скоро, скоро буду. Ну, минут через десять… пятнадцать.
А может, и хорошо, что он не женился. Примерно так подумал тогда о себе Самойлов. Может, и хорошо, что никто не заслонил собой, не блеснул на его небосклоне ярче, чем бесконечно далекая теперь, так, увы, и не ставшая родной, загадочная звездочка по имени Валерия.
