№8.2022. Идель Гумеров. Степь. Рассказ
– Иван, держи рюкзак, проследи за коровами. – Отец торопился, давая поручения. – Я съезжу до моста, чего-то одной досчитаться не могу. Опять, наверное, отстала, где-нибудь в овраге улеглась.
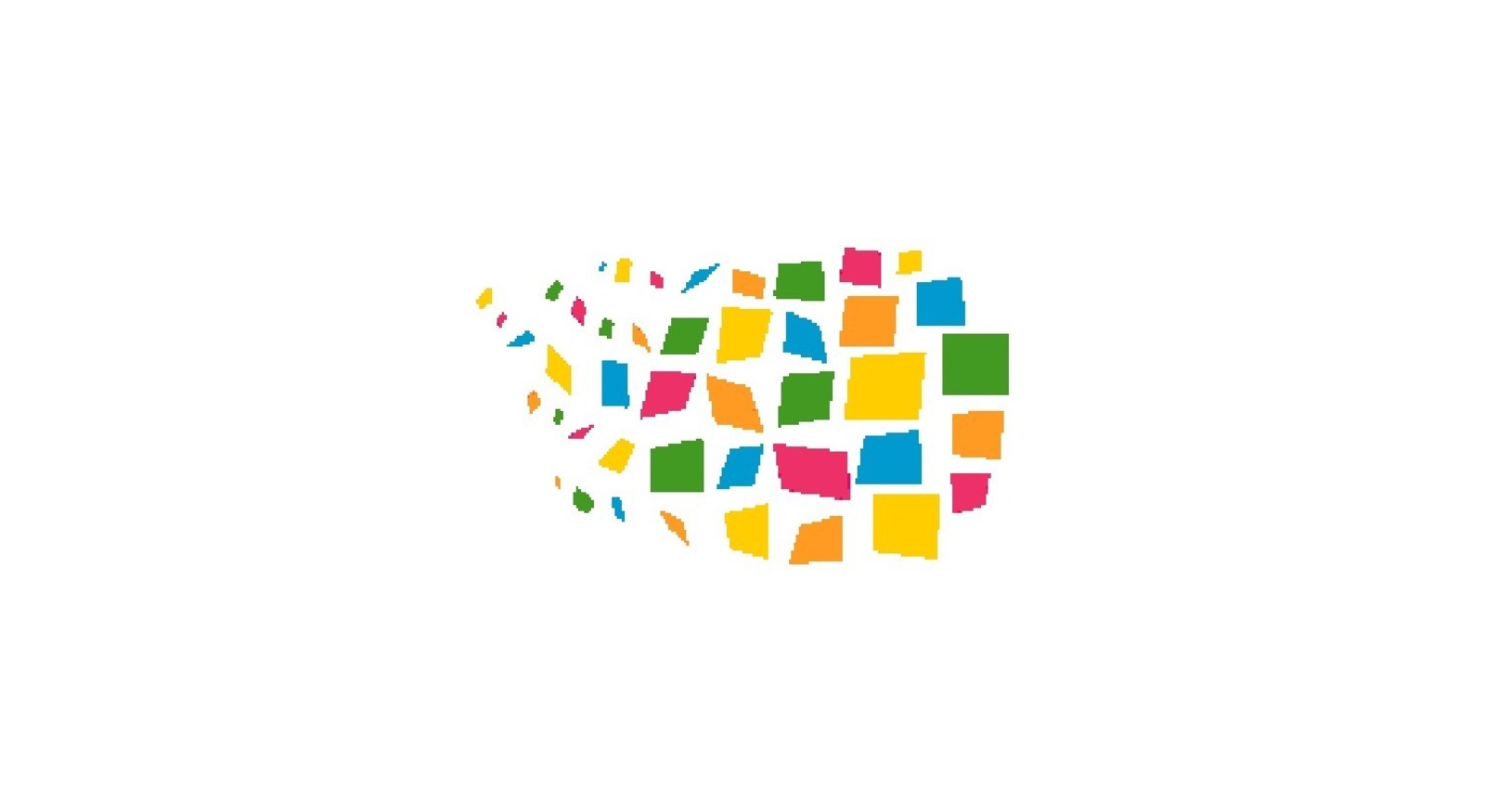
Об авторе: Идель Гумеров родился в 1997 году в Благоварском районе Республики Башкортостан. В 2019 году окончил БашГУ (Физико-технический институт). Один из основателей литературного объединения «Тархун».
Вру, когда рассказываю, что домой заберёт жена меня,
Ведь наша тихая жизнь была лишена содержания.
И меня забирает отец: я тот же ребёнок заплаканный.
Мы гуляем по лесу, и он берёт меня за руку,
Скрывает свою растерянность и стихи мне читает.
Лёха Никонов, группа «Макулатура».
«Свобода – это гетто»
– Иван, держи рюкзак, проследи за коровами. – Отец торопился, давая поручения. – Я съезжу до моста, чего-то одной досчитаться не могу. Опять, наверное, отстала, где-нибудь в овраге улеглась.
Отец сел в белую «семёрку» и помчал по степи в обратную сторону, туда, откуда мы пригнали стадо час назад. Я остался стоять с ободранным ивовым прутиком в руке возле хижинки. Хижинка обшита со всех сторон шифером, прибитым к деревянным столбам и доскам. Внутри неё, справа от входа – диван, накрытый красным пледом с рисунком мишки со цветочками, а перед кроватью – тумбочка, служащая и обеденным столом. В тумбочке – пачка с двумя сигаретами, зажигалка, пластиковый стаканчик с солью, саморез, сканворды. Вместо пола – земля. Вместо двери – лишь проём, прикрытый облезлой брезентовой занавеской. В ответ отцу я только невнятно промычал – то ли «Хорошо, пап», то ли «Ладно, ладно, езжай». Вслед за «семёркой» лишь клубилась пыль от травы – пожелтевшей и высушенной солнцем и ветром, вытоптанной коровами, овцами, пастухами и колёсами.
Я посмотрел на запруду, на берегу которой мирно лежали коровы, хвостами отбиваясь от назойливых мух и оводов. Кое-кто полез в водоём и так и остался в нём по колено, наслаждаясь прохладой воды и засосавшего ила. Овцы скучились слева от запруды, в зарослях камыша: все они опустили головы ближе к земле, спасаясь от жары. Пересчитал коров (овец никто никогда и не считал): сначала вышло двадцать пять голов, затем – двадцать семь, в третий раз – снова двадцать пять. А должно быть двадцать шесть. Значит, все верно – одна корова отбилась от стада. Вероятнее всего, с Садовой улицы – хромая, старая, уже не способная справляться с долгими переходами. Да и мы, значит, проглядели. Но ничего страшного: сейчас отец доедет до моста и пригонит её к водопою.
Запруда – обмелевшая. Когда-то её называли озером, потом прудом. Помню, когда нынешний бугорок на берегу был островом посреди этого широкого водоёма. Помню, как в жаркое лето купались на противоположном берегу – вода и тогда была грязной, но мы были детьми, а отец позволял нам такие шалости. Сам он усаживался на бревне неподалёку и рыбачил – ловил карасей-краснопёрок.
Сейчас, кроме стрекоз и пиявок, в воде никто и не обитает, наверное. Как-то в середине осени, когда ночные морозы сковывали поверхность воды льдом, мы брали искривлённые палки и гоняли по пятачку кусок замёрзшей глины вместо шайбы.
Пересчитав скотину, я повернулся к хижине, собираясь усесться на диван, уткнувшись в телефон, но вдруг остановился. Посмотрел на восток, куда помчался папа: клубок пыли был едва заметен в низине степи, слившись с дымкой, накрывшей поле от палящего солнца. Меня переклинило: «Когда он мне скажет: “Давай, Иван!” в последний раз?» Я знал, что ничего не может произойти сейчас и в ближайшие полчаса, час, день – он спокойно догонит отбившуюся скотину, ему не грозят ни клещи, обитающие в траве, ни ужи в овраге, ни ухабы и кочки, об которые можно нехило так врезаться передними колёсами. Его не страшит солнце, раскалившее воздух до невыносимых плюс тридцати девяти. Его не сломит жажда. Так же, как его не сломали раньше –внутри раскалённой железной кабины трактора. Так же, как не сломали трагедии гораздо существеннее – смерти близких: родного брата, матери, дядей, одноклассников. Ему по плечу любое испытание, его опыт и выдержка готовы ко всему.
Нет ни единого облака на небе, которое на пару минут скрыло бы изнывающую степь от беспощадного светила. Ветерок, гуляющий по полю, – обжигающий, душный. В воздухе стоит стойкий смешанный аромат выцветающих трав, пшеничных полей, пыли, болотной сырости. До берёзовых рощиц – рукой подать, меньше километра, но стадо мы туда погоним только после обеда.
Отец – сильный, крепкий, испытанный. Его руки в шестьдесят лет могут закрутить любую гайку, завалить любого бычка, поднять любой мешок с земли. Его голова хладнокровно подойдёт к любому делу, разберётся с любой хозяйственной задачей, продумает любую перспективу на месяц, полгода, годы вперед. Его душа способна унести тело в пляс на любом празднике. Его голос – тот, которого ждут на каждом застолье, потому что все привыкли, что его тосты и поздравления – самые душевные, глубокочеловечные, необходимые.
Мне всего двадцать шесть. Я – хилый, бледный, рыжебородый. Каждый раз, возвращаясь из своей никчемной городской суеты на малую родину, я только и слышу, как сильно похудел, оброс, поник, засутулился, скривился. Мне не хочется рассказывать о том, кем я стал, каковы успехи в том или ином начинании, чего добился и какие проблемы надо решить, но иногда приходится упоминать о работе, друзьях, отношениях, планах на будущее. Знал бы я сам, какие у меня планы на ближайшие месяц-два, кроме как выдержать, не сдаться, справиться, выжить.
Порой рассказываю истории, случающиеся со мной, выкладываю стопки городов, в которых побывал, участвуя в конференциях, семинарах, концертах, чтобы убедить в том, что жизнь моя не такая уж бессодержательная. Привожу имена друзей, коллег и товарищей, характеризую их видом деятельности, чтобы понимали серьёзность связей. Мимолётом упоминаю домашний быт, походы за продуктами, перестановки мебели, совместно проведённые вечера, чтобы создать иллюзию существования личной жизни. Не стесняясь, ухожу от разговора в ванную, где смотрю в зеркало и вижу, что с каждым приездом прибавляется по несколько сантиметров в бородке, сбрасывается несколько килограммов с тела, резче выделяются скулы, появляются ещё одна-две морщинки на лице или на лбу, темнеют круги под глазами. Спрашиваю у себя: «Надо ли оно тебе? Не заврался ли ты? Может, стоит открыться родным и признаться в банкротстве?» Слышу из гостиной перешептывания и вздохи, улавливаю разочарование, и с презрением и насмешкой гляжусь в зеркало, доказывая себе:
«Я справлюсь. Я выдержу. Я выживу. Я не сдамся».
Умываю лицо холодной водой, выхожу к родным и, увидев поникшие лица, приободряю: «Не унывайте. Всё в порядке». Отец кивает. Киваю в ответ. Бодрю себя, перенося по отдельности тело и душу в душу и тело отца, меняю их местами, проецирую свой характер на его, тем самым приобретаю уверенность: я – это он, он – это я.
После обеда, время которого коровы сами определяют для себя, стадо встаёт, потягивается и цепочками, кучками отходит от берега в поле, на поиски травы. Через некоторое время все коровы и овцы мирно пасутся в степи. Делать нечего – и мы подымаемся, выходим из уютной хижинки, осматриваемся. Говорю отцу: «Пап, коровы двинули. Может, и мы пойдём?» Отец смотрит вдаль, оценивает перспективы и успокаивает: «Сиди пока. Я пойду вперёд, пригляжу». Как всегда. Я не соглашаюсь, сиплым голосом возражаю: «Да, ладно, отдыхай. Я пройдусь, остановлю вперёд убежавших», сам снимаю с гвоздя кнут. Кнут изготовлен отцом из ветки диаметром с большой палец и длиной в сорок сантиметров, к ней прибита плеть из приводного ремня, на кончик плети привязана тонкая шпагатная верёвка. Отец поддаётся, но продолжает: «Тогда езжай на машине, что пешком по жаре будешь ходить?», хотя он и лучше меня знает, что бензин нужно экономить, а машину лишний раз лучше не дёргать, не разряжать аккумулятор. «Бензина мало, пап», – ставлю точку и выдвигаюсь вперёд в чистое поле. Отец только кивает, признавая, что меня в этот раз не переубедить, и лишь добавляет: «Ладно, иди. Чай с собой возьми и кепку на голову надень». Повинуюсь – небрежно набрасываю на лохматую голову «кепку, как у Фиделя Кастро», навязываю на запястье верёвку, к которой подвешена полторашка чая.
За несколько часов воздух не стал прохладнее, птички всё так же уныло щебечут ленивые мотивы, полынь слегка покачивается от дуновений, горизонт покрыт серой дымкой. Я ступаю «демиксами», облепленными колючками, чертополохом, липучками, по жесткой желтой траве. Напеваю унылый «рэп», посвистываю.
Вот я дошёл до «авангарда», остановил зарвавшихся коров. Расслабился, сел на траву, положил в рот сухой стебелёк. Разжевываю его. На секунду закрыл глаза – сон начал одолевать. В полудрёме увидел силуэты резцов, станков, заготовок, чатов, плацкартных вагонов, услышал едва различаемые, смешивающиеся голоса мастера и жены, стихи в баре, постукивания клавиатуры. Но заставил себя не засыпать, подумав о том, что отец огорчится, увидев мою слабость. Открыл глаза, вижу: он идёт ко мне пешком, с ивовым прутиком в руке и моим рюкзаком за спиной. «Понятно, не захотел оставлять меня одного».
Дошел до меня, закурил. Я встал, отряхнулся, посмотрел на его смуглое, изрытое морщинами лицо, опустил взгляд, затем отвернул глаза в степь. Мне показалось, что он сделал то же, что и я, да только увидел перед собой рыжую, неухоженную бородку на худом, скулистом лице, уставший взгляд, исцарапанные и побитые, но бледные и дрожащие руки, сжимающие кнут. Наверное, он обнаружил подростка, уже зарабатывающего на заводе, но спускающего деньги на мимолётные развлечения, выпивку, прогулки по паркам, походы по музеям и выставкам, в лучшем случае – на модную одежду и гаджеты; чудака, проводящего невзрачную, несерьезную жизнь над книжками, перед экраном ноутбука, с сомнительными друзьями-гитаристами, пошлыми и непонятными ему, старику, анекдотами, с девушками, которые так же юны, безалаберны и беззаботны, как и его Иван. А все вместе после гитарных песен, анекдотов, пива в конце вечера они утыкаются в супердорогой ноутбук.
В отце я увидел человека, полвека искавшего и до сих пор ищущего правды, доказывавшего и доказывающего всю доблесть и глубинную силу подлинного труда, не стеснявшегося того, что им гордятся окружающие – родные, друзья, сослуживцы, коллеги, начальники. Человека, поставившего во главе угла совесть и человечность. Увидел его усы, которые он когда-то сбрил в последний раз. Однажды проснувшись, я не узнал отца без них. Я увидел его, ещё не поседевшего, черноволосого мужика, отплясывающего на свадьбах. Увидел, как он впервые поседел – как появились второй, третий, десятый седой волоски, а затем осознал, что с каждой встречей мне кажется, что отец седеет все сильнее. Ещё увидел на лице печаль, взгляд, брошенный далеко вглубь, за десятки лет назад жизни. Увидел удовлетворение тем, что он смог вырастить меня, довести до того момента, когда я сам могу решать, как мне быть дальше.
Я увидел, как он отрывает с щеколды дверь в ванную, обнаруживает меня, сидящего с открытыми глазами, но невменяемого, в дупель пьяного, что-то невнятно лепечущего, с пушком вместо усов шестнадцатилетнего пацана, берёт меня на руки, несёт в комнату, кладёт в постель и укрывает мягким одеялом.
Он увидел меня, врезавшегося об сарай за рулём мини-трактора, матерящегося на судей на деревенском футбольном поле, вкладывающего в свой первый кошелёк отцовский комсомольский билет, чтобы показать всем учителям. Увидел пацана, плачущего в комнате от обмороженных ног из-за тесных коньков, которые не смог снять на ледовой площадке и поэтому был вынужден идти в них до дома.
Он увидел, как я приходил поздно домой после прогулок с девочкой, приезжавшей с города, выключал телевизор, накрывал отца одеялом, а сам поднимался наверх, в комнату, скрипя лестницей, стараясь не разбудить.
Я мысленно задался вопросом: «Долго ли я протяну?» Отец задался вопросом: «Долго ли он протянет?»
«Да, ещё очень долго», – кивнули мы одновременно.
Отец докурил, и мы молча поплелись вперёд, к берёзовой рощице, докуда уже добрались коровы, дорвавшиеся до свежей и сочной травы под нежной тенью деревьев. «Семёрка» осталась у хижины.
