№4.2022. Алексей Синицын. Театр Э. Повесть
Алексей Сергеевич Синицын родился 9 декабря 1972 года в Уфе. Окончил УГИС, кандидат философских наук. Публиковался в «Уфимской молодёжной газете» и альманахе «Стороны света». Роман «Машина пространства» вышел в издательстве АСТ (2019)
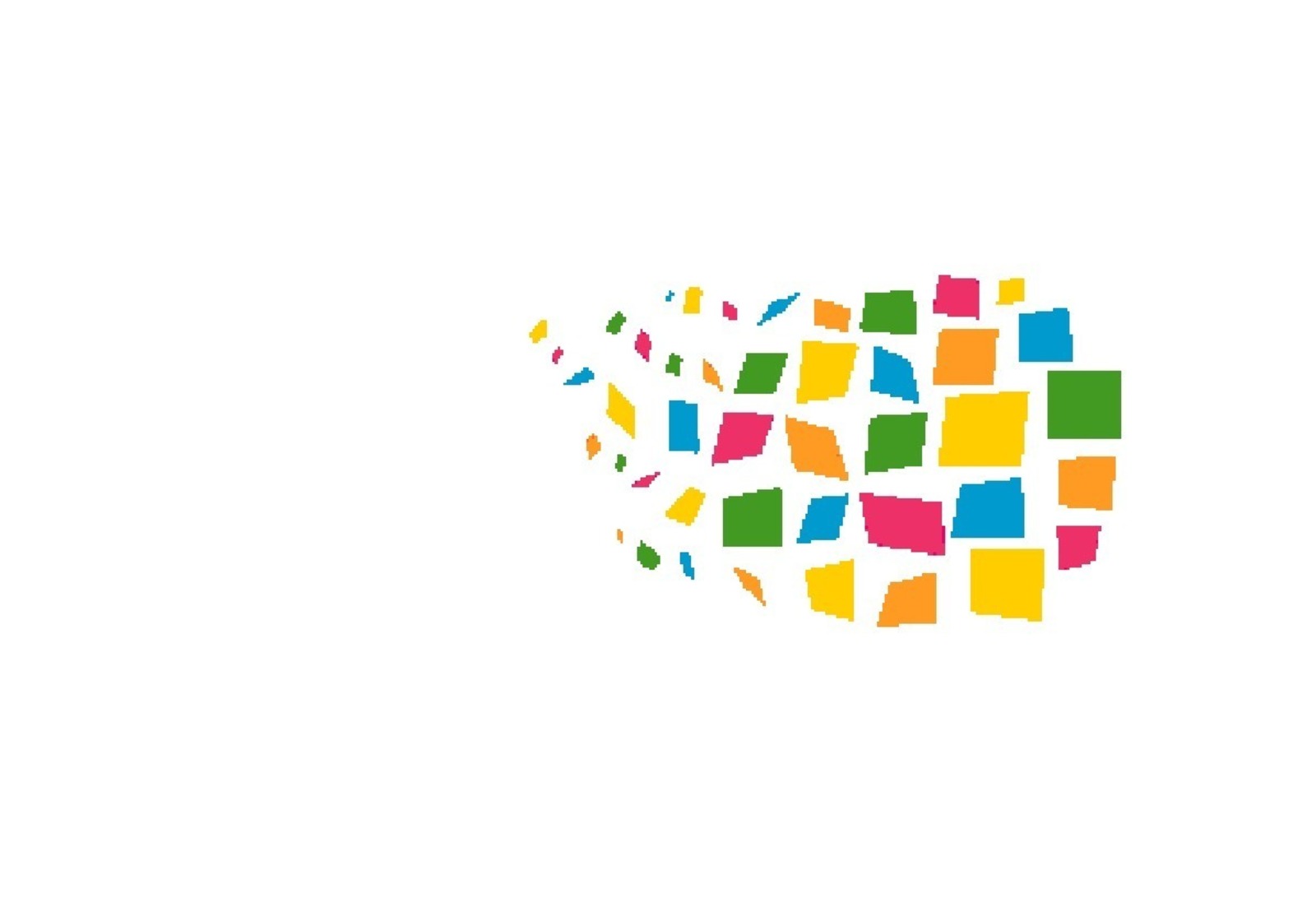
Алексей Сергеевич Синицын родился 9 декабря 1972 года в Уфе. Окончил УГИС, кандидат философских наук. Публиковался в «Уфимской молодёжной газете» и альманахе «Стороны света». Роман «Машина пространства» вышел в издательстве АСТ (2019).
Алексей Синицын
Театр Э
Всем тем, кто остался в прошлом…
1
Крапивин помнил, что она появилась ниоткуда – в чёрном, почти траурном платье с белым кружевным воротником и маленькими серебряными часиками на груди. Он видел, как она приближается к школьному крыльцу, на которое падали косые лучи печального сентябрьского солнца. Её щуплая, ссутулившаяся фигурка отразилась в чисто вымытом окне первого этажа. В руках она держала дешёвенькую пластиковую дудку. Подойдя к ним, она сказала: «Братцы», и буква «р» перекатилась у неё во рту, как орех. Она спросила, какую музыку они слушают, и тут же с блеском исполнила на своей нелепой дудке саксофонное соло из песни «Гудбай, Америка». За несколько минут общения с ней он узнал больше, чем за всю предыдущую жизнь.
«Я теперь буду вести в вашей школе уроки музыки. Так что, если захочется попеть или просто поболтать, заходите в гости, милости прошу».
Он заглянул к ней на следующий день после занятий. В кабинете пахло древесиной, влажными тряпками и ещё не высохшей с лета светло-коричневой краской. С чисто выбеленной стены в класс смотрели бородатые композиторы «Могучей кучки». Поверхность доски белела нотным станом с пятью бемолями, на котором виднелся отрывок партитуры.
Крапивин спросил, что это, кивком головы указывая на доску. Вместо ответа, она стремительно бросилась к фортепиано и с мрачным вдохновением исполнила первые шестнадцать тактов «похоронного марша» Шопена.
– Это для оформления открытого урока, – со смехом пояснила она. – Всё равно никто ничего не понял.
Её хулиганская выходка показалась ему остроумной.
– Вы к нам по распределению, Елена Леонидовна? – спросил Крапивин, присаживаясь за парту.
– По распределению я после музыкального училища работала в Архангельском районе. Это недалеко от Белорецка – тайга, медвежья глушь.
– Учили медведей музыке?
– Нет, тех, кому медведь на ухо наступил. А сюда меня позвала ваша директриса. Ты не против?
Крапивин смутился.
– Да нет, что вы. Наоборот.
– Вот и хорошо. Только давай сразу договоримся, Вадим, что тет-а-тет мы будем обращаться к друг другу на «ты» и называть по имени, – сказала она, внимательно глядя ему в глаза. – Из-за вынужденной субординации я чувствую себя старухой.
Тогда ей было двадцать четыре.
Небольшой серый чемоданчик с закругляющимися углами оказался футляром для проигрывателя. Она поставила на переносную вертушку извлечённую из бумажного конверта пластинку. Крапивин сразу узнал тему из «Орфея и Эвридики» и с гордостью сообщил, что Глюка они проходили по музлитературе.
– Значит, мы с тобой практически коллеги, – улыбнулась Ленка, запрыгивая на парту и резко закидывая ногу на ногу. – Я хочу организовать в школе экспериментальный театр! – объявила она. – Главным режиссёром пойдёшь?
– Я никогда не пробовал режиссёром, – оторопел Крапивин.
– Так попробуй. Мне сказали, что ты самый умный.
– Кто?
– Ваша классная – Ольга Раисовна. Она говорит: Крапивин Кантом убьёт, а потом ещё сверху Гегелем припечатает.
– Ну, нет. Она преувеличивает.
– Она тебя боится, – по секрету сообщила Ленка.
Крапивин не удержался от самодовольной улыбки.
– Ты Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» читал?
– Читал.
– Эпиграф помнишь?
– Неа.
Её глаза покрылись мраком, а лицо сделалось похожим на мордочку маленького хищного зверька.
– Если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперёк!
Он и сам не заметил, как из обычного школьника в один день превратился в драматурга и театрального режиссёра. Брэдбери он не читал, но видел телевизионную постановку «Фаренгейта» с Юрием Яковлевым. Оттого что ему, наконец, предложили что-то достойное его ума и таланта, захватывало дух.
У них будет свой экспериментальный театр! Где-то в глубине души Крапивин и сам мечтал осушить это затхлое болото с его унылыми школьными линейками, тухлыми пионерскими сборами и жабьими комсомольскими собраниями.
Идя домой мимо странных цветов, высасывающих взгляд, он думал, что теперь из своих нерастраченных сил, из юношеской восторженности, из чистых кристалликов невинной детской злости они создадут новый порядок, совершат настоящую революцию!
Время перевалило за полночь, в форточку заглядывала любопытная Луна, а он всё сидел под апельсиновым абажуром с карандашом в руках, выделяя фрагменты текста для будущей постановки.
«Поверьте, это неплохая работа, в среду жечь Уитмена, в пятницу Фолкнера. Сжигать в пепел, а затем сжечь даже пепел. Таков наш профессиональный девиз…»
Мать два раза заглядывала к нему в комнату, интересуясь, почему он не спит. Крапивин даже не мог ей объяснить, чем так занят, потому что и сам до конца не понимал. Он говорил, что ему нужно, что он уже скоро, и, едва за ней закрывалась дверь, снова жадно вгрызался в книгу с выцветшей мягкой обложкой, на которой были изображены какие-то исполинские механизмы.
В школе теперь только и говорили о ней. Говорили, что раньше ничего подобного не видели, что новая учительница музыки общается с ними, как старшая сестра, как подруга, что она знает тысячу песен и на своих уроках «наизусть рассказывает книги». Не забывали вспомнить о её виртуозной игре на дудке. Лишь самые циничные и ушлые сторонились её и считали сумасшедшей.
Крапивин с ревностью наблюдал за тем, как Ленка быстро становилась центром внимания, как с лёгкостью заводила себе новых друзей. Он часто видел её на переменах в окружении стайки девчонок или ребят постарше, но сам близко не подходил, стараясь скрывать их особую доверительную связь и оттягивая до времени удовольствие личного общения.
Он знал, что после окончания уроков спустится в кабинет музыки и, скинув с плеча школьную сумку, усядется за парту. Ему просто нравилось быть с ней рядом, слушать, как она болтает без умолку о всякой всячине или поёт, аккомпанируя себе на фортепиано. Замолкала она только тогда, когда ставила на проигрыватель какую-нибудь пластинку из своей коллекции. В такие минуты Ленка становилась задумчивой и серьёзной, смотрела в пол, прикусив мелкими неровными зубами указательный палец, думая о чём-то своём. Крапивин чувствовал, что она открывает ему что-то такое, о чём он раньше имел лишь смутное представление и к чему едва прикасался.
Неловко ему было только в те моменты, когда она заговаривала об известных произведениях мировой литературы, которых он не читал, а их оказалось неприятно много. Ещё были всякие Шефнеры, Шварцы, Стругацкие, Анчаровы, калибром поменьше, но о которых всякому умному образованному человеку тоже следовало бы знать. Чтобы не выглядеть глупо, он как-то попросил дать ему что-нибудь почитать.
– Поехали, выберешь сам, – запросто предложила она.
В один из последних ясных дней бабьего лета под ясным лазоревым небом они дошли до трамвайного кольца, сели в чистый звенящий трамвай и покатили через мост, под которым в триумфальную арку осени убегали скорые поезда.
– Есть такая примета, когда под мостом пробегает поезд – можно загадывать желание, – сообщила Ленка.
– И как, сбываются? – не поверил Крапивин.
– Ага. Так что у тебя теперь будет повод лишний раз навещать меня. Я приглашаю в гости только один раз.
– В каком смысле? – насторожился он.
– В прямом. Ты можешь быть гостем только один раз – первый, а потом уже приезжаешь без приглашения, когда захочешь, как друг.
Её ответ вновь поразил его и привёл в полный восторг.
Поезда под мостом не оказалось. Выглянув из окна, Крапивин увидел только утекающий изогнутый хвост из нескольких последних вагонов. Зато один из двух билетиков оказался «счастливым». Ленка со смехом предложила его съесть.
– Их что, едят? Впервые слышу, – признался он.
– Почаще вылезай из своей скорлупы, Вадим, и не такое ещё узнаешь.
Выйдя из трамвая, он забыл подать ей руку, за что получил едкое замечание в свой адрес и краткую лекцию по этикету.
В старинном магазине, с полом, вымощенным бежевой керамической плиткой, они купили две банки консервов, немного сосисок и ореховый кекс. Пока Ленка, как с родными тётушками, любезничала с продавщицами в высоких кулинарных колпаках, Крапивин рассматривал лежащих на подносе копчёных рыб с дырками в боку, по которым деловито бегали маленькие мохнатые мухи. Когда они вышли на улицу, она сообщила, что этот магазин лучший во всём городе, потому что сюда время от времени завозят настоящий бабаевский шоколад.
– Настоящий горький шоколад во всём Советском Союзе делают только на Бабаевской фабрике. И не спорь со мной, – добавила она, высовывая язык.
К тому времени Крапивин уже знал о её редкой способности доставать языком до кончика носа, которую она при всяком удобном случае демонстрировала всем своим новым знакомым. Он и не думал спорить и вообще всему, что она говорила, готов был верить на слово.
2
Высота потолков была завораживающей. Крапивину захотелось спеть что-нибудь итальянское. Он уже было открыл рот, но, заметив возникшую в высоченном дверном проёме маленькую седовласую женщину с трясущейся головой, передумал. Она сощурилась, пытаясь разглядеть его лицо, и, не узнав, поздоровалась с ним шёпотом.
Ленка бросилась к ней на шею и стала целовать в пепельно-серые щёки:
– Бабуля, это – Вадим. Он теперь наш главный режиссёр! Крапивин – это моя несравненная бабуля – Инга Соломоновна.
От столь неожиданного представления ему стало неловко. Школьная форма категорически не вязалась с серьёзным творческим статусом. Женщина ещё раз взглянула на него и произнесла несколько слов на идиш. Ленка засмеялась, а он стушевался ещё больше.
– Ладно, чего стоишь? Бери обувь и пулей в комнату! – скомандовала она.
Её захламлённая берлога с паркетным полом и маленьким торцевым балконом напоминала лавку старьёвщика. Помимо круглого стола, там стояла железная кровать, застланная чёрной меховой шкурой, над которой висел портрет Шекспира работы бросившегося под поезд заводского художника и две скрещенные старинные шпаги. Возле кровати громоздился комод с бронзовым подсвечником. По другой стене – два туго набитых книжных шкафа, а напротив – старинное немецкое пианино, в котором хранились запасы гречки, сахара, коньяка и фамильное серебро.
Первым делом Ленка достала из-под стола свою самую большую драгоценность – трёхлитровую банку, почти доверху наполненную обжаренными кофейными зёрнами, и, сорвав с неё белую пластмассовую крышку, дала понюхать Крапивину.
– Чувствуешь запах? Арабика!
Слово, произнесённое ею, показалось ему магическим. Пока он сидел на старом скрипучем стуле, вертя ручку тугой механической кофемолки, она рассказала ему историю о том, как им досталась эта чудесная квартира.
В июне сорок первого, когда немцы входили в Минск, Инга Соломоновна Шкляр подожгла здание местного горкома партии со всеми хранящимися там архивными документами, а потом, спасаясь из пламени, на шестом месяце беременности выпрыгнула из окна второго этажа. Через сорок лет её сын, тот самый, которого она носила в своём чреве, описал этот случай в письме на имя председателя совета министров СССР товарища Тихонова, которое опустил в почтовый ящик на Красной Площади. А ещё через месяц Инге Соломоновне в торжественной обстановке вручили ордер на четырёхкомнатную полнометражную квартиру возле дворца Орджоникидзе.
– Неужели правда? Бывает же такое! – удивился Крапивин.
Всё, что было связано с ней, казалось ему настоящим чудом. Даже то, что своё волшебное зелье, от которого всякий бывавший у неё гость впадал в транс и начинал бредить театром, она умела готовить девятью разными способами, предлагая на выбор. Он решил попробовать самый экзотический – по-баскски, с чесноком и мёдом.
– Тогда сам будешь чистить чеснок, – предупредила она, увлекая его за собой на кухню.
Она стояла возле плиты, поставив одну ступню на другую, а он, опустив правую руку в брючный карман, дожидаясь пока плоская закопченная кастрюлька начнёт исходить пузырящейся коричневой пеной. Приглушив громкость радио, она вдруг спросила, что он думает о Битти.
– Зол, саркастичен, умён… В общем, на меня чем-то похож, – засмеялся Крапивин.
Её зрачки мгновенно расширились, она резко щёлкнула пальцами.
– Точно. Поэтому сыграть его должен ты.
– А, если я захочу попробоваться на Монтэга?
– Мммм… Не твой психотип. Монтэг – романтический телёнок. Монтэг глуп. Главный герой – Битти, – уверенно заявила она.
– Главный герой? – не поверил Крапивин.
– Сам посуди. Умнейший, образованнейший человек, владеющий суахили, хинди, английским литературным, прочитавший большинство книг, из числа тех, что они сжигают, теперь сам руководит пожарной командой. Почему? Кем он был до того, как стал пожарным? Неудавшимся писателем? – она вскинула бровь. – Подумай над этим. Битти приходит к Монтэгу для того, чтобы восстановить его пошатнувшуюся уверенность, но по всему чувствуется, что сам он не уверен и говорит совсем не то, что хочет сказать. Он рассказывает Гаю, что рано или поздно то, что произошло с ним, случается со всеми пожарными. Но всё дело в том, что однажды это произошло с ним. Он завидует, он узнаёт в Монтэге самого себя двадцать лет назад, ненавидит и одновременно хочет поддержать его, подать знак, что тот на правильном пути.
– Хм, а ведь похоже на правду, – улыбнулся Крапивин. – Сам бы я до этого не додумался.
– И заметь, в финальной сцене с огнемётом он намеренно провоцирует Монтэга. Издевается над ним. Гай изначально не собирался его убивать, но Битти буквально вынуждает его нажать на курок, – она выдержала драматическую паузу. – Учись работать с текстом, Вадим. Битти хотел умереть.
– Лена – ты чудо! – восхитился Крапивин.
Умный, едкий, запутавшийся, а теперь ещё и желающий умереть… Вдохновлённый её объяснением, Крапивин окончательно поверил в то, что роль брандмейстера Битти была написана именно для него. Сам он, конечно, не увидел всей её трагической глубины, не смог до конца разобраться, так как был ещё слишком неопытен, но она… Ему не терпелось начать репетировать, чтобы продемонстрировать ей своё глубокое понимание роли и блестящую актёрскую игру.
В какой-то момент из глубины комнат выплыла девушка в коротком клетчатом платье и белых гольфах, о красивые ноги, которой тёрлась серая длинношерстная кошка.
– Это моя младшая сестра – Наташа, – отрекомендовала Ленка. – А это Василиса, Васенька, – она наклонилась, чтобы погладить свою любимицу.
Крапивину показалось, что Наташа сделала небольшой книксен.
Ленка угостила Василису рыбными консервами, вывалив их на блюдце, после чего они втроём сели за покрытый светлой льняной скатертью стол.
Наташа, порезав кекс на тонкие ровные кусочки, стала ухаживать за Крапивиным, подливая ему кофе в тонкую фарфоровую чашку. Ему было странно, что она, почти его ровесница, обращалась к нему на «вы».
– Вы любите стихи? – спросила Наташа.
– Люблю. Мандельштама, Ахматову, Блока, – нехотя отговорился Крапивин.
– Пишите?
– Да, так, иногда…
– Я почему-то, как только увидела вас, сразу подумала, что вы должны писать стихи. Совсем недавно я открыла для себя Бродского. Это так сильно, так необычно…
– Ребёнок собирается поступать в университет, на филологический. Поэтому ему повсюду мерещатся поэты, – наклоняясь к уху Крапивина и комически понижая голос, пояснила Ленка. Наташа всё слышала, но сделала вид, что не обратила на это внимания.
– Да нет, я правда пишу, – подтвердил он.
– Можно вопрос? А почему я тогда об этом ничего не знаю? – возмутилась Ленка.
– Наверное, потому, что до этого у нас пока что не дошло, – предположил Крапивин.
Последняя фраза прозвучала двусмысленно, чему она искренне обрадовалась.
– Может, вы что-нибудь прочтёте? – предложила Наташа, демонстративно игнорируя плотоядный смех старшей сестры.
Крапивин отряхнул руки от кексовых крошек и выпрямился.
– Прочту одно, короткое, – согласился он. «Воровство»: «Синие цветы на твоём окне… Нестеров повесился на своей петле. Капли тихих слёз в синеве небес… Как квартирный вор я в окно залез. Я пришёл украсть свет, проникший в зал. Я пришёл вобрать глубину пиал. Скрип паркетных струн, бой стенных часов… Я пришёл украсть слепость старых сов. Чтоб, придя домой, всё увидя, ты ветру подарила синие цветы. Чтобы захотела в тишину упасть. И пришла ко мне бы что-нибудь украсть».
– Какое милое! – похвалила Наташа.
Она даже хотела похлопать в ладоши, но в последний момент передумала, видимо сочтя такое проявление чувств вульгарным.
Ленка ничего не сказала, но ей тоже понравилось. Крапивин понял это, потому что она с удовольствием потёрла нос.
Через какое-то время Наташа деликатно удалилась, вновь оставив их наедине.
Крапивин только теперь заметил чёрно-белую фотографию, стоявшую за стеклом в книжном шкафу. На снимке был запечатлён мужчина в строгом костюме с коротким галстуком, похожим на стрелку компаса. У него был гипнотически тяжёлый взгляд и умное волевое лицо.
– Кто это?
Ленка шумно выдохнула и заметно помрачнела.
– Виктор Високосников – мой родной дядя.
– Он жив?
– Типун тебе на язык! Слава богу, жив. Живёт в Подмосковье, в Павловском Посаде. Только его жена-стерва не хочет, чтобы мы виделись. Давай не сейчас. Я тебе потом как-нибудь расскажу, – пообещала она.
Ленка попыталась улыбнуться, но её улыбка получилась вынужденной. Крапивин пожалел, что спросил про фотографию. С мужчиной на снимке её явно связывала какая-то загадочная история, о которой ему, скорее всего, вообще не следовало знать.
Чтобы отвлечься от неприятной темы, она предложила устроить предварительную читку и, пока он нащупывал интонацию Битти, густым контральто подавала ему реплики за Гая Монтэга.
Уже поздним вечером, выйдя проводить его на лестничную площадку, Ленка сделав мученическое лицо, выразила надежду, что он не бросит старую больную женщину на произвол судьбы и хоть иногда будет навещать её. Всё выглядело так, как если бы они расставались на долгие годы, а не должны были увидеться завтра в школе.
Домой он возвратился после одиннадцати, в компании Гомера, Данте, Шекспира, и Лопе де Веги. Выпитый кофе придавал его мыслям вдохновения и какой-то особенной, чётко вычерченной ясности.
– Где ты был так поздно? – встревоженно спросила мать.
– В наилучшем из возможных миров, – с искренней улыбкой ответил Крапивин.
– Это опасно! – автоматически предупредила она. – Есть будешь?
Отец, выйдя в коридор, осуждающе покачал головой. Но, когда Крапивин показал ему привезённые книги, успокоился и унёс почитать к себе трагедии Шекспира.
3
К концу сентября ей удалось оформить ведение театрального кружка и даже получить за него какую-то крохотную ставку. Начались репетиции. Труппа из учащихся седьмых–десятых классов набралась довольно быстро. Некоторых Крапивин знал до этого, с кем-то знакомился только теперь. Среди пробующихся на роль Клариссы Маклеллан были две девочки из параллельного класса, ещё парочка девчонок на год старше претендовали на небольшую роль жены Гая – Милли (Миллдерт). Был ещё потенциальный профессор Фабер, пожарные, люди у костра… Собирались в актовом зале с шеренгами прикрученных к полу коричневых кресел (будто кто-то боялся, что они могли ненароком улететь) и маленькой клетчатой сценой без занавеса.
Вечерами серенькая кирпичная школа в три этажа расширялась и становилась таинственной. Идя по длинным вытянувшимся коридорам, мимо замерших в рекреациях питьевых бюветов, Крапивин прислушивался к обитающим в ней звукам сквозняков, капающих кранов, к монотонному шелесту сливных бачков. Ему нравились эти опустевшие лестничные пролёты, заплаканные дребезжащие окна, шершавые стены, изумлённая немота кабинетов с запахами химических реактивов и шелушащихся географических карт. От мысли, что завтра утром вся эта заповедная тишина вновь будет разрушена топотом ног, хохотом и криками, его охватывала досада.
Когда три года назад он впервые оказался здесь, всё виделось ему чужим и враждебным. Крапивин чувствовал себя доном Руматой Эсторским, заброшенным на маленькую грязную планету, населённую злобными карликами. Местные жители смотрели на них, спортсменов, собранных со всего города в баскетбольный спортивный класс, как на чужаков. (В пятой, современной и светлой, в которую Крапивин ходил до этого, люди казались выше и добрее.) Конфликты случались каждый день, часто доходило до драк… День за днём им приходилось отстаивать своё право на уважение. Постепенно воспоминания о том времени стирались, школа обретала черты родного дома, в обитателях которого он научился угадывать что-то небезнадёжное, а подчас даже родственное.
На первую репетицию Ленка принесла несколько экземпляров готового распечатанного текста. Увидев несвежие потрёпанные листки с выцветшими, чуть разъезжающимися буквами, Крапивин обомлел. Ими уже явно кто-то пользовался, а это могло означать только одно: в тот момент, когда она подсунула ему книжку Брэдбери, пьеса была уже написана. Он почувствовал себя жестоко обманутым и в перерыве, выведя её в коридор, потребовал объяснений. Ленка призналась, что этот школьный театр у неё не первый и что «Фаренгейта» она ставила два года назад с учениками сто четырнадцатой математической школы. Но если он настаивает на внесении изменений, то они могут это обсудить.
В тот момент он был готов настаивать на полном уничтожении всего гадкого несправедливого мира.
– Не сердись, Вадим. Я пошла на эту маленькую хитрость, чтобы привлечь тебя к постановке. Но, поверь, твоя работа с текстом не была напрасной.
– Ты меня обманула, – сухо отрезал он.
Она сокрушённо вздохнула.
– Я готова выслушать тебя. Мы можем обсудить любые изменения. Всё, что ты сочтёшь нужным…
Ленка попыталась осторожно дотронуться до него, но Крапивин обиженно отдёрнул руку. В глубине души он понимал, что она права, но ничего поделать с собою не мог. Для того чтобы успокоиться и смириться с тем, что произошло, ему нужно было время.
Чуть позже, прочитав пьесу, он был вынужден признать, что она была выписана из книги практически идеально. В неё вошло только самое необходимое для театральной постановки, а всё второстепенное и ненужное было отсечено беспощадной рукой талантливого драматурга, в точности по заветам Микеланджело. Настаивать на каких-либо серьёзных изменениях можно было только из вредности, в ущерб будущему спектаклю. Но вслух он сказал, что ещё подумает.
На следующей репетиции она показала, как будет работать огнемёт, в пламени которого ему предстояло сгореть. Из небольшого бумажного пакетика Ленка насыпала в стеклянную трубку какой-то желтоватый порошок, а потом поднесла пламя зажигалки к концу трубки и резко дунула. Из трубки с сухим пневматическим звуком вырвался длинный клубящийся столп пламени, который через полсекунды погас.
Демонстрация произвела на всех ошеломляющее впечатление. Насколько он мог судить, это и в самом деле очень напоминало пламя огнемёта.
– Ликоподий – сухая растительная присыпка, продаётся в аптеках. Стоит копейки, – объяснила Ленка.
– Но как это будет выглядеть на сцене? Нужно что-то решить с подачей воздуха, – заметил Крапивин.
Она хитро посмотрела на Диму Ковшова, его одноклассника, отвечавшего в «Эксперименте» за техническое обеспечение.
– Если трубку резиновым шлангом соединить с камерой футбольного мяча, которая будет находиться в специальном ранце за плечами у Гая Монтэга, а потом открыть кран, эффект будет ещё более грандиозным, – пообещал Дима.
– А откуда у Монтэга возьмётся запал? – не унимался Крапивин.
Она по-змеиному повернула голову в его сторону.
– Запал возьмётся не у Монтэга, а у Битти. Он в финальной сцене будет поигрывать зажигалкой.
Крапивин с неудовольствием отметил, что и эта деталь была у неё заранее продуманной. Но злиться на неё у него уже не было сил. Атмосфера театральных репетиций была слишком захватывающей, чтобы ею можно было пожертвовать во имя своей гордости. Ленка умела создать особенную обстановку. Многие сцены репетировали с музыкальным сопровождением при свечах (запах горелых спичек восхитительно носился по залу). Крапивин, успевший к тому времени прочитать парочку книг о современном театральном искусстве, зорким режиссёрским глазом следил из темноты за лицами и жестами своих новоиспеченных актёров, делая замечания по ходу пьесы, а иногда стремительно выбегая на сцену (он видел по телевизору, что так делают настоящие большие режиссёры).
В один из вечеров к ним с инспекторской проверкой нагрянула «Зося» – завуч по воспитательной работе Зоя Валерьевна Собакина. Первым делом она потребовала немедленно включить свет.
Что здесь происходит? Горелым пахнет! У вас пожар? Рэй Брэдбери? Бездуховность капиталистического общества, достигшая апогея? Жгут книги? Ленка с Крапивиным, усадив Зосю в первый ряд, как могли стали успокаивать её, попутно объясняя, чем они тут занимаются. Через десять минут она, проникшись темой, уже сочувственно качала головой: «Я слышала, что у них в Америке бездомных лечат от всех болезней аспирином. Дадут таблетку и отправляют обратно ночевать в картонную коробку под мостом».
– Скучно ей. Одна баба живёт. Да, ещё проблемы с дочкой. Вот и мается дурью, не знает, куда ещё влезть, – объяснила Ленка, когда Зося ушла.
– А что с дочкой? – поинтересовался Крапивин.
Она махнула рукой, решив не посвящать его в подробности.
Пробовавшийся на Гая Монтэга десятиклассник Костеров продержался недолго и вскоре отвалился, поняв, что игра на сцене – не для него. На вакантное место Крапивин предложил своего одноклассника и друга Сашку Захарова – здоровяка и увальня, но с трепетной душой и большим добрым сердцем.
4
В подъезде дома, где жил Захар, в любое время года царила питерская шизоидная мрачность. Поднимаясь к нему по лестнице на третий этаж в сорок девятую квартиру, Крапивин любовался выкрашенными в немыслимый цвет покосившимися почтовыми ящиками и прислушивался к сосущей барабанные перепонки тишине, в которой, как ему казалось, сумасшедшие наблюдали за ним в дверные глазки, беззвучно шевеля своими беззубыми ртами.
Захара он застал лежащим на диване в одних трусах и почёсывающим брюхо. Время от времени друг заливался до слёз безудержным смехом, сотрясающим всё его широкоплечее телесное могущество. Можно было подумать, что он читает не «Тропик рака», а журнал «Крокодил».
Крапивин наблюдал за ним со стороны, и его рот тоже непроизвольно растягивался в улыбке. Вот послушай, сказал Захар… С трудом закончив цитату, беззвучно оскалил рот и завалился на спину, роняя на пол книгу. Читать её он больше не мог. Творческий гений человекообразной обезьяны по имени Генри Миллер, действующий как сила притяжения Юпитера, окончательно размазал его по дивану.
– Что касается великого искусства любви, – сказал он, безуспешно пытаясь подавить икоту, – то до девяти лет я жил в небольшом татарском городе Бугульме, где его буквально впитывали с молоком матери, а к третьему классу школы так и вовсе постигали в совершенстве.
Захар стал вспоминать, как в семь лет его под руководством дворового авторитета по кличке «Ленин» положили на какую-то дворовую девку, у которой к тому времени уже начала расти грудь, и стали смотреть, что из этого выйдет. Но у него тогда не встал.
Его бабка с маленькими глазками и совиным скрученным носом, которую он называл «старухой-процентщицей», носила фамилию Демидова. Захар уверял, что она происходила из знаменитого купеческого рода, лившего пушки на Урале и чеканившего втайне от государства серебряную монету. Бабка часто рассказывала ему о своей молодости. Сначала она жила в деревне, а когда бородатые комсомольцы с палками «отобрали у людей хлеб», переехала в город и стала работать трамвайным кондуктором. Перед коллективом их трамвайного депо в 1935 году выступал сам Лазарь Моисеевич Каганович. После войны она устроилась санитаркой в психбольницу и там, конечно, тоже всякого навидалась.
На подоконнике в её квартире стояла немецкая швейная машинка «Зингер», а в сундуке лежали мягкие хромовые сапоги, оставшиеся от бабкиного ухажёра, бывшего белогвардейского офицера.
Захар прикладывал их подошвой к своей медвежьей лапе сорок шестого размера, чтобы Крапивин лично мог убедиться, что ножонка у бабкиного хахаля была миниатюрная, почти дамская, что, по его мнению, свидетельствовало о его дворянском происхождении.
– А с что с ним стало? Расстреляли? – поинтересовался Крапивин, перелистывая старинную историю ВКП(б).
Захар почесал носком сапога голову.
– Не знаю, наверное, расстреляли. Она рассказывала, что он эээээ… сбежал.
В том же сундуке, где хранились сапоги, они нашли комиссарскую кожаную тужурку, офицерский планшет и старое пенсне без стёкол.
– А это от кого осталось, от товарища Троцкого? – засмеялся Крапивин.
Захар водрузил пенсне на переносицу и стал, выглядывая из-за шкафа, изображать Клима Самгина. На его побледневшем лице, будто вырезанном из цельного куска дуба, возникала смесь брезгливой отстранённости и испуга. Крапивин нашёл его пародию на метущегося интеллигента крайне уморительной. Грандиозный сериал по роману Горького они смотрели вместе перед школой, чокаясь хрустальными фужерами со сливовым компотом. Иногда им так хотелось досмотреть серию до конца, что приходилось пропускать первый урок. Наверное, тогда Крапивин и решил, что у Захара есть несомненный актёрский талант.
– В театр пойдёшь? – спросил он, проходя в комнату.
– В русский драматический?
– В башкирский, оперы и балета, – съязвил Крапивин. – В наш, школьный.
– У нас в школе есть театр? – удивился Захар.
– Теперь есть, новая учительница музыки организовала. Она там художественный руководитель, а я – главный режиссёр. Я сказал ей, что ты экспрессивный истероид и можешь нам пригодиться. Соврал, конечно.
– Да нет. Почему же? Так оно и есть, – подтвердил Захар, демонстративно сменив за несколько секунд десяток гримас на своём лице.
– Придёшь на репетицию завтра, посмотрим, на что ты способен, – решил Крапивин.
– А кого играть-то надо, Гамлета?
– Щас, размечтался, Гамлета, – фыркнул Крапивин, критически осматривая внутренности холодильника. – Тупого американского пожарного будешь играть согласно уровню интеллекта и природной фактуре.
Узнав о предназначавшейся ему роли, Захар снова неудержимо расхохотался.
Крапивин стал рассказывать ему о планах поставить спектакль по знаменитой антиутопии Рэя Брэдбери. Оказалось, что его друг хорошо знал этот роман и прекрасно ориентировался в его персонажах. Он расспрашивал Крапивина о том, кто пробуется на роли и какие фрагменты романа вошли в пьесу. А потом даже высказал парочку интересных соображений по поводу того, как можно было решить проблему сцен с механическим псом.
– Ладно, назначаю тебя Немировичем-Данченко, – решил Крапивин. – И по такому случаю предлагаю выпить. Ты пил когда-нибудь?
Захар стал рассказывать, как после операции по удалению гланд в тринадцатой больнице взрослые мужики – соседи по палате – напоили его до одеревенения портвейном «Три семёрки».
– Из жалости. Я три дня не мог тогда ни есть, ни спать, ни говорить, – объяснил он.
– И как? – поинтересовался Крапивин.
– Они думали, что я усну, а я три часа ходил по коридорам, заглядывая в окна. Потом, конечно, проспал до обеда.
– А я один раз стакан водки выпил, – признался Крапивин, – когда ездил на республиканскую олимпиаду по физике.
После Нового года на зимних каникулах их на междугороднем автобусе привезли в Стерлитамак и разместили на раскладушках в интернате для глухонемых. Мир глухонемых с его старыми оконными рамами, облупившимися подоконниками и ржавыми раковинами показался Крапивину унылым и непривлекательным. Но само здание интерната было на удивление светлым и просторным, будто кто-то решил, что дополнительный объём пространства мог компенсировать его обитателям отсутствие в нём звука. Ходя по его этажам, Крапивин за всё время так и не встретил ни одного глухонемого. Возможно, их вывезли куда-то на время или они научились бесшумно прятаться, как дикие звери при появлении чужаков. Он точно не знал.
В один из вечеров для участников олимпиады в местном ДК организовали новогоднее мероприятие с конкурсами и дискотекой. Весь алкогольный опыт Крапивина к тому времени сводился к одной единственной бутылке пива, выпитой в жару на железнодорожном вокзале Челябинска. Зато Валера Бакланов, юный повеса и мажор, регулярно дегустировавший отцовский бар, знал в этом деле толк. Он предложил Крапивину и ещё одному парню, приехавшему с ними, заглянуть на обратном пути из столовой в магазин, чтобы на вечер в ДК прийти в самом высоком расположении духа.
Крапивина как самого рослого послали за пол-литровой «Пшеничной», тремя плавлеными сырками и банкой кильки в томате. Вернувшись в интернат, нашли на цокольном этаже бойлерную с замотанными тряпьём, дурно пахнущими трубами. На полу стоял удобный деревянный ящик, когда-то служивший тарой, а теперь, по всей видимости, использовавшийся в качестве стола местными сантехниками.
– Нас с непривычки не развезёт? – спросил он Валерку как самого опытного.
– Бутылка на троих – нормально, самое то, – заверил тот. – На улице холодно, по морозу пройдёмся, никто ничего не заметит.
Крапивину доверили разливать в единственный мутный стакан.
– По сколько наливать-то, даже не знаю.
– Давай по половинке, – уверенно посоветовал Валерка.
Он думал, как ему лучше поступить: цедить мелкими глотками или сразу осушить залпом. Решил, что залпом будет не так противно. К тому же надо было поторапливаться, в любую минуту кто-нибудь мог войти. Когда проглотил, почти ничего не почувствовал, даже не скривился. Только ощутил непривычную горечь во рту. Выдохнул. В рот обильно потекла слюна. Он отломил кусочек плавленого сырка и бросил в рот пару килек. Вместе с закуской в желудок мягким облаком спустилось тепло. Через минуту не было ни страха, ни сомнений по поводу того, правильно ли они поступили. Стало заметно веселее. Валерку хотелось обнять.
– Всё нормально, не заметили? – спросил Захар уже по дороге.
– Валерка единственный и спалился, – засмеялся Крапивин. – Мы просто приятно захмелели, а его в краску бросило. На дискотеке начал приставать к какой-то девчонке, чуть не подрался с местными. Но, надо отдать ему должное, – Крапивин воздел кверху указательный палец, – на допросах вёл себя мужественно, стойко, говорил, что пил в одиночку, и своих товарищей не выдал.
С той олимпиады Крапивин вернулся победителем. Он и сам удивлялся, как всё легко у него тогда получилось. Приехав в город, шёл вдоль трамвайных путей, на которые тихо падали крупные снежинки, тихо насвистывая хоральную прелюдию Баха. Навстречу ему попалась кудрявая, как овечка, химическая лаборантка Жанна. Она спросила его, как успехи. Он ответил. Глаза Жанны восхищённо расширились и сделались совсем круглыми. На следующий день о его триумфе знала вся школа.
5
По площади перед торговым центром «Юрюзань» разгуливали персонажи картин Босха.
Пока Крапивин элегически рассматривал неглубокие осенние лужи, готовые вот-вот затянуться тонкой ледяной плёнкой, Захар подошёл к безногому калеке, курившему возле остановки, и поинтересовался, чего все ждут. Тот ответил, что к трём часам обещали привезти «красненькую». Через пару минут к ним подвалил здоровенный небритый алкоголик, в бурых меховых унтах, в синей куртке и дурацкой лыжной шапке, заросший чёрной недельной щетиной.
– Сколько берёте, пацаны?
– Ещё не решили.
– Давай бутылку сверху, я сколько хочешь вынесу, – предложил он.
Захар с Крапивиным переглянулись.
– Да, ладно, не менжуйтесь. Дело верное, не обману. Я – Серёга, меня здесь все знают.
Когда ставни металлической амбразуры со скрежетом отворились, толпа, охнув, ринулась на штурм.
– Вот так и Зимний брали, – глядя издали, заметил Крапивин.
Особо ретивых, резко вырвавшихся вперёд, за воротник или за волосы оттаскивали обратно. Десятки напиравших, теснивших друг друга, по-звериному возбуждённых мужчин застыли в недосягаемой близости от прилавка. Какого-то субтильного мужичка подняли на руках и забросили поверх толпы, видимо, надеясь, что он по головам доползёт до окошка. Но его быстро сволокли вниз и затоптали. Больше он не показывался. Из амбразуры лезущих по головам лупили деревянным остовом швабры. Двое, кое-как выдравшись из толпы, самозабвенно метелились возле пункта приёма стеклотары. Какая-то бабка, проходившая мимо, стала истошным голосом звать милицию. Крапивин, стараясь не обращать внимания на то, что творилось вокруг, неотрывно следил за мелькавшей в людском месиве лыжной шапкой алкоголика Серёжи, благо тот был высок и здоров, как медведь. Шапка медленно, но неуклонно приближалась к цели, и это вселяло надежду.
Минут через двадцать Серёжа, прижимая к груди, вынес с поля боя пять бутылок «Кодрянки» (лицо у него в этот момент было как у Героя Советского Союза). Свою, принадлежавшую ему по уговору, он выпил тут же секунд за тридцать и, смачно рыгнув, понёс сдавать в пункт приёма.
– Вот это человек! – восхитился Захар, глядя ему вслед.
Придя домой, он положил бутылку на ладонь и стал внимательно, как древний манускрипт, изучать этикетку. «Столовое вино. Гост: 7208-84. Вместимость – ноль семь литра. Крепость: 9–11 оборотов, – неторопливо с выражением читал он. – Цена вместе со стоимостью посуды для первого пояса – один рубль тридцать копеек, для второго – один рубль семьдесят копеек». Крапивин тоже полюбопытствовал. На розовом фоне, в обрамлении раскидистых дерев, пунктиром утекали вдаль неровные линии виноградника, за которым на косогоре виднелось небольшое молдавское сельцо. За маленькими домиками схематично клубился дубравный лес. Картинка напоминала иллюстрации к «Руслану и Людмиле». Невозможно было отделаться от мысли, что трудолюбивые молдавские крестьяне жили в сказке. Невольно хотелось туда, к ним.
Кухня у Захара была крохотной, сидя на табуретке, до всего можно было дотянуться рукой. Там и одному было тесно, поэтому пировать сели в зале, выставив перед диваном небольшой журнальный столик. Настроение было, как после удачной охоты. Дешёвое красное вино легко заходило под перчёное жареное мясо, которое Захар за десять минут приготовил на варварской чугунной сковородке. Крапивин, глядя на то, как его рассеянный взгляд блуждает по стенам, как он от удовольствия шевелит пальцами ног, невольно расхохотался.
– Чего?
– Да ты просто троглодит!
Потом Крапивину стало плохо. Тошнота каскадами подступала к горлу, голова кружилась и полнилась мрачными видениями. Он завалился на скамейку и какое-то время лежал на боку, по-собачьи, тяжело дыша. Его несколько раз надрывно вырвало. Отплевавшись, он указал Захару на пугающие красные пятна, оставшиеся на свежевыпавшем снегу: «Нахлынут горлом и убьют». Его лицо было зелено и бледно. После опорожнения желудка стало немного легче, но он всё ещё не мог сфокусировать взгляд и остановить плывущие мимо девятиэтажки. В таком состоянии показываться родителям было нельзя. Вдобавок ко всему Захар увидел, что на Крапивине горело пальто.
Правый рукав дымился и тлел, а дыра на нём расползалась как прободная язва. Скорее всего, порывом ветра туда занесло горящий уголёк. Сначала они пытались забросать пальто снегом, а потом стали энергично утаптывать его ногами. Прохожие с интересом наблюдали за их дикими танцами. В уже сгустившихся сумерках, когда на небе зажглись яркие косматые звёзды, пожар удалось ликвидировать.
Выйдя на Проспект, они сели на скамейку неподалёку от гранитной трибуны, с которой местная власть приветствовала участников майских и ноябрьских демонстраций. Пространство перед скамейкой заливало лимонадным светом длинношеего фонаря.
– Что я скажу дома? – сокрушался Крапивин, в сотый раз трагически оглядывая чернеющую дыру на рукаве размером с Австралию. – Первый раз в жизни решили напиться по-человечески, и то не вышло…
– Почему не вышло? По-моему, очень даже вышло и теперь надолго запомнится, – Захар флегматично вытянул перед собой ноги.
– Тебе-то хорошо. А я чуть не сдох, а теперь меня дома убьют.
– Не убьют. Скажешь, что собака укусила.
– Ты отца моего не знаешь. Он проведёт экспертизу и установит марку сигарет, которые мы курили. Папа – ведущий инженер научно-исследовательского института авиационных технологий, его хоть сейчас на работу в гестапо можно брать.
Крапивин представил своего отца с очками на лбу, внимательно рассматривающего рваную рану на драповой ткани, и ещё раз внутренне убедился, что обманывать папу всевозможными фантастическим версиями было делом бессмысленным.
– Тогда, скажи правду, – посоветовал Захар. – Ну, что они тебе сделают, выпорют?
– Хуже. Они будут ржавыми гвоздями ковырять мой мозг несколько дней. Ты не понимаешь… Правда для них окажется невыносимой. Не зря мне прошлой ночью снились самолёты, – вздохнул Крапивин. – Когда мне снятся самолёты, со мной всегда случается какая-нибудь неприятность или я заболеваю.
– Я никогда не летал на самолётах, – признался Захар.
Крапивина мать до школы каждый год брала с собой на юг, а потом решила, что лучше и дешевле отправлять его в пионерские лагеря – меньше хлопот.
– А я и в пионерских лагерях никогда не был, – снова подал голос Захар.
Крапивину стало жаль его. Даже жальче, чем себя.
– Денег совсем не осталось? – без всякой надежды спросил он.
– Так, мелочь.
Были бы деньги, они бы пошли в планетарий. Днём там рассказывали о звёздном небе над головой, а по вечерам показывали колотушки с Брюсом Ли, ужасы и эротику.
– Может, в «Искру»? – предложил Захар.
Пару лет назад они придумали способ бесплатно смотреть фильмы «до шестнадцати». Пока народ выходил из зрительного зала, они протискивались навстречу людскому потоку и прятались за экраном. Там было пыльно, стояли какие-то сломанные стулья и бегали мыши. Когда начинался сеанс, они выбирались из своего укрытия и садились на свободные места в первых рядах. Но теперь заниматься такими глупостями Крапивину не захотелось.
– Ладно, ничего не поделаешь, придётся идти сдаваться домой, – решил он.
– Придётся, – нехотя согласился Захар.
Они не спеша двинулись по морозной аллее, между рядами замёрзших деревьев, пока сзади их не настиг грубый требовательный окрик:
– Стоять! Откуда?
Этого ещё не хватало, подумал Крапивин. Страха не было, но к горлу подступила почти невыносимая аргентинская тоска. Обернувшись, он увидел, стремительно приближавшихся к ним трёх пацанов. Один был повыше и постарше, двое других, в почти одинаковых куртках и кепках были похожи на братьев. Местную горсоветовскую шпану он неплохо знал, но лица этих показались ему незнакомыми.
– Да мы-то местные. А вы сами кто такие? – негромко спросил он, когда те вплотную подошли к ним.
– Местные? Кого знаешь? – спросил тот, что был повыше, наглый, с большими чёрными кулаками, казавшимися опухшими от холода.
На его безымянном пальце Крапивин увидел наколку – кладбищенский крест с небольшой косой перекладиной, и подумал, что «наглый» мог сидеть по малолетке. Ничего хорошего это не предвещало. Его приятели, которых он теперь разглядел, были похожи на небольших заводских рабочих, обещавших через несколько лет превратиться в настоящих стопроцентных пролетариев. Крапивину не понравилась их молчаливая угрюмость и то, что они оба демонстративно держали руки в карманах.
– А кого тебе надо? – как можно спокойней спросил он.
– Мне никого не надо. Сейчас тебе понадобится, – сказал он Крапивину и тут же внезапно переключился на Захара: – Дай рубль?
Захар отрицательно помотал головой. В следующую секунду в него полетел чёрный опухший кулак.
Он успел увернуться, и удар пришёлся вскользь. Крапивин тут же рефлекторно выбросил в ответ боковой в голову «наглому», угодив тому прямо в ухо, но не причинив особого вреда. «Наглый» со зверским лицом бросился на Крапивина и наверняка сбил бы его с ног, если бы его не остановил правый прямой от успевшего опомнится Захара. В этот момент в бой бросились «пролетарии». Один, достав из кармана нож, заплясал перед Крапивиным. Другой пытался помочь своему старшему товарищу, но, быстро получив от Захара наотмашь, упал на колени, держась за окровавленный нос.
Крапивин смотрел на пляшущего перед ним с ножом рыжего и не знал, что делать. Он не нашёл ничего лучше, как подпрыгнуть и с высоты баскетбольного кольца обрушить на его голову свой кулак. Удар пришёлся точно в макушку. Рыжий выронил холодное оружие и осыпался на землю. Крапивин быстро подобрал нож и побежал на помощь Захару. Но тот в последний момент успел крикнуть: «Не надо!»
Когда всё закончилось, они молча стояли друг напротив друга на перекрёстке. Расставаться не хотелось. Крапивин часто дышал через нос. Захар ощупывал пальцами разбитую губу.
– Я думал, ты сейчас подлетишь сзади и пырнёшь его в почку. Тебя посадят в тюрьму. И какой тогда к чёрту театр? Какой Брэдбери?
– «Мстислав Редею заколол пред всей косожскою дружиной…» – сплюнув, вспомнил Крапивин. – Да, я боялся, что рыжий очнётся и подберёт, – объяснил он.
– Всё равно зря. Никогда не бери чужой нож, на рукоятке останутся твои отпечатки пальцев. Отбрось ногой подальше.
– Это тебя в Бугульме, что ли, научили?
– В Бугульме исключительно дерутся на шпагах, – в свойственной себе манере соврал Захар.
– А всё-таки неплохой денёк получился, – немного подумав, решил Крапивин.
– Да, содержательный.
– Знаешь что? – Крапивина вдруг осенила внезапная мысль. – Ровно в полночь посмотри на этот флаг, – он указал пальцем на красное полотнище, развевавшееся над зданием Горсовета.
– Зачем?
– Я тоже ровно в двенадцать на него посмотрю. Мы оба будем знать, что в этот момент смотрим на него. И оттого, что наши взгляды встретятся, мне будет не так хреново.
– Это ты интересно придумал, – похвалил Захар.
– Я ещё и не такое придумаю, если сегодня живым до дома доберусь, – пообещал Крапивин.
– Доберёшься, – едва слышно произнёс Захар, глядя ему вслед.
6
Открыв дверь, Крапивин увидел сидящего в конусе света отца. Его нервное трясение ногой и поглаживание волос на голове не предвещало ничего хорошего. Отец сказал, что им нужно поговорить. Это означало, что минут пятнадцать говорить будет только он.
– Где тебя всё время носит? Ты способный, но у тебя нет стержня. Ты совсем забросил занятия наукой. В школе тебе всё даётся легко, но ты даже не представляешь, как скоро она закончится, а в институте придётся пахать, пахать и пахать. Уж поверь мне. Пахать, а не порхать! – отец остался доволен своим каламбуром. – Вадим, я всерьёз обеспокоен твоим будущим…
Однажды Крапивин вдруг ясно увидел, что много лет принимал отцовские желания за свои собственные. Отец мечтал, чтобы он стал учёным, и лет с восьми-девяти стал подсовывать ему книжки про великих физиков и математиков, уверяя его в том, что у него несомненные способности и что занятие наукой предназначено ему судьбой.
Отец многого про него не знал. Не знал, что он ещё в младших классах таскал его сигареты, пробуя курить, срывал уроки рисования, бегал на речку ловить ужей, играл с друзьями в карты, мечтал о самодельном пистолете, грязно ругался и в своих фантазиях раздевал одноклассниц, у которых к тому времени под школьными фартуками уже стали появляться небольшие манящие выпуклости. Он не догадывался, что Крапивин часто стыдился его рассеянности, неумения рассказывать анекдоты и косноязычной манеры говорить. И это только то, что можно было произнести вслух. Мысль о том, что отец, возможно, принимал его за другого человека, которым он никогда не был и, увы, никогда не сможет стать, приводила его в отчаяние. Но он как мог искал точки соприкосновения и пытался соответствовать возлагаемым на него надеждам.
В начале восемьдесят второго года отец выписал по почте ежеквартальный астрономический календарь с очертаниями зодиакальных созвездий, античных героев и кентавров на иссиня-чёрной обложке. С его помощью можно было легко отыскать на небе любую планету или звезду.
Они брали подзорную трубу в чёрном пластмассовом футляре и шли по пыльной дороге на холм, на плоской вершине которого стояла наглухо заколоченная керосинная лавка – такая жалкая и одинокая, что при взгляде на неё хотелось расплакаться. Над ней в абсолютно чёрном небе жёлтой лампочкой горела Венера. В пахнущей ковыльной траве под ногами трещали сверчки, где-то вдали лаяли собаки. Крапивин стоял абсолютно счастливый, глядя на то, как за горизонт в дикие нераспаханные поля сыпались звёзды, и чувствуя разливающийся по жилам рек вечерний покой.
Чуть позже отец приспособил к подзорной трубе фотографический штатив, и Крапивин, как когда-то, почти за четыреста лет до него Галилей, смог самостоятельно открыть четыре крупнейших спутника Юпитера. Его радости от ощущения причастности к великим тайнам Неба не было предела. Потом они с отцом даже смастерили движущуюся модель Солнечной системы, отражавшую в реальном времени взаимное расположение планет. На неё можно было смотреть как на космические часы. Крапивин был горд тем, что ни у кого больше таких не было, и показал их только один раз своему однокласснику, на которого хотел произвести впечатление. В то время он и сам жил будто в космосе.
Это было на старой квартире, с её лениво ползущим по небу весенним солнцем, разомлевшими на карнизе голубями, тонким тюлем, через который в комнату проникал свет, падающий в нишу югославской стенки с дремлющими коричневыми томами Большой советской энциклопедии. Они переехали туда, выбравшись из хлорных туманов окраинной промзоны, в самом конце 70-х. Крапивин любил подолгу оставаться там один, прислушиваясь к звукам улицы, проникавшим через открытую балконную дверь, а иногда ставил пластинку, на которой Фидель начитывал свои письма Че Геваре. Его экспрессивная речь, рвущая воздух пулемётными «р», звучала как музыка: «Ррревольюсьон, либерррасьен, ля копарртивиста…» Крапивин становился перед зеркальным трюмо и, помогая себе энергичными жестами, тоже пытался говорить «по-испански». У него неплохо получалось.
Мать, уходя на работу, предупреждала, что будет наблюдать за ним в волшебное зеркальце. Но на все просьбы показать его отвечала отказом, объясняя это тем, что от взгляда ребёнка оно может потерять свои волшебные свойства. Со временем он догадался, что она обманывала его и что никакого волшебного зеркальца у неё не было, если, конечно, она не научилась подсматривать за ним в то, которое находилось в крышке её пудреницы. Но как раз именно теперь ему стало казаться, что он находится под наблюдением тысячи преследующих его зеркал, в которых отражается каждый его шаг и от которых некуда скрыться.
– В дворники хочешь пойти? – завела свою обычную шарманку мать, пришедшая в кухню на звук оживлённой беседы.
– В кочегары, как Виктор Цой, – огрызнулся Крапивин. – У тебя всегда – если не в академики, так в дворники, третьего не дано. Между прочим, с дворниками сегодня интереснее, чем с академиками. В дворниках – весь цвет нации.
– Какой цвет нации? – не поняла мать.
– Я согласен, что коммунисты сделали маргиналами тысячи талантливых молодых людей, – демонстрируя свою осведомлённость, примирительно сказал отец. – Но, сейчас всё изменилось. Разве ты не видишь, что происходит? Новая эпоха набирает обороты. И если ты не поторопишься, то не сможешь заскочить в последний вагон поезда. Вадим, я серьёзно.
– Ну, и что это будет за эпоха, если серьёзно? – спросил Крапивин, критически скрещивая руки на груди и чувствуя, что настроение отца мгновенно меняется.
– Ты вообще понимаешь, что в стране происходит? То, что ты пробуешь себя в общественной жизни, возглавляешь школьную комсомольскую организацию, это хорошо. Это очень даже хорошо, потому, что наступает эпоха низовой демократии, настоящего народовластия. Те времена, когда всё решала узкая партийная верхушка, уходят в прошлое. Сегодня уже активно поговаривают об отмене шестой статьи, – отец снова нервно закачал ногой и стал почёсывать шелушащийся от псориаза локоть. – Если её отменят, то вся власть в стране снова перейдёт к Советам. Я даже знаешь, что думаю, – он заёрзал от волнения на табуретке, как будто собирался открыть Крапивину страшную тайну Золотого Ключика, – всё идёт к тому, что скоро разрешат частную собственность. Придёт что-то вроде второй волны НЭПа…
Крапивин знал, что отец слушал вражеские радиостанции. Садился в полной темноте на пол, обхватив руками колени, и внимал далёким голосам, перебиваемым эфирными хрипами и тревожной захлёбывающейся морзянкой. Ему казалось, что на «Голосе Америки» работают бездушные человекообразные роботы, о которых он читал в научно-фантастических рассказах. Набравшись заокеанской мудрости, отец потом частенько спорил с матерью, доказывая ей, что решение о вводе советских войск в Афганистан было ошибочным и преступным. Её возражения были по-хозяйски просты, и именно поэтому их было почти невозможно опровергнуть. Она считала, что нельзя было подпускать американцев слишком близко к нашим границам. «И что? И что будет?» – бессильно вопрошал он, приглаживая редеющие волосы, и ссылался на Сахарова.
Крапивин Сахарова не любил. Картавый старик с большой головой и внешностью гадкого утёнка казался ему вещью в себе, ходячим принципом на тонких ножках, которому на живых людей было наплевать. Неудивительно, что в спорах об афганской войне он поначалу был целиком на стороне матери. Но вскоре согласился с тем, что молодым советским парням с автоматами Калашникова нечего было делать в нищей горной стране. Сухие морщинистые горы, возникавшие в телерепортажах из Афганистана, казались платками, накинутыми на лица покойников. От них веяло смертью.
Постепенно, он всё больше убеждался, что и погрязшие в коррупции республики Средней Азии и Закавказья, висевшие балластом на шее Союза, им тоже не нужны. Толку от них не было никакого. Русских там презирали, а чуть чего, начинали бунтовать и всячески демонстрировали свой гонор.
Как-то Зося привела к ним на классный час энергичного лысоватого старичка в сером поношенном пиджаке, увешанном орденами. Она сказала: «Вы только послушайте, что творится. Ветерана Великой Отечественной войны, председателя местного общества «Память» выгнали из Грузии!» Старичок с возмущением стал рассказывать о том, что Советской Власти в Грузии нет, что грузины – нация лентяев и бездельников. «Когда они смотрят исторические фильмы про своих князей, то причмокивают от удовольствия. Так им, понимаете, хочется вернуть те времена…» Зося слушала его, стоя у стенки, строго присматривая за всеми и время от времени назидательно кивая. Крапивин тогда не знал, верить ему или нет. Уж больно фантастическим выглядел рассказ старого орденоносца. Но теперь думал, что, скорее всего, он говорил правду. Да и от тех, кто вернулся из армии, он слышал, что «дружбы народов» там давно никакой нет. Земляки старались кучковаться между собой.
– Вадим, ты меня не слушаешь?
– Слушаю.
– В конце двадцатых мы ошибочно свернули с пути многообразия форм собственности, поэтому у нас не получилось социализма с человеческим лицом. Если бы Ленин прожил дольше, то никакой войны не было бы. Я в этом уверен! Это Сталин разгромил Коминтерн и всё социал-демократическое движение в Европе…
Отец родился в Белоруссии в маленьком городке Дрисса (в русских летописях: «Дрись»), что во многом и определило всю его дальнейшую жизнь. Два его одногруппника по Минскому политехническому институту были уже вице-президентами Академии наук Белоруссии, а он пятнадцать лет ходил в одном и том же костюме со значком ВДНХ на лацкане и зелёном плаще в ведущих инженерах. Крапивин недоумевал, кого и куда он мог за собой вести? Отец часто вслух сожалел о том, что перестройка не началась на двадцать лет раньше, в 60-е, когда он ещё был молод и полон сил.
В 60-е Крапивина не существовало. У родителей была только его старшая сестра, которую они после пятого класса благополучно сплавили в художественный интернат. Тогда они, по рассказам матери, не вылезали из походов – Саяны, Печора, Байкал… Без матери отец ходил только на охоту. На чёрно-белых выцветших фотографиях тех лет он видел, довольного жизнью молодого мужчину с не сходящей с лица слегка дурашливой улыбкой и начинающим редеть, всклокоченным над головой пушком светлых волос.
Крапивин сильно сомневался, что если бы перестроечная оттепель случилась на двадцать лет раньше, то жизнь отца сложилась как-то иначе. То были всё пустые упования и мечты. Мать говорила, что несколько лет назад ему предлагали должность начальника отдела, но он отказался. Не хотел брать на себя ответственность, вступать в партию, отговариваясь тем, что считает себя недостойным, а теперь уверял, что с самого начала знал, что коммунистам верить нельзя.
Дав отцу вволю выговориться, Крапивин, наконец, смог уйти к себе. Он лёг на кровать и теперь буравил взглядом непроглядную темень. Из тараканьих щелей в полу тянуло влажноватым сквозняком. Его комната с жёстко прикрученной к потолку люстрой, следами бетонных оспин на стенах, которые не могли скрыть даже наклеенные внахлёст обои салатного цвета, больше напоминала склеп. Склеп, каземат, камеру, келью… куда он был заключён логарифмическими линейками для непрестанных умственных упражнений…
За несколько минут до полуночи он вдруг вспомнил о своём уговоре с Захаром. Резко вскочив с кровати, откинул одеяло и включил свет.
Балконные двери ударило друг о друга порывом ветра, задребезжало стекло. Крапивин подошёл к перилам и увидел над крышами кирпичных пятиэтажек среди однотонных серых туч яростно извивающееся красное полотнище. Со стороны казалось, что оно бьётся с каким-то невидимым врагом. Он мысленно прочертил под прямым углом воображаемую линию, упиравшуюся в сто третий дом по Проспекту, тот самый, в котором жил Захар. Ему показалось, что в эту секунду их взгляды сошлись в одной точке на древке флага. Постояв на бетонном полу ещё с минуту и озябнув, он тяжело ввалился обратно в комнату.
Из коридора доносился шум голосов, мать с отцом о чём-то громко спорили. Слов было не разобрать, но и без того было понятно, что они обсуждают дыру на рукаве его пальто.
7
«Я стоял на школьном крыльце и смотрел, как девочки на стадионе метают учебную гранату. Она взлетала, нелепо крутилась в воздухе и с тщетным тупым звуком шлёпалась на землю. Вдруг из подъезда ближайшего дома по улице Блюхера в поношенном вельветовом пиджаке вышел Иосиф Александрович Бродский, фотографию которого я видел в декабрьском номере журнала «Огонёк» за 1987 год. Пройдя с десяток шагов, он остановился, чтобы прикурить сигарету, и двинулся дальше. Чтобы не потерять его из виду, я бросился за угол школы…»
– Вы до конца дочитайте, Наталья Моисеевна, – попросил Крапивин.
Директриса Карданская сидела за столом среди селекторных телефонов в малиновом бархатном костюме с голубой косынкой на шее и смотрела в упор на Крапивина, разглядывавшего колышущуюся возле окна занавеску.
– Обязательно, Вадим. Как только будет чуть больше времени, непременно прочту до конца и сохраню для потомков, – пообещала она, убирая листок с объяснительной в красивую глянцевую папку.
– Прекрасная мысль, – похвалил он.
– Знаешь, я ведь тоже в молодости курила. Хотела быть похожей на Софью Захаровну, ты её знаешь, – вздохнула Карданская.
Крапивин знал Софью Захаровну – замечательного филолога, тонкого кинокритика и просто мировую тётку. Её дочь Марина училась на худграфе в одной группе с его старшей сестрой. Благодаря Софье Захаровне Крапивин имел возможность ходить по пригласительным билетам в кинотеатр «Победа» на фильмы Феллини и Тарковского.
– Как в театре? Репетируете? – поинтересовалась Наталья Моисеевна.
– Репетируем.
– На премьеру позовёте? Когда планируете?
– Это вы у Елены Леонидовны спросите, – поморщился он.
– А она сказала, что у тебя надо спрашивать, ты – главный режиссёр. – Карданская выжидающе улыбнулась, не выпуская из пальцев большую прозрачную ручку, внутри которой жила красная роза.
– Так и сказала?
– Так и сказала. Ладно. Звонили из РОНО. В честь 425-летия Шекспира планируется провести районный шекспировский вечер. Нам бы как-то поддержать силами нашего театра.
– Когда?
– В день рождения, 26 апреля.
– Так это ведь уже совсем скоро, – озабоченно потёр лоб Крапивин. – А они уверены, что Шекспир вообще существовал? Я читал, что…
– Вадим, я тоже читала, – перебила его Карданская. – Но поверь мне, что в РОНО на этот счёт нет никаких сомнений. Ну, так как, успеете?
Он пообещал, что они сделают всё, что в их силах.
На звонок из РОНО ему было откровенно наплевать. Но Карданскую подвести он не мог. Крапивин знал, что она приютила сменившую за три года три школы Ленку, что, если бы не она, не видать им отмены дневников и надоевшей школьной формы. Да и вообще Наталья Моисеевна – умная, прогрессивная женщина и ученица Софьи Захаровны.
Крапивин помнил, что у Ленки была готовая лекция о Шекспире, которую она могла прочитать наизусть в три часа ночи. На общем собрании труппы решили, что после того как она озвучит небольшую часть своего несравненного литературоведческого шедевра, каждый возьмёт по одному сонету в переводе Маршака, а в качестве иллюстрации шекспировской драматургии они дадут сцену на балконе из «Ромео и Джульетты» и сцену Гамлета с Гертрудой во второй редакции Пастернака.
Когда Захар натянул на две дорические колонны, подпирающие его задницу, нежно-голубые лосины, все присутствующие повалились в партер. Разговор, естественно, зашёл о балете. Крапивин поделился своими впечатлениями от знаменитого фильма-балета «Спартак» в постановке Григоровича. Все снова стали смотреть на новоиспечённого Ромео, больше похожего на незаконнорожденного сына Геракла. Крапивин попросил Захара пройтись по сцене и, когда тот, по-неандертальски сжимая кулаки, сделал несколько шагов, снова завалился набок от смеха. Для того чтобы привести публику в полный и окончательный восторг, Захар в своём новом обличье вышел в коридор. На его прогулку по первому этажу сбежалось посмотреть полшколы.
На следующий день в авральном режиме начали репетировать. Условный балкон соорудили из нескольких парт, на одной из которых в простом платье с открытыми рукавами поставили яркую жгучую татарку Айгуль Ишмакову. Ленка сказала, что внешне она – чистая итальянка. Ромео, заламывая руки, вздыхал о ней в небольшом отдалении среди воображаемых дерев.
Когда Джульетта произнесла: «Ромео, как мне жаль, что ты Ромео! Отринь отца и имя измени», – пришлось снова делать технический перерыв.
С Гамлетом и Гертрудой всё шло мучительно и сложно. Крапивин никак не мог нащупать роль. На смену грубоватым интонациям Высоцкого к нему приходила мягкая интеллигентская вкрадчивость Иннокентия Смоктуновского, которую тоже приходилось выжигать напалмом. К тому же Ленка всё время норовила притронуться к его волосам (в её представлении именно так королева-мать должна была успокаивать своего обезумевшего сына), его это бесило. В результате он сильно раздражался и быстро уставал.
А тут ещё, как назло, по телевизору в очередной раз показали знаменитый фильм Козинцева. Ленка, до дрожи в руках любившая Шостаковича, не смогла себе отказать в удовольствии посмотреть его ещё раз. Крапивину тоже нравились эти резкие, с промельком диссонанса аккорды, будто бы в омерзении отскакивающие от вещей, скрипки, пытающиеся перепилить позвоночник, встающие вечерней зарёй роковые апокалиптические трубы…
Он сидел на скрипучем стуле, пил кофе, заедая его чёрным хлебом со шпротами, а она с заговорщическим видом смотрела с кровати, поджав ноги и грызя кофейные зёрна.
Вы собираетесь играть на мне. Вы приписываете себе знанье моих клапанов. Вы уверены, что выжмите из меня голос моей тайны. Вы воображаете, будто все мои ноты снизу доверху вам открыты. А эта маленькая вещица нарочно приспособлена для игры, у неё чудный тон, и тем не менее вы не можете заставить её говорить. Что ж вы думаете, я хуже флейты? Объявите меня каким угодно инструментом, вы можете расстроить меня. Но играть на мне нельзя.
Если зажать рот флейте, если заткнуть все её отверстия, она взорвётся. Вселенная содрогнётся от нестерпимого кошмарного звука – вырвавшегося на волю предсмертного отчаяния тысячи мышей…
Ленка, вдруг сделав хитрое лицо, спросила Крапивина, сколько лет Гамлету.
– Тридцать, – не задумываясь, ответил он.
– Это выясняется в сцене с могильщиками, то есть в пятом акте, – мгновенно среагировала она. – Но в первом акте – ему не больше двадцати! Как это объяснить? Ошибка? Или вот ещё: оказавшись на кладбище, где только что похоронили его убиенного отца, он ведёт себя так, как будто ничего не произошло. Но тогда почему другие сцены буквально пропитаны его сыновней скорбью? Ошибка? Вряд ли. Создаётся впечатление, что мы имеем дело не с одним, а как минимум с двумя Гамлетами, находящимися в разных временах.
– И что всё это значит?
– Пока что я и сама не понимаю.
До шекспировского вечера оставалось буквально два дня, когда из него неожиданно вырвался свой собственный неповторимый Гамлет. Крапивин понял это по тому, что у него внезапно пропала необходимость конструировать интонацию, сначала думать, а потом говорить. В театре это называлось: «исполниться святого духа». Он вдруг почувствовал на себе, что это такое. У него было полное ощущение, что, произнося текст Пастернака, он изъясняется своими словами.
В назначенный день Ленка сказала, чтобы гримёр Поскрякова нанесла ему на веки коричневые тени и сделала в уголках глаз маленькие чёрные стрелки.
– Это ещё зачем? – возмутился Крапивин.
– Догадайся с трёх раз. Чтобы хоть что-нибудь было видно на фотографиях. Будем работать при свечах, поэтому фотографировать получится только со вспышкой, – объяснила она.
Он сидел в свитере, похожем на средневековую кольчугу, на стуле с низенькой спинкой и расползающимися паучьими ногами, препоясанный широким кожаным ремнём, к которому была приторочена шпага. Поскрякова, подходившая к нему с разных сторон, сосредоточенно заглядывая в его лицо сверху, снизу, сбоку, прося, чтобы он не вертелся. Можно было подумать, что она наносила не лёгкий сценический макияж, а накладывала на него полноценный грим Квазимодо. Он видел капельку слюны, застывшую у неё на зубах, и мог пересчитать все её веснушки. Она, по-видимому, тоже вспотела, потому что Крапивин стал ощущать запах её подмышек. Когда она закончила, он взглянул в зеркало и увидел слегка уставшего от жизни Вячеслава Бутусова.
Концепция чтения сонетов пришла к нему во сне. Крапивин увидел стоящий на сцене стол с бронзовым подсвечником, на столе лежала толстая раскрытая книга, за которой на заднем плане маячил портрет Шекспира, тот самый, который висел на стене в комнате у Ленки. Фоном звучала старинная лютневая музыка. Они по очереди садились за стол и читали сонеты. Ещё до того как проснулся, он понял, в чём была главная идея. Соприкосновение человека с книгой получалось трепетным и мимолётным. Никакой позы, никакой горделивой стойки. Один читал и уходил, на его место садился другой, а книга оставалась лежать на столе, пребывая в символической вечности. В промежутках музыка становилась громче, а потом снова затихала, уступая место слову.
«Её глаза на звёзды не похожи, Нельзя уста кораллами назвать…»
Захар сидел за столом, как на толчке, мялся, сгибался, облокачивался, но выдал такую проникновенную интонацию, что, заслушавшись сто тридцатым сонетом в его исполнении, Крапивин чуть не пропустил свой выход на сцену. Внутреннее чутьё подсказало ему, что он должен сработать на контрасте, встряхнуть публику, качнуть слушателя в другую сторону. Он выпрямил спину и, почти не заглядывая в книгу, начал с решительностью Маяковского:
«Мне показалось, что была зима, Когда тебя не видел я, мой друг, Какой мороз стоял, какая тьма, Какой пустой декабрь царил вокруг!»
Когда пришло время Гертруды, Ленка появилась из-за кулис в белом платье с жёстким стоячим воротником. Её волосы были собраны десятком хитроумных заколок. В своём наряде она напоминала Снежную Королеву. Он заметил, что, глядя на него, она почему-то странно ухмылялась, хотя по сюжету должна была испытывать нешуточную тревогу. Крапивин подумал, что, если она снова вздумает по-матерински прикоснуться к нему, он выхватит шпагу и заколет её прямо на глазах у изумлённой публики. Но она, видимо почувствовав опасность, предусмотрительно держалась от него поодаль. В результате, произнося обличительный отрывок: «Вот два изображенья: вот и вот. На этих двух портретах – лица братьев», Крапивин вылил на неё всю чёрную желчь, скопившуюся в нём за последние месяцы. Он понял, что практически ненавидит её.
Когда всё закончилось, Ленка выглядела измученной, но довольной. На поклонах Крапивин сам взял её за руку и почувствовал, что она мертвенно холодна. Он подумал, что она может вот-вот грохнуться, и во избежание ненужного драматического эффекта быстро увёл её со сцены.
8
О её приступах он узнал поздней осенью, в ноябре, в один из дней, какие бывают в году особенно короткими и мрачными, когда тусклый дневной свет, не находя свежевыпавшего снега, целиком поглощается внутренней темнотой дворов, становясь пищей самого беспросветного одиночества.
Они о чём-то разговаривали, и Ленкин взгляд стал вдруг рассеянным, а её и без того тёмные глаза покрылись густым ассирийским мраком. Она замолчала, сделала несколько мелких шагов вдоль стены, протягивая перед собой руку, будто пробиралась наощупь, а потом рухнула на пол. Её голова безвольно мотнулась, как у тряпичной куклы. Крапивин бросился к ней, нащупывая пульс в сонной артерии, и, убедившись, что она дышит, стал несмело хлестать её по щекам. К счастью, при падении она не повредилась, а отключка длилась не больше минуты.
– Мог бы воспользоваться ситуацией и сделать мне искусственное дыхание.
– Знаешь, как-то не пришло в голову, – оторопело выговорил он, помогая ей подняться.
– Испугался?
– Немного. Что с тобой?
Она показала ему булавку, которую всегда носила с собой для того, чтобы колоть себя в ладонь в случае приближении приступа. Но это не всегда помогало.
– Ладно, так уж и быть, расскажу, – сказала она, закусывая губу и театрально вскидывая голову.
Они стояли за столиком в кафе «Минутка», куда она привела его снять стресс вкусными пельменями.
– Помнишь, я говорила, что после музыкального училища работала по распределению в Архангельском районе? Обстановочка там была та ещё, с тоски можно повеситься. Ну, вот я и попробовала.
– Повеситься? – не поверил Крапивин. – И как?
– Как видишь, не получилось. Живая. Муж из петли вытащил.
– Ты была замужем? – ещё больше удивился он.
– Была, меньше года. Выскочила за одного местного механизатора, другого выхода не было. А когда решила сбежать, он сказал, что убьёт меня, пристрелит из своего охотничьего ружья, – Ленка выдвинула вперёд нижнюю челюсть, как делала это, когда говорила о чём-то мерзком или крайне неприятном.
– Весёлая история, – заметил Крапивин.
Он не мог представить, о чём она могла разговаривать с неотесанным сельским механизатором, не мог увидеть её в грубых мужицких объятьях.
– Не весёлая, а висельная, – поправила она.
– Он тебя отпустил?
– В районе был большой скандал. Ко мне в больницу приезжал прокурор, после чего нас моментально развели. Мне ещё два года оставалось в местной музыкальной школе отработать, но районное начальство решило, что лучше от греха подальше отправить эту шарахнутую обратно в город, – она одобрительно погладила себя по голове.
А ведь точно, «шарахнутую», подумал Крапивин.
– Я ведь и падать после этого начала. Ладно, проехали. Миша Разуваев неплохим человеком был, если бы ещё не пил по-чёрному…
– Почему был? Его что, нет?
Она снова бросила на него стремительный сценический взгляд.
– Через полгода после развода выстрелил себе в грудь из той же двустволки, из которой хотел пристрелить меня.
– Тоже мне Хемингуэй. А ты откуда знаешь?
– Вести с полей. Директриса местной музыкальной школы, старая сводня, позвонила по телефону, сообщила.
Крапивин несколько секунд, тщательно пережёвывая пельмени, всматривался в её лицо, пытаясь угадать, могло ли всё это быть правдой.
– Да ты роковая женщина. Просто какие-то шекспировские страсти! – наконец, выговорил он.
– А ты как думал, – подтвердила Ленка.
– Ты лечиться пробовала?
– Лечиться? – на её лице снова появилась брезгливая ухмылка. – Когда я вернулась в город, меня упрятали в психушку.
– Зачем?
– Ты просто не в курсе, Вадим. Если была попытка суицида, это уже автоматически считается психическим отклонением. Всех неудавшихся самоубийц ставят на учёт и берут под наблюдение. А тут ещё родная матушка постаралась, удружила…
– И как ты там?
– Мозгой всех забила, – снова развеселилась Ленка. – Говорю заведующему отделением: «Дайте мне справочник по психиатрии, и я через неделю докажу, что вы сумасшедший».
– А он?
– Умный попался мужик, месяц подержал и выпустил. Раньше, когда церебролизин через знакомых доставали, было полегче. Потом Пашка Спектр из больницы уволился, канал накрылся… Ладно, ты не переживай, – сказала она, обнадёживающе взглянув на Крапивина. – Ждать осталось недолго, придёт зима, и всё нормализуется, пройдёт само собой.
Всю зиму она действительно чувствовала себя превосходно, твёрдо стояла на ногах и заманивала его на многокилометровые прогулки по морозным черниковским улицам, с которых возвращалась румяная и счастливая, а он – промёрзший до костей. Несмотря на слабое здоровье, Ленка никогда не мёрзла и не уставала, запросто могла протопать с десяток километров, попутно рассказывая обо всём, что видела вокруг.
Лишь иногда в хорошо натопленной комнате её вдруг начинал бить озноб. Она забиралась на кровать, под свою любимую чёрную шкуру, и оттуда глядела затравленным зверьком, не понимающим, как он здесь оказался и что вообще происходит. К счастью, это длилось недолго.
На старый Новый год она рассказала ему о Викторе, мужчине с тяжёлым гипнотическим взглядом с чёрно-белой фотографии, стоящей под стеклом в книжном шкафу.
– Мне ещё не было шестнадцати, когда я решила сбежать из дома. Квартирка у нас была тогда не то что сейчас, впятером ютились в двух комнатах коммуналки. В одной – мы с Наташей, в другой – мать, бабушка и отец. – Ленка покачала головой, давая понять, как она с ними со всеми намучалась. – Вот я после восьмого класса и сорвалась ко всем чертям, поехала в Москву поступать в музпед.
Крапивин никогда не слышал о таком учебном заведении.
– В музыкально-педагогическое училище. Есть там такое, в Лефортово, недалеко от Курского вокзала. Мать позвонила Виктору, попросила, чтобы он меня встретил. – Она мечтательно вздохнула. – Ну, он и встретил.
– Что? – заулыбался Крапивин.
– Сказал, нечего тебе в общежитии делать при живом дяде. Увёз к себе в Павловский Посад. Я потом узнала, что он специально ради меня взял отпуск в июле. Мы каждый день ездили в Москву, гуляли в Столешниках, на Патриарших. Он показывал мне такие места в центре, где можно долго идти по улице и не встретить ни одного человека. И всё рассказывал, рассказывал…
– В общем, ты в него влюбилась, – догадался Крапивин.
– Влюбилась? Если бы он мне сказал утопиться в Москве-реке, я бы, не раздумывая, это сделала. Ты пойми, я вернулась от него совершенно другим человеком. Всё, что я люблю теперь – книги, кофе, театр… это всё от Виктора.
Она выдержала небольшую паузу.
– В музпед я не поступила. Не прошла по конкурсу. У меня не было московской прописки, а общежитие в тот год закрыли на капремонт. Поэтому у иногородних не было шансов. Виктор хотел прописать меня у себя в Павловском Посаде, не Москва, но всё-таки область. С этого момента его жёнушка меня люто невзлюбила.
– Да, небось, раньше, – ехидно заметил Крапивин. – Почуяла, чем пахнет.
– А чем пахло? У меня с ним ничего не было, – сделала честное лицо Ленка.
– Он бы только и делал, что всё внимание уделял тебе. У него дети есть?
– Есть, сын Валерка, мой двоюродный брат.
– Ты виделась с ним после этого?
– Виделась два раза, – вновь впадая в мрачность, сказала она. – Я каждое лето старалась приехать в Москву. Но она, узнав об этом, всячески прятала его от меня, то в доме отдыха, то на даче, то увозила по путёвке в Крым.
– А как она узнавала, что ты приедешь? – удивился Крапивин.
– Очень просто. Моя родная маменька звонила ей по телефону, докладывала.
Теперь он начал понимать причину её более чем прохладных отношений с матерью. Мать заговаривала с ней в случае крайней необходимости, и в её голосе слышалось усталое равнодушие, какое иногда возникает в разговорах с пропащими родственникам, на которых все давно махнули рукой. Ленка отвечала ей иронично или односложно. Отца и бабушку она любила. К Наташе испытывала тёплые сестринские чувства, а свою мать считала предательницей.
9
– А у тебя что с личной жизнью? – поинтересовалась Ленка. – Поправь меня, если я ошибаюсь, Вадим, мне кажется, что у тебя никого нет.
– Нет, – подтвердил Крапивин.
– Презираешь женщин?
– С чего ты взяла? – фыркнул он.
Ленка засмеялась.
– Ты даже побледнел. Говори откровенно, не бойся, я пойму.
– Да, я и сам не до конца понимаю.
С женщинами у Крапивина действительно всё складывалось непросто. Единственную женщину, с которой ему было хорошо и легко, он встретил в подготовительной группе детского сада. По сравнению с тем все последующие контакты выглядели вымученными и искусственными. Он часто не знал, с какой стороны к ним подойти, о чём заговорить, в какой момент и за что взяться… Иногда бывал отпугивающе резок, иногда отталкивающе стеснителен. Ощущая в себе способность к большому сильному чувству, решительно не знал, куда его приложить, и поэтому казался себе Архимедом, у которого имелся рычаг способный перевернуть Землю, но не было точки опоры.
В музыкальной школе ему нравилась аккордеонистка Олечка Дерюга – красавица с длинной косой до попы. Крапивин регулярно пересекался с ней вечерами по вторникам и четвергам. Они едва здоровались и почти никогда не разговаривали. Олечка вела себя с ним слегка надменно, возможно потому, что была на год старше. Даже в её фамилии ему слышалось что-то зверское, пока он не узнал, что дерюга – это вид простой грубой ткани.
Глядя на Олечкину точёную фигуру, он думал, что Галактионов, этот библейский Зверь с руками заводского рабочего, наверняка неслучайно ставил ей занятия на самый поздний и беспросветный час. Блуждая в архитектурных внутренностях старого купеческого дома, построенного ещё до Революции в 1911 году, с его бесчисленными переходами, лестницами и тянущимися вдоль стен влажными трубами парового отопления, на которых испариной выступали крупные водяные капли, Крапивин представлял её голой с распущенными волосами, исполняющей на перламутровом аккордеоне «Либертанго» Астора Пьяццоллы. (Из одежды его воображение оставляло на ней только высокие зимние сапоги.)
Когда они стали репетировать дуэт, он помогал ей поднести до остановки аккордеон, а один раз на перекрёстке поцеловал, после чего Олечка посмотрела на него с такой снисходительностью, что он две следующие репетиции с ней не разговаривал.
Потом он увлёкся соседкой по парте Катей Протасовой. На одной из вечеринок, выпив водки и запершись с ней в комнате, он тупо мял её маленькие, тёплые, как воробушки, груди, бессмысленно повторяя и переиначивая на все лады её имя. Из зала доносились звуки какой-то дрянной попсы и пьяные крики одноклассников. Он положил Катю на кровать, она закрыла лицо руками и уткнулась в подушку, как будто он её уже обесчестил, а не раздумывал, что в этой глупейшей ситуации делать дальше. К счастью, хозяйка квартиры стала барабанить в дверь и требовать, чтобы он открыл. Крапивин открыл. Светке казалось, что она уберегла Катю, но на самом деле спасла его.
Через неделю на школьной дискотеке Катя сама напросилась покурить с ним в пионерскую комнату (у него, как у секретаря комсомольской организации, был ключ). Они стояли у раскрытого окна друг напротив друга, как два маяка, светя в темноте красными огоньками. За умолкнувшими барабанами и притихшими горнами лукаво щурился гипсовый Ильич. Но теперь Крапивин уже сознательно не проявлял инициативы и не притрагивался к Кате, хотя наверняка знал, что она пришла сюда именно за этим. Он даже находил определённое удовольствие в том, чтобы обманывать её ожидания, так как считал, что она повела себя как полная идиотка.
По-настоящему большое и светлое чувство засветилось в нём, когда он увидел Люду. Она переехала из другого района и стала учиться в их школе, в классе на два года младше.
Для того чтобы лишний раз увидеть её, он нарочно носился по школе, изображая кипучую деятельность. Встретившись с ним взглядом в коридоре или на лестнице, Люда слегка улыбалась или смущённо опускала свои голубые лисьи глаза. Он не мог решить, что сводило с ума его больше. Как-то он решил проследить за ней после уроков, чтобы выяснить, где она живёт. Оказалось, что Люда жила недалеко от него, в доме, весь первый этаж которого занимал магазин «Прогресс». Крапивин часто заглядывал туда купить сигарет или выпить молочного коктейля.
Узнав номер её телефона, он, собравшись с духом, позвонил ей однажды вечером и почти час, сидя на холодном полу в своей комнате, говорил о литературе, музыке, театре, кино… Но чем дольше они общались, тем больше он убеждался в том, что Люда непроходимо глупа.
Крапивину хотелось думать, что она небезнадёжна, что он сможет быстро подтянуть её культурный уровень. Для начала пригласил её на региональный рок-фестиваль, на который должны были приехать группы знаменитого свердловского рок-клуба.
– А где он будет проходить?
– В ДК Машиностроителей.
– В «Машинке»? Это же очень далеко. Меня мама туда так поздно не отпустит.
– Хочешь, я поговорю с ней? – предложил он.
В подъезде пахло унынием и кошачьей мочой. На узких подоконниках стояли банки с окурками. Крапивин не представлял, как его ангел каждый день ходит по этим мрачным, плохо освещённым лестницам с бросающимися в глаза похабными надписями на стенах.
Её мать оказалась чем-то похожей на его собственную. Сначала она заявила твёрдое категорическое «нет», а потом стала подробно выспрашивать, кто он, где живёт и кто ещё, кроме них, собирается поехать «на концерт». Крапивин понял, что Татьяна Николаевна просто набивает цену положительному решению вопроса. Так оно и вышло. Всё кончилось тем, что она, несколько раз повторив, как заклинание, что Люда у неё единственная дочь и что он теперь несёт за неё полную ответственность, дала разрешение. Крапивин ушёл от неё с чувством, что Татьяна Николаевна за пятнадцать минут умудрилась передать ему родительские права на Люду, а сама умыла руки.
– Она всегда так делает, – подтвердила Люда. – Как будто заботится, беспокоится обо мне, а на самом деле ищет, на кого бы спихнуть. Хочешь семечек?
Вместе с ней поехала рыжеволосая подруга Наташа, а он взял с собой за компанию своего школьного товарища Равиля Хакимова. Концерт оказался ужасным. Крапивину в какой-то момент даже стало стыдно за то, что он всех сюда притащил. Мало того что звук был отвратительным, так ещё из Свердловска приехали одни отмороженные панки. Можно было подумать, что музыкантов большинства групп набирали из заключённых колоний и пациентов психиатрических больниц.
Худощавый, по пояс голый парень вышел на сцену с водочной бутылкой и, разбив её о свою лысую голову, стал розочкой вырезать на груди пятиконечную звезду. Микрофон захлёбывался матерной бранью. Потекла кровь. Из-за сцены выбежали несколько человек и быстро увели его за кулисы, видимо, тоже сообразив, что это уже перебор.
Зал негодовал. Успокоить его удалось только лирическим медляком «Я не люблю свою страну» в исполнении местной группы «Кислотный четверг». Над головами зажглись сотни блуждающих огоньков. Крапивин отдал свою зажигалку Люде, а Равиль поделился коробком спичек с Наташей. Баллада зашла прямым уколом в сердце. Все понимали, что страну, в которой они жили, любить было не за что, но другой ни у кого не было. И это чем-то напоминало несчастную юношескую любовь. Людины глаза блестели, а на лице застыла восхищённая ангельская улыбка. Ей было хорошо, и это вселяло в Крапивина надежду.
Он уже строил планы на будущее, не подозревая, какую коварную подножку готовит ему судьба. Через месяц Татьяна Николаевна в очередной раз вышла замуж, и они с Людой переехали в другой конец города. Крапивин пару раз наведывался к ним на новую квартиру, но Люда уже жила совсем другой, малопонятной ему жизнью и разговаривала с ним как с далёким воспоминанием, думая всё время о чём-то своём. Штурмовать ледяную крепость было бессмысленно. Так что и в этот раз у него ничего не вышло.
– Тебе просто не попадались умные, – вынесла свой вердикт Ленка.
– Где ж их взять…
Она пообещала, что исполнит любое его желание, всё, о чём он попросит. «Вообще, всё?» – удивился Крапивин. «Вообще», – подтвердила она, энергично зажмуривая глаза.
– С чего это вдруг?
– Чтобы ты не сомневался.
Настоящего секса у него ещё не было, и он, конечно, первым делом подумал об этом.
Благоухая сиреневыми духами, она с покорной улыбкой гаремной наложницы ждала, что он скажет. Но Крапивин ни о чём таком просить её не стал, одновременно постеснявшись и испугавшись, что это может навредить их трепетной дружбе. Со стороны это было слишком похоже на жалость. Сказав, что ему необходимо подумать, он быстро засобирался и уехал, оставив её одну среди оплывших свечей и немытой посуды.
На следующий день он за это себя винил, вспоминая вчерашний бесшумный снег, ложащийся в ранних зимних сумерках во впадины тишины, вкрадчивые тени, загадочно скрещивающиеся на стене, трагедию Фауста, в полный рост стоящую в дверном проёме… Маленький коричневый ящичек, лежавший на кровати, пел на англо-французском «Мишель», отчего сладко щемило сердце и сворачивались в клубок дверные пружины. Он был готов поклясться, что раньше ничего подобного не испытывал, и ему снова хотелось вернуться туда, но, как это сделать, он не знал.
Бессмысленно постояв несколько минут возле книжного шкафа, он присел за стол, пробуя занять себя делами. Нарочито медленно разложил перед собой небольшие белые брошюрки, отпечатанные в типографии занудных очкариков в третьем синхрофазотронном переулке, раскрыл тетрадь в клетку с зелёной обложкой, решив, что поработает с заданиями, присланными из заочной школы при МФТИ.
С некоторых пор его мечтой был Физтех. Он стремился туда и иногда представлял себе просторную многоярусную аудиторию, в которой он сидел на лекции ведущего программы «Очевидное – невероятное» Сергея Петровича Капицы. Крапивин отчётливо видел его полубезумный взгляд, взлохмаченную причёску и слышал высокий голос с характерным мягким говорком. Он всё ещё верил в физику как в своё призвание, но где-то в глубине души уже начинал догадываться, что его вера абсурдна.
Минут через десять подскочил со стула как ужаленный и, руша все планы на выходные, снова, сломя голову, понёсся к ней.
Но Ленки, как назло, не было дома.
10
Иногда ему казалось, что жизнь расползается по швам. Школа, занятия физикой, спорт, комскомитет, театр, музыка… всего было слишком много. На всё его не хватало. Выходя из дома ранним утром, ещё затемно, он возвращался часов в десять-одиннадцать вечера, объездив за день полгорода и падая от усталости. Закрывая глаза, он видел мёртвых женщин, глядящих из витрины фотографического салона в лубяную пустоту трамваев. В его ушах звенела распавшаяся на первоэлементы музыка, несущаяся вниз по гигантской лестнице, покрывавшейся, как плесенью, пиликаньем гамм; потом к носу подступал отчётливый резиновый запах старых баскетбольных мячей. На то, чтобы что-то переварить, побыть наедине с самим собой, не было ни времени, ни сил. А следующий день должен был снова начинаться ровно в семь обязательной утренней зарядкой.
Сначала он только иногда, в редких случаях позволял себе пропускать тренировки, но теперь они с Захаром всё чаще с наслаждением прогуливали их на пару, как бы поддерживая друг в друге решимость противостоять однажды заведённому порядку и право распоряжаться собственной свободой.
В один из дней Ленка сказала, что к ней в школу для разговора приходил Борисыч.
– Почему к тебе? – не понял Крапивин.
– Видимо, ему доложили, где ты пропадаешь, – предположила она.
– Я много где пропадаю.
– Вадим, это обычная учительская ревность, – Ленка трагически улыбнулась. Когда она так улыбалась, на её лицо мгновенно ложилась крылатая тень летучей мыши.
– И чего он от тебя хотел?
– Сказал, что просто хочет посмотреть на того, кто увёл его учеников.
– Так и сказал: «увёл моих учеников»? – не поверил Крапивин.
– Так и сказал. Вадим, ты не понимаешь, любой учитель или тренер…
– А ты?
– Я сказала, что никого никуда не уводила. Тренировки в спортшколе проходят днём, а наша театральная студия собирается по вечерам. Так что по времени мы никак не пересекаемся. В общем, я мягко намекнула ему, что, возможно, причину следует искать не во мне, а в ваших с ним взаимоотношениях. Видимо, там что-то пошло не так.
– А он? – продолжил настаивать Крапивин.
– Ему было неприятно это слышать, но спорить он не стал.
– В общем, ты ловко ушла от ответственности.
– Можно вопрос? Я не права?
– Да нет, я же говорю, всё складно, не придерёшься. Тренировки – днём, театр – вечером. Они – ребята взрослые, сами принимают решения, – стал ёрничать Крапивин.
– Значит, по-твоему, я во всём виновата? – обиделась Ленка.
Она стала подыскивать, чем бы запустить в него.
– Конечно ты, кто же ещё? Борисыч всё правильно понял, если бы не ты, мы бы до сих пор были пай-мальчиками.
Ленка бросила в него найденной на столе шоколадной конфетой. Крапивин ловко поймал её и отправил себе в рот.
– Ты прекрасно знаешь, что я никогда не отговаривала тебя от занятий спортом, – сказала она, что-то поправляя в своих волосах.
– Не отговаривала, – согласился Крапивин, оставляя шутливый тон. – Просто так получилось. Нам захотелось чего-то другого.
Он стоял молча и скрёб ногтем парту, вспоминая как ещё недавно в раздевалке белой, похожей на обувную коробку спортшколы у него тряслись руки и всё тело колотило мелкой дрожью. Оказываясь в периметре баскетбольной площадки, он забывал обо всём, существуя словно бы в затяжном прыжке между двумя прозрачными щитами из оргстекла. Теперь это ощущение куда-то ушло, исчезло. Его волновало другое. Он стал много читать, начал писать стихи, открыл для себя американское кино, русский рок, научился играть на гитаре… Он просто не мог игнорировать всего изобилия жизни, которая теперь, как ему казалось, сочилась из пор всех вещей.
– И чем закончился ваш педагогический диспут?
– Борисыч сказал, что прекрасно понимает, на что вы купились. Только однажды жизнь треснет вас обухом по голове, и вы опомнитесь, но будет уже поздно. А ответственность за это будет лежать на мне.
– Вот они – педагоги! – вновь развеселился Крапивин. – Лишь бы свалить друг на друга всю вину.
Борисыч пришёл к ним в пятую школу весной восемьдесят четвёртого набирать высоких ребят для своей будущей команды. Молодой, бородатый, энергичный, он предстал перед шеренгой учеников в настоящем костюме Adidas и фирменных полосатых кроссовках, уже одним этим вызвав к себе уважение. Окончив московский институт физкультуры, он тогда только-только вернулся в город, полный далеко идущих честолюбивых планов. «Вы пока что совсем сырые и деревянные, но я сделаю из вас полноценную команду мастеров». Они ему поверили. Крапивина как одного из самых рослых вместе с ещё несколькими ребятами он пригласил в спортшколу. А в ноябре того же года повёз наспех сколоченную команду на Всероссийский фестиваль по мини-баскетболу в Москву.
Серая, дымчатая Москва с её широченными улицами и громоздкими зданиями была вся покрыта инеем. В ноябрьском цепенящем холоде дымили трубы, скрежетали вагоны метро. Перед лицами зябнувших прохожих клубился пар. Они, как азиатские кочевники, впервые столкнувшиеся с благами цивилизации, набрасывались на киоски с мороженым. Не обращая внимания на собачий холод, ели прямо на улице, возле павильонов ВДНХ, жадно обсасывая плоские деревянные палочки и ещё по нескольку штук унося с собой в гостиницу. Там, в тепле, на мягких диванах холла, можно было, не торопясь, насладиться «Эскимо», «Пломбиром» и «Лакомкой», запивая их бурно пенящейся «Пепси-колой».
– Вадим, Васильев сказал, что ты не сдал деньги на экспериментальные кеды, – Борисыч стоял в дверях, опершись плечом на косяк.
– Не сдал.
– Ну, так сдай. Он собирает. Можешь мне сейчас отдать, я через полчаса поеду на базу.
– Мне не нужны экспериментальные кеды, – выдавил через силу Крапивин.
Борисыч звякнул связкой ключей. Убрал её в карман, застегнул молнию и вошёл в номер. Его лицо просияло нескрываемым интересом.
– Почему не нужны?
– Ну, так, не нужны и всё. Я и в обычных кедах не хуже сыграю, – пообещал Крапивин.
– Подожди, я со всеми вашими родителями договорился, чтобы они дали вам деньги на «эксперименты». Тебе дали?
– Дали.
– Мы решили, что купим их для всей команды. Так?
– Решили. Пусть все покупают, а я передумал, – упрямо повторил Крапивин.
Борисыч беззвучно выругался.
– Тебе денег жалко? Или ты их на что-то потратил?
– Потратил.
– На что?
– Да, какая уже разница, – Крапивин досадливо отвернулся к окну.
Борисыч сделал несколько коротких движений, будто собирался бежать, но не знал в какую сторону.
– Да нет, теперь мне уже просто интересно, каким чёртом тебя попутало, – сказал он.
– Никаким не попутало. Я купил книги.
– Книги?
– Да.
– Какие книги?
Крапивин полез в сумку и предъявил ему четыре внушительных тома, которые приобрёл накануне в ближайшем книжном.
– Исторические романы любишь? – спросил он, быстро просмотрев обложки.
– Люблю.
По правде говоря, Крапивин к тому времени прочитал только два исторических романа – «Пётра Первого» Алексея Толстого, со старыми пожелтевшими страницами, и «Хана Батыя» Владимира Янцевецкого. Но они ему действительно понравились.
– Книги – это хорошо, Вадим. Но ты понимаешь, что подвёл всю команду?
Крапивина передёрнуло от возмущения.
– Да как я подвёл всю команду?! Пусть все остальные покупают. А я просто не хочу.
Борисыч присел на противоположную кровать.
– Э, нет, Вадим, ты не прав. Что значит – все остальные? Ты отделяешь себя от коллектива? Команда – это единый организм. Или все, или никто. Раз ты решил, что тебе не нужно, значит, «экспериментов» не будет ни у кого. Все будут играть в дурацких советских кедах, – заключил он.
Крапивину захотелось расплакаться.
– Ну, Игорь Борисович, я же не знал, что так будет. Я не думал, что всех подведу, просто хотел купить книги, и всё.
– Теперь будешь знать. На всю оставшуюся жизнь, – подвёл итог их разговору Борисыч.
– И чем всё закончилось? – щурясь, спросила Ленка.
– Он сказал, что на базе не было нужных размеров, и всем вернул деньги.
– Хорошо хоть так, – оценила его находчивость она.
– Так-то он мужик классный, – отозвался Крапивин, выбрасывая одуванчиковый стебель в траву. – Но фанатик.
Он вспомнил, как Борисыч позапрошлым летом бросился с разомлевшего волгоградского пляжа в воду, чтобы спасти парня, которого Волга не хотела отпускать из своих объятий. Какой-то мужчина в красных плавках, отдав жене очки, побежал на лодочную станцию. Все остальные наблюдали за происходящим со стороны. После того как Борисычу удалось вытянуть пацана с того света, сделав на берегу искусственное дыхание, ему самому пришлось вызывать скорую. Он сидел с бледно-серым лицом, пытаясь нащупать рукой, своё бешено колотившееся сердце. В нём не было тревоги, он выглядел как человек, которому было что сказать смерти. Вдалеке, в лучах зенитного солнца выщерблинами окон зияла старая мельница, над которой по выжженному небу плыло единственное мизерное облачко. Из градусников на раскалённый асфальт выплёскивалась ртуть. К счастью, тогда всё обошлось.
11
Съехав с пригорка, ПАЗик остановился возле высокой ивы. Водитель открыл дверь, стянув с головы кепку, зевнул: «Приехали». Все начали выгружаться. Ленка, прыгнув на землю с последней ступеньки, засмеялась: «Баба с возу – кобыле легче».
Крапивин, оставив на траве чёрную туристическую сумку и гитару, направился к воде. В двадцати шагах стремительно текла гладкая зеленоватая Дёма. Судя по торчащим на середине реки корягам, здесь было неглубоко.
– Берег хороший, песчаный, – похвалил Ильнур, подойдя сзади и встав рядом с Крапивиным. – Чем-то похоже на западную Украину или Молдавию, – он бросил небольшую ветку в воду, которую река подхватила и быстро понесла за поворот.
– Купался там?
– Купался, чего не купаться. И в Днепре, и в Днестре, и в Западном Буге.
Ильнур Галимов появился в их классе в прошлом году. Его отец, подполковник ракетных войск, выйдя в отставку, вернулся с семьёй в родной город. Сколько Ильнур себя помнил, семья переезжала с места на место, мотаясь по приграничным гарнизонам всего Советского Союза. Последние три года его отец служил во Львове, в войсках ПВО Прикарпатского военного округа. Вернувшись оттуда, Ильнур свободно говорил по-украински, развлекая одноклассников шустрой западенской речью, и много рассказывал про тамошнюю жизнь. Люди там совсем другие, говорил он, человека можно калёным железом пытать, он про своего соседа ничего не расскажет. Каждый – сам по себе. Некоторые до сих пор в лесах делают схроны. Рассказывал, что русских там боятся и не любят, а к татарам относятся хорошо. Он быстро влился в их небольшой театральный коллектив и теперь весьма успешно дублировал Захара в роли Гая Монтэга.
Выезд на природу всей труппой приурочили ко дню рождения Жени Рысиной. Её мать, Нелли Семёновна, взялась обеспечить их автобусом и провизией. Место, недалеко от турбазы, тоже выбирала она.
– Мясо поручим делать Захару, потому что он мясник, – сказал Крапивин, посмотрев на Ленку, придерживавшую рукой широкополую шляпу, чтобы её не унесло ветром.
– Не наговаривай, пожалуйста, на Сашеньку. Он не мясник. Просто по фактуре ему приготовление шашлыка подходит больше всего, – согласилась она.
– Причём здесь фактура? Тут надобно уменье. Меня, например, узбеки в Фергане учили готовить мясо, – объявил невысокий, но крепко сбитый в пропорциях витрувианского человека Ильнур.
– Узбеки свинину не едят, – вспомнила Ленка.
– Какая разница. Шашлык – он и в Африке шашлык. Сделаю – пальчики оближите.
– У нас и свинины, и говядины полно, пусть оба делают, Елена Леонидовна. Когда мужчины готовят, на это всегда приятно посмотреть, правда, Женя? – нашла соломоново решение Нелли Семёновна.
Рысина, в молитвенной позе на коленях выкладывавшая посуду на скатерть, ответила матери тихой понимающей улыбкой.
– Да. Устроим соревнование двух Монтэгов. И посмотрим, у кого лучше получится, – предложил Крапивин.
Ленке его идея понравилась. Она стала звать Захара, который, как медведь, копошился в траве, выискивая ягоды.
Спустившись с пригорка, он сказал, что может приготовить мясо по-неандертальски, но для этого ему понадобятся грибы, майонез и немного французского столового вина.
– У неандертальцев не было майонеза! – засмеялась Ленка.
– Ты просто не знаешь. Они его изобрели.
– Мальчики, я, кажется, спички забыла! Представляете? Всё взяла. А спички… Да как же это… У кого-нибудь есть зажигалка? – сокрушалась Нелли Семёновна, выворачивала наизнанку свою сумку.
– С зажигалкой любой дурак сможет. Я вам сейчас от солнца олимпийский огонь зажгу, – Ильнур полез в свой походный рюкзак и достал из кармана небольшую крепенькую лупу: – Видали?
– Один ноль в пользу Галиева, – крикнула Ленка, когда он, наведя фокус, подпалил кусок старой газеты, обложенной берестой.
– Сын командира нигде не пропадёт, – сказал Ильнур и, довольно щурясь, стал подкладывать в костёр мелко наструганные щепки. – Мне и трением добывать огонь приходилось, – как бы между прочим сообщил он.
– А ты, Саш, умеешь трением добывать огонь? – спросила подошедшая к Захару Лена Анциферова.
– Трением… – фыркнул он. – Я, как Змей Горыныч, воспламеняю дрова своим горячим дыханием. Он знает, как развести огонь, а я знаю, как заставить его гореть! – процитировал Захар, указав на сидящего на корточках Ильнура, похожего на маленького римского воина.
– Елена Леонидовна, вы не возражаете, если я налью им по чуть-чуть домашнего вина? – Нелли Семёновна показала из сумки горлышко большой плетёной бутыли.
– Я? – искренне удивилась Ленка. – Вы всерьёз думаете, что я за них что-нибудь решаю?
Крапивин понял, что матери Рысиной не терпится услышать тост в честь своей любимой дочери, и вызвался говорить первым.
– Тихая, скромная Женя, без которой я уже не представляю себе нашего творческого коллектива, достойна од, гимнов и пенящихся в её честь кубков. Я верю, что её ждёт множество больших ролей. Но самое главное, что она прекрасно справляется со своей главной ролью надёжного товарища и верной боевой подруги. И мне хочется сегодня пожелать ей…
Рысина училась в параллельном классе. В «Эксперименте» она оказалась случайно, пришла на репетицию вместе со своей подругой Таней Артемьевой, игравшей роль Клариссы Маклеллан. Таня через какое-то время ушла из театра, а Рысина осталась. Она не могла похвастаться особой экспрессией и артистизмом, но зато брала какой-то скрывавшейся в ней тихой внутренней силой. Молчание Рысиной было намного выразительнее её речей, причём не только на сцене, но и в жизни.
Когда в феврале она заболела ангиной, Захар с Крапивиным поехали навестить её.
Она открыла в уже начавших сгущаться ранних зимних сумерках, сонная, в коротком хлопчатобумажном халате. Потрогав лоб, сказала, чтобы они проходили, если не боятся заразиться. Предложила чаю. Потом легла на диван, на колени к Крапивину, а Захар гладил её ноги. Это продолжалось довольно долго, в полной темноте, пока с работы не пришла её мать. За всё время они, кажется, не произнесли ни слова.
После вкусного домашнего вина захотелось купаться. Девочки пошли переодеваться в автобус. Крапивин, прямо тут же за ивой натянув плавки, с нетерпением стал ждать возвращения своих актрис в неглиже. Захар, затягиваясь «Афамией», флегматично разглядывал противоположный берег.
Первой на тропинке появилась знойная красавица Ишмакова в красном купальнике. Она была идеально сложена и теперь наслаждалась производимым на мужскую часть труппы эффектом. «Дочь фараона. Аида», – вполголоса произнёс Крапивин. «Суламифь», – подтвердил Захар. За ней появилась бледная, плохо загорающая Рысина, гримёр Поскрякова, Маша Федотова, Лена Анциферова… От обилия женской плоти Крапивин почувствовал срочную необходимость зайти в воду. Последней вприпрыжку по тропинке скакала Ленка в своей неизменной соломенной шляпе. Она выглядела, как всегда, смешно и нелепо, а на её бедре темнел большой лиловый синяк, оставленный углом парты.
– Я не умею плавать! – радостно сообщила она.
– Пойдём. Я тебя на руках подержу, – предложил Захар.
Вода в Дёме оказалась мягкой и тёплой. Крапивин, не очень любивший купаться, с удовольствием сплавал на другой берег и обратно. Несмотря на то, что река была неширокой, его успело отнести почти на сотню метров. Когда он по заросшему мелким кустарником берегу вернулся обратно, Захар, стоя по пояс в воде, как и обещал, держал на руках повизгивавшую и бултыхающую ногами Ленку. Ильнур с моряцким упорством боролся с течением, гребя на месте. (С берега за ним восхищённо наблюдала гримёр Поскрякова.) Рысина с грациозным достоинством плавала на спине. Остальные уже вышли из воды на берег.
К Крапивину подошла мокрая Ишмакова. Даже выйдя из воды, она умудрилась остаться красивой. Он только теперь заметил у неё на боку небольшой шрам от аппендицита.
– Вадим, угости сигаретой, если есть, – попросила она.
Крапивин сходил к своим штанам и вернулся с пачкой «Афамии» и зажигалкой.
– Держи.
Оглядевшись, она предложила ему отойти за деревья: «Не хочу, чтобы видели».
Крапивин, прикрывая ладонью, поднёс к кончику сигареты пламя:
– Куришь или, так, балуешься?
– Так, балуюсь иногда, – улыбнулась она.
– Понятно.
Ишмакова несколько раз торопливо затянулась, потом с полминуты молча смотрела вдаль. Крапивин искоса поглядывал на едва заметные тёмные волоски над её верхней губой, какие бывают у гурий в мусульманском раю.
– Слушай, а у Захара с Еленой Леонидовной серьёзно?
Он не ожидал такого вопроса и не сразу сообразил, почему она назвала Ленку по имени-отчеству. В театре все называли друг друга по имени.
Он спросил Ишмакову, что она имеет в виду под «серьёзно»?
– Ну, ты понимаешь меня, – сказала она, прикусывая кончик большого пальца.
– Нет.
– Они любовники?
– Не знаю. Свечку не держал. А что? – с вызовом спросил Крапивин.
– Да, так. Просто она на десять лет его старше… А на своих ровесниц он даже не смотрит.
– Ревнуешь, что ли? – улыбнулся Крапивин.
Ишмакова кивнула и от волнения некрасиво сплюнула перед собой.
– Даже не знаю, чем тебе помочь, Айгуль.
Она пожала плечами.
– Намекни ему.
– А ты сама? По-женски?
– Да, говорю же, он, кроме неё, ни на кого не смотрит, не замечает.
Крапивин вспомнил, как три месяца назад Захар неожиданно заглянул к нему в воскресенье, чего раньше никогда не делал. Сидел на диване, смешно скрючивая стопы. Его брюки лоснились и блестели, а плечи были посыпаны пеплом далёких звёзд. На шее у него висел тонкий галстук-селёдка, а на могучем носу, напоминающем носорожий рог, сиял большой розовый прыщ. По всему сразу было видно, что он влюблён.
«Да, можно сказать и так», – подтвердил он, мечтательно оглядывая стены и принюхиваясь к запаху жарящихся на кухне котлет.
– И кто же она? – поинтересовался Крапивин.
– Ну, ты знаешь её, это – она, – его рот растянулся в примиряющейся со всем миром улыбке.
– Точно она? – ещё раз спросил Крапивин.
– Она, – кивнул Захар. – Потому что, кто, если не она?
– С ума сошёл?
Захар затряс своей огромной головой.
– Сошёл. Давно хотел сойти с ума от любви, мечтал, и вот, – объявил он.
– Значит, всё-таки окрутила, заманила, впрыснула яду, – догадался Крапивин.
– Окрутила, заманила, впрыснула, – охотно подтвердил Захар.
– Саша, да ты валенок. Ты просто телёнок.
Крапивин поднялся с дивана и стал ходить по комнате.
– А чего такого? Тебе жалко?
– Был у неё?
– Да. Был. Вчера. Укус на шее показать?
– Дурак ты, жалко мне тебя. Она тобой попользуется и бросит.
– Она мной попользуется, я ей попользуюсь – дело житейское. Я чего к тебе пришёл-то…
– Да, в самом деле, чего ты ко мне пришёл? – хмыкнул Крапивин.
– Я на всякий случай хотел спросить, думал, может, ты… может, я своему лучшему другу дорогу перехожу?
– Говорю же, бестолковый телёнок и тупой валенок.
Захар снова заулыбался.
– Моя мать вообще уверена, что мы – гомосексуальная пара. Она говорит: ты с Крапивиным вообще не расстаёшься. Была бы ваша воля, наверное, ночевали бы вместе.
– Мы? Конечно, пара. Ты что, забыл? Предатель, – Крапивин наигранно отвернулся к окну, выражая крайнюю степень возмущения и разочарования.
– Так я же тебя не бросаю. Так, изменяю слегка, – захихикал Захар. – Я тут стих новый написал, – между прочим, вспомнил он.
– Посвящение Дульсинее Тобосской?
– Да, ей. Как ты догадался?
– Было нетрудно.
Стихи у Захара выходили тёплыми, как фрукты на закате, с большим сердечным чувством. Как сказала одна их общая знакомая: «Саша цветы в души выращивает». Захар полез в карман пиджака и достал оттуда очередной выращенный в душе бумажный цветок. Крапивин слушал его, подперев кулаком челюсть. За окном немилосердно мело. Потом попросил прочитать ещё раз.
– Ладно, хотел я тебя прогнать за предательство поганой метлой, но стих уж больно хороший. Так уж и быть, прощаю.
Захар сделал невиннейшее лицо, часто заморгал и указал прижатым к животу пальцем в сторону кухни:
– Мне бы ещё котлетку-с.
– Будет тебе и котлетка-с, убогий – вздохнул Крапивин.
Как ни странно, разговором с Ишмаковой он остался доволен. Конечно, было бы лучше, если бы она призналась в своих чувствах к нему. Но теперь его вдохновляло уже то, что в «Эксперименте» существовала своя тайная закулисная жизнь, с ревностью, завистью, интригами, страстями, со всем тем, чему и полагалось быть в настоящем театре. Даже в том, что Ишмакова всё откровенно рассказала ему, Крапивину виделся хороший знак, говоривший о том, что актриса доверяла своему режиссёру.
Мнения о том, кто победил в кулинарном поединке, разделились. Захар творил с первобытным размахом, выбирая для своей композиции крупные куски, перемежая их с луком и найденными в окрестностях поляны грибами. У Ильнура получилось всё внешне более профессионально, но, на вкус Крапивина, он чуть-чуть пересушил. Ленка, обычно не склонная к компромиссам, присудила ничью. Но каждый остался при своём мнении.
На сытый желудок захотелось спеть. Крапивин, отерев салфеткой руки и рот, взял гитару и заиграл отрядную-походную: «Ничего на свете лучше нету…» из мультфильма про «Бременских музыкантов». Раскрасневшаяся Нелли Семёновна, дирижируя бумажным стаканчиком, с удовольствием подпевала, а Захар, смешно скашивая глаза, на потеху всем кричал ослом.
– Вадим, а ты песню «Сиреневый туман» знаешь? Мы её пели, когда были такими, как вы.
– Знаю, – подтвердил Крапивин. – И отблагодарил Нелли Семёновну за устроенный праздник небольшим концертом из песен её ушедшей молодости.
Когда взобравшееся высоко солнце начало припекать, Ленка ушла в тень, спасаясь от категорически противопоказанного ей перегрева. С ней за компанию осталась гримёр Поскрякова с небольшой веткой для отгона насекомых. Все остальные пошли загорать на пляж.
Крапивин лежал на спине, набирая в горсть мелкий тёплый песок и тут же ссыпая его обратно. Сквозь ломаные линии ресниц проступали висящие в небе редкие верблюжьи облака. Время остановилось, и ему, откровенно говоря, не хотелось, чтобы оно куда-то двигалось дальше.
– Завтра четвёртый том «Войны и мира» Анне Андреевне сдавать, а я его ни хрена не прочитал, – выходя из своей уютной нирваны, пожаловался он. – Я и первые-то три еле осилил…
– Вроде легко читается, – вяло откликнулся Захар, прикрывавший своей могучей лапой лицо.
– Тебе легко, а мне нет. Засыпаю. Скучно. Князь подумал, князь заметил, князь сконфуженно пукнул… Все эти бесконечные обозы, аксельбанты, адъютанты, шипящие ядра, конские морды… Нет, Лев Толстой – не писатель.
– А кто?
– Кто? Гнусный, хитрый старикашка, себе на уме, вот кто! – оживился Крапивин.
Ильнуру, тоже слышавшему это, стало весело.
– Зря смеёшься, я, между прочим, его дневники читал. Приходит к нему кто-нибудь в Ясную Поляну, а он сидит на веранде чаёк из блюдца попивает с сахаром вприкуску. Человек перед ним, можно сказать, всю душу выворачивает, а Толстой его слушает и всё больше молча исподлобья поглядывает. А потом, когда посетитель уходит, он записывает в свой поганый дневничок: приходил такой-то – глупый, пустейший человек.
– Так, может, такие и приходили? – нехотя предположил Захар. Он разомлел, и слова давались ему с трудом.
– Горький с Чеховым к нему приходили… Слушай, – Крапивин резко вскинулся от неожиданно пришедшей ему в голову мысли. – Может, расскажешь, что там в четвёртом томе, а я с твоих слов Анне Андреевне сдам?
– Там довольно много, – засомневался Захар.
– По дороге обратно расскажешь, – решил Крапивин. – Я тебе за это тоже кое-что интересное расскажу.
– Что?
– Тебе понравится, – многозначительно пообещал он.
12
Ленка сказала, что «Фаренгейта» они смогут показать на фестивале городских самодеятельных театров в «Юбилейном». От этой новости у Крапивина сладко заныло в крестце и зачесались зубы. «Юбилейный» был настоящей большой сценой, с залом на тысячу мест.
– На тысячу двести, – автоматически поправила она.
– Лена, но как?!
– Софья Захаровна удружила. Втиснула нас в фестивальную программу. Она в жюри. Вчера вечером позвонила и поставила меня перед фактом.
– Браво, Софья Захаровна! – вскочил Крапивин. – А ты что, не рада?
Крапивин заметил, что Ленка была чем-то обеспокоена.
– Вадим, ты не понимаешь, что такое большой зал и большая сцена. Мы для таких объёмов слишком камерные. Там нужна другая пластика, другая динамика, другой звук… Элементарно никого не будет слышно. Заводские коллективы привыкли работать в больших пространствах, мы там единственный школьный театр. Мы просто потеряемся, растворимся. Будет полная лажа. Я знаю, о чём говорю.
Крапивин моментально остыл. Она была права. Он мысленно представил, как то, что они делают, будет выглядеть из пятнадцатого ряда Юбилейного, и внутренне содрогнулся – театр понурых шепчущих улиток. На такое лучше было не смотреть.
– А прорепетировать там никак нельзя? – с вялой надеждой спросил он.
– У них там всё по часам всё расписано на полгода вперёд. Скажи спасибо, что накануне дадут сделать генеральный прогон.
«Дадут сделать», – Крапивин подумал, что если она так говорит, то, значит, надеется на то, что всё каким-то образом можно устроить.
– И что будем делать? – на всякий случай спросил он.
– Ты у нас главный режиссёр, ты и решай, – напомнила Ленка.
– А ты?
– А что я? Я – фольклорный элемент. У меня есть документ. Я вообче могу отседа улететь в любой момент, – процитировала она из шуточной филатовской пьески.
– Вот-вот, с тебя станется. Сядешь в ступу и улетишь обратно в свой сказочный лес! А жизни молодые, юные уже загублены, уже порушены! – трагически взвыл Крапивин, двумя руками вцепляясь себе в волосы.
Ленка громко захохотала, прикрывая ладонью рот.
Он только потом понял, что этот ход нужен был ему для того, чтобы выиграть время, необходимое для принятия ответственного решения. Пока они с Ленкой кривлялись и бесились на пару, подначивая друг друга, ему в голову пришла дельная мысль.
– Нас спасут клоуны! Лена, нужно пасть в ноги клоунам из дворца культуры Синтетического спирта. Возможно, дать им синтетического спирта, сколько они попросят, чтобы они пустили нас к себе хотя бы на парочку репетиций.
Под «клоунами» Крапивин имел в виду самодеятельную театральную студию «Зеркало», специализирующуюся на комических репризах, буффонаде и пантомиме. У них была отличная репетиционная база в одном из лучших городских ДК – просторная гримёрка, оборудованный балетный класс. К тому же в часы репетиций они имели свободный доступ на основную сцену. Если бы им удалось договориться с Ришаром, спектакль был бы спасён.
Ришару было под тридцать, но выглядел он гораздо моложе. Высокий, худощавый, с длинными худющими руками он имел вид вечного студента, что соответствовало реальному положению вещей. Поступив в Авиационный институт ещё при Брежневе, Ришар за семь лет кое-как сумел доползти до третьего курса, умудрившись каким-то образом счастливо избежать призыва на военную службу. Неторопливо вдумчивое освоение наук его вполне устраивало. Он где-то вычитал, что в средневековых европейских университетах учились по двадцать лет. «Вот это правильно. Черепаха никуда не торопится – триста лет живёт», – говорил он, тщательно оберегая от покушений свою романтическую беспечность. В душе он был бродячим артистом. Такие люди существовали во все времена, воплощаясь в относительно сходных фактурах. Своё прозвище Ришар получил из-за нескладной причёски, напоминавшей о знаменитом французском комике.
Когда Крапивин с Ленкой приехали к нему, Ришар перекусывал городской булкой за девять копеек с кефиром и рассматривал репродукции средневековых картин, собранных в большом подарочном альбоме.
– Взгляните сюда, – сказал он (булка мешала ему говорить). – Это «Битва при Креси» – миниатюра из «Хроник» Жана Фруассара, пятнадцатый век. Вы видите? Они воевали в шортах!
Крапивин и в самом деле увидел в левом нижнем углу картины хорошо сложённого человека с арбалетом. На его бёдрах виднелись серые джинсовые шорты, а в заднюю поверхность бедра и в правую ягодицу впивались две стрелы с белым оперением. Но это человека с арбалетом, судя по его виду, не слишком беспокоило. Стрелявший в него из правого угла миниатюры английский лучник был облачён в синие спортивные трусы, а на его голых ногах виднелись изящные волейбольные наколенники. Всё выглядело так, как будто художник запечатлел не саму средневековую битву, а её театрализованную реконструкцию парадом физкультурников тридцатых годов двадцатого века.
«Мы ничего про них не знаем. Нам предстоит заново открыть Средневековье!» – пророчески воскликнул Ришар, дожёвывая булку и допивая кефир. На его губах осталась белая кефирная каёмка.
Ленка сказала, что они приехали просить его помощи. Крапивин коротко изложил суть дела. Выслушав их, Ришар согласился помочь и даже предложил собственную систему ускоренной адаптации к большой сцене, но предупредил, что поскольку времени очень мало, то он выжмет из них все соки. «Приезжайте завтра в спортивной форме, как на физкультуру. Как эти», – указав ещё раз на старинную французскую миниатюру, посоветовал он.
Мысль Ришара показалась Крапивину любопытной. Сам ли он до неё додумался или у кого-то стащил, сейчас уже было не столь важно. Главное, что она всё радикально меняла и переворачивала с ног на голову, как он любил.
«Вы думаете, это они пришли на вас посмотреть? Они – зрители? Всё наоборот! Это вы пришли посмотреть на них со сцены, всех вместе и каждого в отдельности. Каждого! – повторил он. – Вы у себя дома. Сцена – это ваш дом. Вы здесь хозяева!»
Ришар гомерически расхохотался, а потом плашмя стал падать на спину, раскидывая в стороны свои нереально длинные руки. Крапивину показалось, что сейчас он крепко треснется затылком. Но в последний момент Ришар с удивительной для его роста акробатической ловкостью мягко перекатился через спину, на полсекунды задержался в стойке на голове и комически хлопнулся на живот, задрыгав ногами. Смотреть на это без смеха было невозможно.
«Как избавиться от страха перед сценой? Как поверить, что сцена – это ваш дом? – риторически спрашивал сам себя он и тут же отвечал: – Дома мы ведём себя свободно, двигаемся, лежим, сидим, как хотим. В любой момент можем поковырять в носу. Дом ассоциируется с расслабленностью мускулатуры и свободной двигательной активностью. Там, где ваши тела будут двигаться свободно, там вы и будете чувствовать себя как дома. Ферштейн?»
Он включал музыку и заставлял экспериментовцев бегать, прыгать, кувыркаться и всячески дурачиться на сцене. Потом к движению он подключил звук. Нельзя было просто двигаться или только говорить. Любая реплика должна была сопровождаться каким-нибудь кульбитом или жестом. «Тело и речь – только вместе! Тело и речь – одно!» – не уставал повторять он. И за два часа умудрился, как он сам выразился, вдохнуть жизнь в «говорящих статуй».
На следующей репетиции он занялся сценической речью.
– В обычной жизни вы говорите, не набирая воздуха в лёгкие. Сколько есть, столько есть. Этого вполне хватает, чтобы вас услышали. На сцене так не получится. На сцене нужно дышать. Перед каждой репликой нужно набирать воздуха. А как не забывать это делать?
– Как? – спросил Крапивин. Он и Ленка учились, истекая потом, наравне со всеми.
– Очень просто. Для того чтобы вдохнуть, нужно выдохнуть. Без воздуха вы ведь вообще ничего не сможете сказать. Не так ли? Поэтому после каждой реплики, независимо от её длины, нужно выдыхать остатки воздуха. Тогда, прежде чем произнести следующую, вы обязательно вдохнёте.
– Действительно, просто, – улыбнулся Крапивин.
После третьей двухчасовой репетиции он понял, что имеет дело с новым театром, игравшим теперь другой спектакль.
13
Закончив выписывать буквы на листе плотного ватмана, Марина подожгла его с двух сторон и через несколько секунд мокрой поролоновой губкой потушила пламя.
– Ну, как? – улыбнулась, не разжимая губ.
Художественное решение афиши показалось Крапивину гениальным. Мимо обгоревшего белого листа с неровными обожжёнными краями, делавшими зримой культурную трагедию бумаги, невозможно было пройти. «Вот, что значит – художник», – искренне восхитился он.
Марина Болховских, дочка Софьи Захаровны, с начала восьмидесятых часто бывала у них в доме, иногда оставаясь на ночлег. С Ленкой она тоже тысячу лет была знакома. (Черниковские евреи все знали друг друга.) Крапивина она называла не иначе как «юношей бледным со взором горящим». В детстве он и в самом деле часто бывал бледен, что давало основание его матери подозревать наличие у него глистов. Она раз за разом с непонятным дурным упрямством озвучивала эту версию, несмотря на то, что никаких глистов у Крапивина не было и гемоглобин всегда соответствовал норме. Но с тех пор всякое упоминание о его бледности вызывало в нём рефлекторное беспокойство, заставляя думать, что с ним что-то не так.
Однажды Марина с его старшей сестрой взяли Крапивина с собой на вечернюю службу в старую Сергиевскую церковь. Он запомнил, что там было много безмолвно шевелящих губами старух, которые подходили к иконам в золотых окладах, крестились, кланялись в пол, а потом выкладывали на застеленный клеёнкой стол яблоки, печенья и конфеты.
Афишу разместили прямо на витрине возле центрального входа, рядом с плакатом Пугачёвой.
Взглянув на плакат, Захар сказал, что видел Пугачёву прошлым летом на Солнечном пляже.
– Шутишь? – не поверил Крапивин.
– Не шучу. Правда. Лежал там один в будний день, загорал на песочке, потягивая пиво. Вокруг – никого. Стакана не было, поэтому пришлось в полиэтиленовом мешке прогрызать дырку. Потом смотрю, с моста на берег съезжает несколько дорогих машин, а из них выгружается целая шумная компания. Думаю: кто такие? Я, главное, без трусов лежу, а они все прямо на меня идут. Метрах в двадцати остановились, коврики какие-то расстелили, стали раздеваться. Я пригляделся, смотрю, а это Пугачёва со своей свитой. И там с ней рядом этот, как его?
– Челобанов? – подсказал Крапивин.
– Да, Челобанов. Она разделась, в купальнике в воду зашла, начала петь про голубя сизокрылого. Потом поплескалась немного. Голубь её на руки взял и понёс обратно, кремом от загара мазать. Она говорила, что у неё кожа нежная, всё обгореть боялась.
– Тебе говорила?
– Ему.
– А ты?
– Я потом, когда они из воды вышли, пошёл стакан у них спросить.
– Дали?
– Дал, усатый такой, с длинными волосами.
– Игорь Николаев, что ли?
– Да, Николаев.
– Ты хоть в трусах ходил? – строго спросил Крапивин.
– Да, я, когда они ещё подъехали, трусы успел надеть. Я говорю ему: стакан верну. А он: не надо, оставьте себе. Потом, через полчаса, я ещё раз к ним подошёл, курить стрельнул.
– У Николаева?
– Нет, у другого. Не знаю, как зовут.
– Ну, и как тебе Пугачёва?
Захар пожал плечами.
– Да, нормально. Баба как баба.
Вбежавшая в гримёрку Ленка объявила, что подошла их очередь, и стала выгонять всех пинками на сцену. Сквозь свет рампы Крапивин разглядел в темноте зрительного зала множество народу. Оказалось, что отыгравшие своё театральные коллективы никуда не уходили, а спускались в партер, чтобы взглянуть на конкурентов. В обстановке проходного двора он почувствовал себя неловко.
– Может, выгнать их к чёртовой матери?
– Не надо. Поссоримся со всеми, – отмахнулась она. – Пусть смотрят.
Тут же возникла ещё одна проблема. Пришёл оператор портального механизма и попросил предоставить ему в письменном виде точное расписание занавеса. Судя по тому, с каким рвением он требовал точности, Крапивин понял, что оператор был не очень трезв. Они работали вообще без занавеса, поэтому Ленке пришлось придумывать расписание на ходу.
«Байдин! Где его носит? Скажите ему, пусть срочно сдаёт фонограмму. Мы без фонограммы не можем начать!» Гримёр Поскрякова и ещё несколько человек бросились в фойе разыскивать Сашу Байдина.
По ходу Крапивин несколько раз останавливал действие пьесы и, спускаясь в зрительный зал, давал в микрофон указание осветителям: «Уберите софиты! Боковое, верхнее, рампу… Не надо один источник. Оставьте заднее, только заднее, пусть будут силуэты. А потом, в самом конце дадите динамический. Какой? А какие у вас есть?» Ещё нужно было следить за звуком, за сменой декораций, за сценическим движением…
К концу прогона – Крапивин говорил: «погрома» – он чувствовал себя совершенно измотанным, за полтора часа устав больше, чем за все предыдущие репетиции.
Захар стоял, облокотившись на буфетный столик, поедая бутерброд с колбасой и поглядывая на дефилирующих по фойе коллег в сценических костюмах. Крапивин бессмысленно помешивал ложечкой в стакане с чаем.
– Стало быть, убьёшь меня завтра, мой друг?
– Убью, – подтвердил Захар, глядя на башкирскую красавицу в декоративном платье с монисто.
– Ты никогда не задумывался, почему древние египтяне всегда рисовали людей в профиль? – спросил Крапивин.
– Действительно, странно, – согласился Захар, возвращая голову в исходное положение. – И почему?
– Говорят, что изображение в профиль информативнее, чем анфас. Но я думаю, что это полная чушь. Просто они боялись встретиться с нарисованными людьми взглядом.
Крапивин прямо посмотрел в жёлто-серо-зелёные глаза Захара, расцвеченные перенесённым в детстве гепатитом.
– Как с Ленкой?
– Нормально. Дерётся только, – пожаловался он.
– В каком смысле?
– В прямом. Дерётся и кусается.
– А ты?
– А я ничего, покорно сношу её пинки и тумаки. Ну, иногда руки ей связываю.
– Кто бы мог подумать, какой интересной жизнью живут люди, – качнул головой Крапивин. – А что с Ишмаковой?
Захар пожал плечами.
– Ничего.
– Ничего, – повторил Крапивин.
Он издали заметил идущего к их столику в больших клоунских ботинках Ришара.
– Прогнались? – радостно спросил тот.
– Да, почти ничего не успели, – отмахнулся Крапивин.
– Это ничего. Главное, сцену почувствовали!
– Почувствовали, – подтвердил Захар. – А вы что будете показывать?
– Спектакль по произведениям Даниила Хармса. Вас, кстати, на какой день поставили?
– На второй, почти в самом конце, – сказал Крапивин.
– Ну вот, а нас на первый, почти в самом начале. Так что друг дружку увидим, – снова обрадовался Ришар.
Дима Ковшов, отвечавший в «Эксперименте» за техническую сторону вопроса, сказал, что зарядит огнемёт двойной порцией ликоподия, решив, что для большой сцены нужен другой масштаб спецэффектов. Крапивин согласился с ним, вспомнив, что если бы Данзас в своё время не сократил пороховой заряд в дуэльных пистолетах, а, наоборот, поступил бы, как Дима, то, возможно, Пушкин был бы жив до сих пор.
– Волнуешься? – спросил его Дима, возбуждённо потирая руки.
– Волнуюсь, как бы голос не пропал. У меня от волнения такое бывает.
– Сделай дыхательную гимнастику, – посоветовал он.
– Может, по сто коньячку? – пошутил Захар, шероховатость лица которого густо замазывала тональным кремом гримёр Поскрякова.
– Я вам дам по коньячку! – погрозила кулаком Ленка.
– А что, я видел, как мужики из башкирского национального театра под лестницей поддавали, – ответил он.
Крапивин понял, что он сказал это только для того, чтобы позлить её.
– Лучше не доводи меня до ручки, я и так вся на нервах, – взмолилась Ленка.
Судя по её обострившимся скулам и напрягшейся шее, она не шутила.
– Почему гениальные мысли приходят так поздно? – вздохнул Крапивин. – Я только сейчас понял, как нужно было всё сделать.
– Как?
– Записываем все диалоги на фонограмму. Звук чёткий, ясный, слышны все интонационные нюансы, охи, вздохи, а сами молча гуляем по сцене с многозначительными лицами. Пластические решения – отдельно, звук – отдельно.
– А что, мне идея нравится, – подал голос из угла гримёрки Ильнур.
– Идея интересная, но давай не сейчас, – попросила Ленка.
Увидев в её руках булавку, он понял, что она на пределе, и решил ни о чём с ней до спектакля не говорить.
– Здравствуйте, вы, очевидно, наша новая соседка?
– А вы, должно быть, пожарный?
– Как вы странно это сказали. Запах керосина, да? Дочиста его никогда не отмоешь.
– Да, не отмоешь.
Когда дело дошло до сцены, в которой Крапивину предстояло сгореть, он молил бога, чтобы не подвела зажигалка и чтобы Захар, с его врождённой косорукостью, не промахнулся мимо маленького язычка пламени. Воздушная камера, находившаяся в его ранце, выдавала весь заряд целиком за один раз, так что шанса на повторный выстрел у него не было. Если из ствола огнемёта не вырвется пламя, всё, что было до этого, не будет иметь никакого значения, потому что весь спектакль провалится. Когда Крапивин вдруг понял, что судьба постановки зависит от одного маленького технического нюанса, то почувствовал, как по его спине заструился холодный эфир. На репетициях его сжигали всего пару раз. Двух раз для статистики было явно недостаточно. Он держал свой маленький огонёк на уровне живота, и пламя, охватывающее его буквально на одно мгновение, не успевало причинить ему никакого вреда.
Взглянув с ненавистью на Захара, Крапивин выкрикнул:
«Чего вы ждёте, чёртов идиот, Монтэг? Спускайте курок!»
Потом сделал шаг навстречу и не заметил, как непроизвольно поднял зажигалку на уровень груди, будто собирался подпалить Захару подбородок. Тот среагировал чётко и без промедления. Крапивин ощутил на своём лице жаркое дыхание всех доменных печей Магнитогорского металлургического комбината, услышал треск сгорающих волос, а потом с некоторым запозданием свой истошный душераздирающий крик.
Ленка, наблюдавшая за всем из-за кулис, сказала, что пламя было похоже на горящий нефтяной фонтан и что она всерьёз за него перепугалась.
– Я думала, ты натурально сгоришь, – призналась она, трогая Крапивина за обгоревшую чёлку. – Боже, у тебя ресницы опалены. Больно?
– Нет. Я сам – дурак, нужно было постричься перед спектаклем. А теперь уже, хочешь не хочешь, придётся. Ладно, потом, – он снова устремился к кулисам, чтобы досмотреть последнюю сцену Монтэга с Грэнжером.
Поскрякова, наблюдавшая весь спектакль из зала, подтвердила, что, когда его сожгли, по рядам прокатился испуганный шёпот, а женщина, сидевшая справа от неё, даже привстала со своего места.
Чуть позже в гримёрку зашла Софья Захаровна поздравить их с премьерой. Она обняла и расцеловала Ленку, а взглянув на Крапивина, сказала: «Сгорел на работе!»
– Вадим, ты знаешь, что на тебя собрались подавать жалобу? – как бы между прочим спросила она.
Ленка от удивления открыла рот.
– Жалобу? – не понял он. – На что?
– На то, что «Эксперимент» использовал в самодеятельной постановке профессионального актёра, – улыбнулась Софья Захаровна. – В общем, суши сухари, мой друг, далеко пойдёшь.
«Суши сухари, мой друг, далеко пойдёшь» – это была её любимая поговорка.
14
Порывшись в пианино, Ленка достала запылившуюся бутылку и, протерев её тряпкой, объявила, что дагестанский трёхзвёздочный кизлярского производства – самый лучший во всём Советском Союзе.
– Французского не пила, врать не буду, – добавила она.
– А грузинский, армянский, азербайджанский? – Захар сидел на изнемогающем под его тяжестью стуле и крутил своими титаническими ручищами кофемолку. Почётная обязанность измельчения кофейных зёрен от Крапивина теперь перешла к нему.
Ленка поморщилась.
– По сравнению с «Дагестанским» – ни в какое сравнение. Если с шоколадом и лимоном, я могу целую бутылку выпить и не окосеть – проверено!
– Бутылку? Одна? – не поверил Крапивин.
Она без раздумий протянула ему руку для пари.
– Спорим?
Захар тут же поспешил в корне пресечь эту затею.
– Лена, не надо. Мы верим, что ты можешь. Верим, – ещё раз повторил он, успокоительно прикрывая веки.
– А я бы с удовольствием посмотрел, как она будет ползать под столом, – признался Крапивин. – Но раз доктор запретил…
Ленка подошла сзади к Захару и, повиснув у него на шее, чмокнула в щёку, а Крапивину показала язык.
Он поджал губы и осуждающе покачал головой.
– Не сердись, Вадим. Я просто вхожу в новую роль, – объяснила она.
– Какую ещё новую роль? Почему главный режиссёр Театра Э ничего не знает?
– Театра Э? – Ленка по своему обыкновению захохотала.
– Да, ладно, я тоже ничего не знаю, – поспешил заверить его Захар.
– Сейчас я вам всё расскажу, – пообещала она. – Но сначала выпьем!
Она выложила на стол пару плиток любимого бабаевского шоколада и тупым ножом стала резать лимон. «Мужчин ведь в этом доме нет». Крапивин плеснул понемногу в три полусферических бокала. «Дагестанский» и в самом деле оказался хорош, пить его было приятно, он почти не грешил послевкусием и оставлял внутри ощущение тепла и заботы. С каждым глотком желудок будто кто-то бережно пеленал, как ребёнка.
Захар, чтобы распробовать как следует, немного отпив, стал смешно плямкать губами.
– Ну, как? – спросила Ленка.
– Эээ… божественно!
Её глаза заблестели как ёлочные игрушки.
– Что я говорила?
– Да, – подтвердил Крапивин, – угостила, мать, так угостила.
– Если Карданская узнает, чем мы тут занимаемся, то выгонит меня из школы к чертям собачьим, – сладко потянув носом, сказала она.
– Не сомневаюсь, что у чертей собачьих тут же возникнет свой собственный театр, – мгновенно откликнулся Крапивин, за что получил от неё ощутимый тычок под рёбра.
– Ладно, колись, чего ты там опять задумала? – напомнил он.
Ленка облокотила руку на спинку стула и закинула ногу на ногу, как знающая себе цену портовая шлюха.
– Как вам такая фабула, мальчики? Только что назначенный немецким послом Вальтер Кречмер плывёт с женой на роскошном теплоходе в Бразилию. Ничего не предвещает беды. У супругов, проживших вместе четырнадцать лет, можно сказать, второй медовый месяц. И вдруг Вальтер Кречмер начинает замечать, что его дражайшая Лизхен испытывает странное беспокойство при виде одной из пассажирок. А когда та заказывает в ресторане старую добрую немецкую музычку, так и вовсе чуть не падает в обморок. Он не понимает, что происходит, и естественно пытается разобраться. Неприятности ему не нужны. Но постепенно выясняется, что эта загадочная пассажирка – бывшая заключённая концлагеря, а его милейшая жёнушка, про которую невозможно было и подумать, её бывшая надзирательница.
– Интересно, – потёр подбородок Крапивин. – Где ты это нашла?
– В журнале киносценариев. По повести Зофьи Посмыш в начале шестидесятых в Польше был снят фильм. Чуть позже поляки поставили оперу. Самое интересное, что у меня даже есть её клавир. Хочешь, покажу?
– Потом покажешь, – отмахнулся Крапивин, пытаясь сосредоточиться на главном. – И чем там всё заканчивается?
Ленка брезгливо скривила лицо.
– Презрением. Кречмер, этот трусливый прислужник нацистов, больше всего боится разоблачения, скандала, того, что Марта, сойдя в Лиссабоне, расскажет журналистам о прошлом его жены. Но Марта и не думала этого делать. Не хотела мараться. Она оставила Вальтера и Лизхен наедине с их позором и страхом перед возмездием.
Быстро перелистав страницы, она нашла нужное место.
– Вот:
«Она пошла в сторону перил, у которых стояла Марта. Шагов за пять остановилась и продолжала смотреть настойчиво, вызывающе. От этого взгляда нельзя было уклониться. Марта повернулась к ней. Сначала её глаза, хотя и обращённые к Лизе, смотрели куда-то поверх её головы. Потом вдруг она хлестнула её взглядом. Несколько мгновений женщины молча смотрели друг другу в глаза. Вальтер видел издали лицо Марты – презрительное, равнодушное. И видел, как она затем обошла стоящую у неё на пути Лизу, брезгливо, как что-то нечистое, и, не оглядываясь, зашагала дальше».
– Вадим, на театральной сцене этого никто ещё не ставил. Вообще никто. А тема-то вкусная. И мы будем первыми! – она, по своему обыкновению, звонко щёлкнула пальцами.
Крапивин кивнул в сторону Захара.
– А этот, значит, с рязанской рожей будет играть немецкого посла? Ты на меня посмотри. У меня же чисто арийская внешность. Ты когда-нибудь статую Октавиана Августа видела? Её же с меня лепили! А моя несгибаемая стойкость? А нордический твёрдый характер?
Уже чуть разрумянившаяся Ленка расхохоталась. Широко разбросав руки над столом, она попыталась заграбастать их обоих.
– Сделаем два состава. Вы оба будете моими мужьями, – удовлетворённо объявила она.
– Я чувствовал, чувствовал, что к этому всё идёт, – мучительно простонал Крапивин.
У Ленки была редкая коллекция сценических шумов на восьми больших виниловых пластинках. Она быстро отыскала всё необходимое для звукового сопровождения будущего спектакля: вой сирен, надсадный лай собак, сухие автоматные очереди «шмайсеров», протяжный гудок парохода, обрамлённый криками чаек.
– Перешьём полосатые пижамы в форму заключённых, сделаем такие же шапочки… – перечисляла она.
Крапивин качал ногой и озабоченно грыз ноготь.
– А фашисты у нас в чём по сцене будут ходить, в школьной форме со свастиками?
– Напишем письмо в русский драмтеатр. У них есть нацистская форма, я точно знаю.
– Есть-то есть, да не про нашу честь. Дадут ли?
– Дадут. Должны дать. Рабинович, конечно, та ещё бяка, но ради такого дела отказать не должен. В противном случае я ему всю плешь проем, напишу разгромную статью в «Вечёрку»!
– Да подожди ты, ещё никто не отказал, – засмеялся Крапивин.
Ленка стыдливо прикусила указательный палец.
Её решительность в лёгком подпитии напоминала одержимость. Крапивину не сильно нравилось, что в глубине своей захламлённой паучьей норы она, как всегда, всё придумала сама. Но находка ему показалась стоящей. Пьеса с почти детективной интригой, отсылавшей к тайне прошлого, действие которой всё время двигалось как бы внутренней пружиной мины замедленного действия, была в самом деле хороша.
После ещё одной рюмки Ленка предложила спеть. Её руки с перстнем, выточенным из цельного ореха, заскользили поверх выцветшей белизны клавиш. Крапивин, стоя возле инструмента, думал, что пианино – тот же ткацкий станок, сплетающий музыку из скрипичных и басовых нот. Потом приглушённым тенорком запел «Выхожу один я на дорогу…». Захар, поглядывая на темневшую на столе початую бутылку, стал подвывать ему со стула. В комнате царил фотографический полумрак. Ленка низким альтом в грудном регистре строила второй голос, чем придавала общему звучанию отчётливую коричневую окантовку. Вместе у них вышло очень даже неплохо.
В девятом часу Крапивин засобирался домой, сказав, что обещал матери на этот раз вернуться не поздно. Он призывно взглянул на Захара: ты едешь?
За него ответила Ленка:
– Вадим, ты прости, нам кое-что нужно обсудить с Сашей тет-а-тет.
Крапивин посмотрел на её минорное сочувствующее лицо, потом снова вернулся взглядом к раскачивающемуся на стуле Захару.
– Секреты? Тайны? Заговор? Я этого, милостивые государи, не потерплю!
– Да нет, может, я хочу уехать! – запротестовал Захар, демонстративно заглядывая Ленке в лицо.
– Саш, мне, правда, нужно с тобой кое о чём поговорить, – с трагической серьёзностью сообщила она.
– Ладно, Вадим, езжай. Это же если я сейчас с тобой уеду, тут будет настоящая истерика, с битьём посуды, перерезанием вен и выпрыгиванием с балкона. Потом она всем скажет, что во всём этом виноват я.
– Даже не сомневайся! – весело подтвердила Ленка.
– Ладно, чёрт с вами. Пойду один, солнцем палимый, ветром гонимый, – решил Крапивин.
Один, без Захара он от неё не уезжал ещё никогда.
15
«Вальтер инстинктивно метнулся к Лизе и влепил ей звонкую пощёчину».
Крапивин с озабоченным видом вернул Ленке журнал.
– Может, не надо? Можно найти какое-то другое решение, например, замахнулся. Нет, я могу, у меня рука лёгкая, а если этот силу не рассчитает? – сказал он, указывая на Захара.
– Я, между прочим, крайне нежен, – напомнил тот.
– Вадим, надо! – стала настаивать Ленка. – Она его провоцирует, и этот жест со стороны Вальтера вполне естественен.
– Бить женщин естественно? Нас неправильно поймут.
– Нас правильно поймут. Он – трус и ничтожество, для него – это вполне нормально. И Анна-Лиза – та ещё стерва.
Крапивин снова посмотрел на Захара:
– Слышал? Ты – трус и ничтожество.
– Между прочим, я очень органично себя чувствую в этой роли, – снова флегматично подтвердил он.
– Мало того что у нас еврейка играет эсэсовку, так ещё она будет получать по морде от своих учеников, – посетовал Крапивин. – Зося скажет, что мы развели в образовательном учреждении садомазохизм.
– Тише ты, не накликай, – засмеялась Ленка.
Крапивин сказал, что нужно ещё подумать и к этой сцене вернуться чуть позже.
– Ты, кстати, заметила? – спросил он, присаживаясь рядом с ней на край сцены.
– Что?
– Она вдруг меняет причёску. Вальтер думает, что Лизхен делает это, чтобы пококетничать с Брэдли…
– А она просто боится, что Марта её узнает, – подтвердила Ленка.
– Вот-вот. Я что-то хотел сказать Брэдли, – кривя рот, стал припоминать он. – Да! Когда он говорит: «Взломав ворота Дахау…», она роняет бокал. Но потом этот кретин, желая сделать ей комплимент, продолжает: «Войну вы, наверное, плохо помните. Ведь вы были ещё совсем ребёнком», чем окончательно добивает её. Крапивин подошёл к сидящим в первом ряду актёрам. – Он вообще не очень понимает, чего немцам стесняться? Там ведь есть: «Говоря о попустительстве преступлению, я не имел в виду позицию немецкого народа во времена Гитлера… В этом смысле ваше прошлое если не оправдано, то во всяком случае объяснимо». То есть, что было, то было, чёрт с ним. Как если бы речь шла не о бесчеловечных идеях, а о бесчеловечных желаниях. Немецкий народ дошёл до того, что пожелал нацизма, но потом его неосознанное деструктивное стремление обратилось против него же. Теперь Брэдли, как американца, вообще не интересует прошлое, а только исключительно нынешняя позиция немцев.
Он повернулся к Захару.
– Саша, а на чём вы с ним сходитесь?
– Ну, Вальтер говорит, что в те времена из Германии просто некуда было бежать… Он пытается доказать, что его заставили, но теперь политики Германии понимают, насколько всё было ужасно.
– Вот! Главное, чтобы сегодня сидели тихо и не высовывались. Я знаешь, чего не понимаю, – признался Крапивин Ленке после первой читки «Пассажирки». Они шли по Проспекту, недавно засаженному стройными пирамидальными тополями.
– Анна-Лиза ведь действительно была добра к Марте, выделила её из всех, перевела в хозяйственный блок, делилась с ней своим завтраком. Когда та заболела, лечила её, доставала из карцера, устраивала встречи с Тадеушем, то есть рисковала, делая буквально невозможное и ничего не требуя взамен.
– И что?
– А у Марты не осталось к ней ничего, кроме презрения. Ты меня прости, но Анна-Лиза Франц просто влюблена в Марту, бредит ею. Помнишь, когда Тадеушу удаётся передать ей ко дню рождения букет оранжерейных роз? Она откровенно ревнует, практически закатывает Марте скандал.
– Палачи и жертвы иногда влюбляются друг в друга. Но это ничего не меняет. Палачи остаются палачами, а жертвы – жертвами, – сухо отрезала Ленка.
Крапивин коротко взглянул на неё, она, втянув щёки, сощурившись, смотрела вдаль.
– То есть ты хочешь сказать, что любовь в данном случае бессильна и ничего не решает?
– Вадим, это не любовь. Лизхен захотела сломать Марту, а когда не смогла, стала искать её расположения. Она добивалась, чтобы Марта оценила её, признала в ней человека. Марта нужна была ей только для самооправдания.
– Да пусть хотя бы для самооправдания! – взвился он. – Неужели ты не можешь допустить, что всё могло быть по-другому? Что она действительно…
Крапивин только один раз в жизни видел настоящих лесбиянок. Это было прошлым летом, в Питере, куда они заехали после недельного пребывания у отцовских родственников в Белоруссии. Две коротко стриженные девушки с разноцветными волосами жадно всасывались друг в друга возле дома Ольги Берггольц на улице Рубинштейна. Зрелище выглядело неестественным и отвратительным. Он молил бога, чтобы мать не повернула голову в их сторону, и сам был готов провалиться от стыда сквозь землю.
– Нет. Или ты хочешь сделать из «Пассажирки» любовную историю двух женщин? – Ленка начала ехидно улыбаться.
– Просто нужно поработать отдельно с этой линией, – сказал Крапивин, глядя куда-то в сторону.
– Так поработай. Кто тебе запрещает, – пожала плечами она.
В русском драматическом театре всегда можно было погреться. Зимой они с Захаром часто так и делали, когда замерзали после долгого хождения по улицам. Пройдя через стеклянный тамбур, щедро продуваемый тёплым воздухом вентиляционных решёток, садились на широкий подоконник в мраморном закутке возле билетных касс и наблюдали за миром дефилирующих мужских костюмов и женских вечерних нарядов. Это тоже был театр, который начинался ещё на дальних подступах к вешалке.
Женщина в форменном жакете, встретившая его в фойе, объяснила, как пройти в костюмерную, махнув рукой в сторону темневшей вдали лестницы. Крапивин устремился вслед за молодой актрисой в чешках и чёрном трико, стараясь не упустить из виду её круглый аппетитный зад.
Внизу на цокольном этаже шумно работали загадочные механизмы и пахло химчисткой, как будто в недрах театра работал небольшой подпольный завод.
– Вот паспорт. Вот гарантийное письмо, – громко сказал Крапивин, стараясь, чтобы его слова не потонули в механическом скрежете.
Женщина за столом, покрытым толстым слоем оргстекла, вытащила изо рта сигарету, стряхнула пепел в блюдце и стала звонить по внутреннему.
– Михаил Исакович, это Катя. Катя! Тут молодой человек из школьного театра за фашистской формой пришёл… Знаете? К вам? Хорошо.
– Он сказал, чтобы вы потом к нему в кабинет заглянули, – сказала она, кладя трубку.
– Только я не знаю, где его кабинет.
– Я покажу.
Она повела Крапивина по подземному лабиринту, напоминавшему бойлерную из второй части «Кошмара на улице Вязов».
– Вам общевойсковую или эсэсовскую?
– «Я пошёл добровольцем в вермахт, чтобы не пойти в СС…»
– Что?
– Эсэсовскую, – подтвердил Крапивин.
На длинных рядах висели десятки ретро-костюмов и старых платьев. В воздухе носились запахи старых тканей, перемешивающиеся с устойчивым духом нафталина. Он успел разглядеть долгополый боярский кафтан, матросский бушлат и чёрный дирижёрский фрак.
– Какие размеры?
– А у вас что, разные есть? – удивился Крапивин.
Катерина заглянула в журнал.
– Есть разные. От сорок восьмого до пятьдесят шестого включительно.
– Давайте сорок восьмого, – подумав, сказал он. – Да, мне нужна одна женская!
Когда Крапивин вошёл в кабинет главрежа, Рабинович, невысокий бородатый человек в очках с роговой оправой, разговаривавший с кем-то по телефону, по-свойски махнул ему рукой. Минут пять у Крапивина было на то, чтобы унять волнение и осмотреться.
– Как дела у молодого поколения режиссёров? – с улыбкой спросил он, когда закончил.
– Работаем, – по-деловому просто ответил Крапивин.
– Я в студенческом театре режиссёром начинал, а тут мне говорят: что ты, Миша, это уже вчерашний день! Сегодня режиссёры уже в школах есть! – засмеялся он.
Крапивин шмыгнул носом.
– Так получилось.
– Ладно. Мы-то знаем, что режиссёрами рождаются, а не становятся. Правда? – по-дружески подмигнул Рабинович. – Что ставим?
Крапивин вкратце пересказал ему фабулу «Пассажирки».
– Очень интересно, – всерьёз похвалил Михаил Исакович.
– А я «Матросскую тишину» по Галичу делаю, коллега, – без тени иронии поделился он.
– Матросскую тишину? – Крапивину это странное словосочетание показалось одновременно сюрреалистически жутким и смешным.
Рабинович, поняв это, стал рассказывать, что так называется легендарная следственная тюрьма в Москве, располагающаяся на одноимённой улице.
– Раньше там был богадельный дом для ветеранов флота, в окрестностях которого категорически запрещалось шуметь и ездить в каретах. Отсюда и необычное название, – объяснил он.
– Мне ваш «Самоубийца» по Эрдману понравился, – признался Крапивин.
– Вы видели? – оживился Рабинович. – А я с ним, честно говоря, намучился…
На прощание он пожелал Крапивину успехов и подарил две контрамарки на премьеру будущего спектакля со странным названием.
На чёрную эсэсовскую форму слетелась посмотреть вся труппа. Извлечённые из большой хозяйственной сумки, покрытые защитной целлофановой плёнкой кители со сдвоенными молниями на петлицах тут же разошлись по рукам. Их рассматривали, вертели и примеряли по очереди, передавая друг другу. Девочки стали наперебой просить Башу, чтобы он сфотографировал их в фуражках с кокардами в виде серебристого черепа и с имперским орлом на тулье. Ленка чуть не охрипла, упрашивая дать сначала возможность примерить реквизит задействованным в ролях актёрам, попутно разыскивая свою строгую форменную юбку. Когда она, наконец, отыскала её и предстала в полном облачении, Крапивин заметил, что её хоть сейчас можно отправлять в Освенцим за дискредитацию высокой эстетики национал-социализма. В форме Ленка выглядела нелепо. Но он мысленно похвалил себя за то, что угадал с размером.
Подъехав к Дому Учителя, где был запланирован предварительный показ «Пассажирки», Крапивин увидел расхаживающего по крыльцу при полном параде Ильнура. На рукаве его комендантского кителя с аксельбантом красовалась повязка со свастикой. Из офицерских сапог торчали мешковатые галифе. Постукивая стеком по ладони, он нудно выговаривал Поскряковой: «Мы будьем немножко убивать, немножко вешать. Я наушу русский свинья ценить немецкий порядок». Та, держась за живот, переламывалась пополам от смеха. Уличные прохожие, не понимая, что происходит, дико косились в его сторону.
– Я смотрю, наши в городе, – сказал Крапивин, подойдя ближе.
16
Маленький пыльный смерч закручивал мелкий мусор возле магазина «Бакалея». Фасады домов возле дворца Орджоникидзе, с налётом неплотной послеполуденной тени, зияли распахнутыми зевами балконов. В конце коротенького бульвара железный Серго делал нескончаемый шаг в вечность.
До ушей Крапивин донёсся цокот женских каблучков, царапающих асфальт, потом мотоциклетный шум, запахло бензином. Он знал, что в Черниковке всё существовало однократно, в пределах видимости. Человека, свернувшего за угол, нельзя было догнать или хотя бы вспомнить, притом что за последние сорок лет здесь практически ничего не изменилось – намертво врастая в грунт, стояли кирпичные дома, промежутки между которыми заполняли гипсовые статуи, белели мраморные колонны, душно зеленели липы… Он бы не удивился, если бы увидел подбирающего с земли окурок пленного немца.
– Как вы тут будете без меня? Пропадёте?
– Захар остаётся, Галиев, Баша, Сильвер… – откликнулась Ленка. – Она сидела рядом в лёгком белом сарафане, широкополой соломенной шляпе и больших тёмных очках времён прихода к власти в Чили генерала Пиночета. В них она была похожа на гигантскую стрекозу. – Найдём тебе преемника, в общем, что-нибудь придумаем.
– Всё – пустое. Меня заменить некем, – отрезал Крапивин.
Ленка засмеялась, прикрывая рот ладонью. Ей нравились его нарциссические шуточки.
– За что я тебя всегда любила, Вадим, так это за самомнение. От скромности ты не умрёшь, – сказала она.
– Любила... Захара ты всегда любила. Я ещё здесь, а ты уже говоришь обо мне в прошедшем времени.
– Ну, прости, прости, не дуйся. Я вас обоих любила и люблю, только немного по-разному. Ты – физик. Он – лирик…
– Он – лирик, я – холерик… – автоматически произнёс Крапивин. – Я – Гамлет, – вспомнил он, разворачиваясь к ней всем телом.
– Лучший, лучший в мире Гамлет, – согласилась она.
– Грубая лесть.
– Ничуть. Поверь, для меня – всё именно так. – Ленка отхлебнула из бутылки с минеральной водой и передала её Крапивину.
– Саша слишком мягкий, какой из него режиссёр? – немного подумав, сказал она.
– Может, сама попробуешь?
– Исключено. Это противоречит основному принципу «Эксперимента».
– И какой, если не секрет, основной принцип?
Крапивин непроизвольно дёрнул рукой.
– Ты за столько лет не понял? – спросила она, стягивая с глаз свои умопомрачительные очки.
– Я за все эти годы даже не понял, кто над кем проводит эксперимент и в чём заключается его смысл. Знаешь, примерно, как у Стругацких в «Граде обречённых».
Эта его реплика понравилась ей гораздо больше. Она понимающе улыбнулась.
– Всё так и есть. Ничего не понятно. Но суть в том, что вы всё делаете сами.
– Меня всегда интересовало, почему ты не общаешься с Питонами, – вдруг вспомнил он.
«Питонами» называли себя актёры труппы, с которой она работала до них, в сто четырнадцатой школе. Крапивин про них много всего слышал, но ни разу не видел, чтобы хоть один из них появился у неё в гостях.
– Это происходит не по моей вине. Я всегда открыта для общения и не виновата в том, что питоны расползлись по своим норам.
Крапивин полез в карман за сигаретами в нагрудный карман рубашки, достав оттуда помятую пачку «Родопи».
– И кого ты видишь вместо меня?
– Галимова.
– Он несколько трафаретен, – заметил Крапивин, прикуривая.
– Ты вспомни, каким он был деревянным солдафоном, когда приехал, – вспомнила Ленка. – То, что было тогда и сейчас – небо и земля. Ильнур растёт. Если с ним поработать, из него может выйти толк.
Судя по тому, как она щёлкнула пальцами, Крапивин понял, что она уже всё для себя решила. Он слишком хорошо знал этот её жест, знал, что Захар в последнее время стал реже бывать у неё, а Ильнур, общение с которым раньше ограничивалось исключительно репетициями и школой, наоборот, регулярно стал наведываться в чудесную квартиру с высоченными потолками на Космонавтов. Она говорила, что звала его к себе исключительно по просьбе Поскряковой, но Крапивин ясно понимал, что дни Захара в качестве её официального камер-пажа были сочтены. Просто «императрица» нашла себе нового фаворита. Как хорошо, что у него с самого начала хватило ума не участвовать в этой игре и не исполнять отведенной ему роли в этом спектакле.
– Значит, Ильнур, – повторил он, выпуская дым вверх в небо, к вершинам деревьев.
– Ты прости, но он сейчас из всех вас самое заинтересованное лицо. Вам больше нет дела до «Эксперимента».
Крапивин подумал, что она хотела сказать, что им нет дела до неё, но выразилась более дипломатично.
– Это не так. Просто пришло время смены декораций. Но скоро всё утрясётся.
– Ничего не утрясётся, Вадим. Прошлого не вернёшь. Вы для меня навсегда останетесь друзьями. Но если речь идёт о дальнейшей работе, то нужно с нуля делать новый театр. Поверь. Ильнур один из всех вас к этому готов.
Крапивин помолчал, думая, что, наверное, по-своему, она была права. Однажды он буквально на одну секунду увидел, что будущее абсолютно темно, что в нём нет ничего того того из, что можно представить о нём сейчас, даже приблизительно, потому что оно по самой своей природе существовало как трагическая насмешка над всеми человеческими представлениями. Это прозрение показалось ему столь неожиданным и мучительным, что он не смог удержать его достаточно долго, для того чтобы как следует рассмотреть. Когда оно обрушилось в темноту, он почти с удовольствием забыл о нём, начав думать о чём-то другом.
– Куда он собирается поступать?
– Хотел в военное училище, но теперь подаёт документы в Авиационный институт.
– Ты отговорила? Чтобы оставить при себе?
Крапивин знал, что у них в городе не было военных училищ. Если бы Ильнур решил пойти по стопам отца и стать офицером, он неминуемо должен был уехать.
Глядя на его ироническую ухмылку, Ленка искренне возмутилась:
– Можно вопрос? Я хоть когда-нибудь кого-нибудь из вас от чего-то отговаривала? Поговорить, посоветовать – могла. Но боже упаси…
– А ставить что будете? Есть какие-нибудь мысли? Не могу поверить, что у тебя нет ничего на примете.
Она сдёрнула со скамейки свою плетёную сумку.
– Пойдём, покажу.
Крапивин, набрав в рот минералки, отрицательно покачал головой. Ему хватило и того, что он угадал. Всё, как всегда, было решено наперёд.
– Галимову покажешь.
– Ты обиделся? Тебе неинтересно? – Ленка по своему обыкновению попыталась дотронуться до него рукой.
– Просто не могу. Прости. Больно. Поеду.
– Зайди хотя бы кофе попить, – на её лице возникла плаксивая гримаска, к которой, выдержав её жалобный взгляд, он на этот раз остался безучастен.
– Нет. Нужно собрать вещи. Зимой приеду, посмотрю, что вы тут без меня натворили.
Встав со скамейки, он пошёл по направлению к памятнику, зная, что она смотрит ему вслед.
17
Мать рвалась ехать с Крапивиным в Москву, будучи уверенной, что без неё он, наделав в столице кучу непоправимых чудовищных глупостей, пропадёт. Но он твёрдо настоял на том, чтобы ехать одному. «Или останусь здесь учиться в ПТУ на дворника».
– Ладно, я позвоню тёте Наде в Балашиху. Знаешь, где это? По той же самой ветке с Курского вокзала.
«Тётей Надей» мать называла свою тётку, родную бабкину сестру, в доме которой провела несколько счастливых лет своего детства, пока её мать, потерявшая на войне мужа, пыталась устроить свою личную жизнь.
– Да знаю, я всё знаю, – досадливо отмахнулся Крапивин. – Оставьте меня в покое.
– Если что, сразу к ней!
Вступительные экзамены на Физтехе проводились на две недели раньше основного потока, чтобы срезавшиеся абитуриенты могли подать документы в какой-нибудь другой вуз. Избегая дурной тревожной суматохи, царящей в доме, неотступно преследовавшей его все последние дни перед отъездом, он старался при первой возможности вырваться и побыть в одиночестве.
Крапивин садился в автобус и ехал в старую часть города, где часами бродил по пыльным малоэтажным улицам, словно пытаясь затеряться в бесконечных арках и кирпичных лабиринтах дворов. Ему хотелось пропасть, сгинуть, раствориться в книжных магазинах, в потных дешёвых забегаловках, кофейных, чайных, в темнеющих развалинах торговых рядов… Но, делая круг, он неизменно выходил к скверу возле Главпочтамта с единственным в мире памятником сидящему Ленину.
Его не покидало ощущение, что с миром творится что-то неладное. И чем больше он укреплялся в этом тревожном и бессильном чувстве, тем всё более оптимистичным и радостным становился отец, ожидавший в скором будущем самых радостных перемен к лучшему. Всё выглядело так, как будто это он только-только начинал жить, а Крапивин, которому все прочили большое счастливое будущее, готовился к смерти.
«Ельцин вышел из коммунистической партии! Ты это видел? Оставил партийный билет на трибуне съезда и вышел из зала, ни разу не обернувшись. Ни разу! Всё. Конец. Доигрались бандиты! Кончилось ваше время».
Мать пыталась усиленно накормить его на пять лет вперёд, чтобы он смог избежать подстерегающей его в Москве голодной смерти, гладила ему рубашки, повторяя, как заклинание, что они его не бросят и каждый месяц почтовыми переводами будут высылать на его имя денежные переводы.
– Вадим, тебе нужно купить приличный костюм. К выпускному мы тебе не купили, ты отказался…
– Не нужно, – отмахнулся он.
– В чём же ты будешь ходить в институт?
– Ты думаешь, в институт все ходят в костюмах?
– Но ведь экзамены!
Последнюю ночь перед отъездом он провёл в деревянном бараке, стоявшем на пригорке, подпираемом бетонными плитами, из окна которого была видна облупившаяся гипсовая статуя пионера, край газетного киоска и трамвайные рельсы под никогда не гаснущим фонарём. Когда трамваи проезжали мимо, на полке в буфете звенела посуда. В бараке, недалеко от старинного здания, где в годы войны находился эвакуированный исполком Коминтерна, в коммунальной квартире жила его бабка.
Было душно, и Крапивин почти не спал. Несколько раз вставал и по скрипучим половицам пробирался на кухню, становясь под висящее на гвозде большое жестяное корыто, и пил из кружки самую вкусную в мире холодную воду (ему казалось, что бабкин водопровод был напрямую подключён к какому-то живительному подземному роднику). Потом снова ложился на спину, закидывая руку за голову, и снова вспоминал, вспоминал…
После того как отзвенел последний звонок, они, сделав крюк по району, через полчаса вернулись обратно в школу. Дверь открыл ночной сторож – рок-музыкант Рэнди – космический человек с льняными волосами и самыми спокойными серыми глазами во Вселенной, которого они заранее посвятили в свой план.
Идея продолжить ночью празднование пришла к Крапивину внезапно. В девочках, стоявших в белых школьных фартуках на школьном крыльце с букетами сирени, он увидел что-то цветущее и одновременно невыносимо прощальное, чего его сердце не могло вынести. Его неудержимо потянуло к апогею, он мгновенно понял, что эта дерзкая выходка должна стать финалом-апофеозом, их последней, кульминационной художественной акцией.
Поднимая учительский гранёный стакан со «Столичной», ища поддержки у висящего на чисто выбеленной стене портрета Макаренко, он говорил о подошедших к концу чудесных школьных годах, о том, что в это невозможно было поверить, о неумолимом течении времени, чудовищную, разрушительную силу которого они впервые ощутили только сейчас. Сокрушался, сожалел, высказывая надежду, что никто из них никогда этого не забудет. Потом предавался будоражащим воспоминаниям, пел под гитару, слушал магнитофон, танцевал… Часа в три ночи, когда не хватило, он пошёл с Наташей Нифонтовой к ней домой за отцовским самогоном (её родители уехали на дачу). Ему казалось, что грохотом кабины лифта они разбудят весь дом.
Он стоял в коридоре, прислонившись к стенке, и смотрел на туманные отпечатки босых Наташиных ног на полу. Потом по звукам пытался определить, что она делает на кухне. Она открывала какие-то шкафчики, выдвигала ящик стола и звенела бутылками. Наконец, в тишине послышалось приглушённое журчание. Ему казалось, что она наливает через воронку, но Наташа вернулась с банкой из-под баклажанной икры, наполненной вязкой прозрачной жидкостью и закупоренной белой пластмассовой крышкой.
– Пойдём? – спросила она, вручая её Крапивину.
– Сейчас пойдём.
Он поставил банку на ящик для обуви и молча притянул её к себе. Наташа не сопротивлялась, только успела шумно вздохнуть, прежде чем он жадно впился ей в губы и остервенело начал мять её грудь.
В шесть утра, оглашая окрестные дома пением гимна Советского Союза, они торжественно взвили флаг, найденный в Пионерской комнате, и вынесли его из школы. Рэнди с тихой улыбкой христианского святого наблюдал за этим пьяным утренним безобразием. Его благодарили за приют, обнимали и пытались расцеловать. Только дойдя до остановки, вспомнили, что забыли на подоконнике в учительской букет сирени…
Перед самым рассветом Крапивин почувствовал, как по бабкиному бараку разносится отчётливый запах сирени. Это его успокоило, и он даже смог забыться неглубоким чутким сном. Но уже через полчаса был разбужен истерическим звоном будильника.
Позавтракав овсяной кашей с варёным яйцом и выпив сладкого чая, он подхватил чемодан и бодрым утренним шагом отправился на трамвайную остановку в сторону парка Якутова.
Вокзал находился в низине, возле реки, поэтому поездка к нему напоминала непрерывный пятнадцатиминутный спуск по канатной дороге мимо выцветших кирпичных пакгаузов и ветшающих деревянных домов. «Я качусь куда-то вниз, вниз…» – думал Крапивин, глядя в мутное трамвайное окно. Напротив него дремал раскрасневшийся пьяный мужик с малиновой шеей, изо рта которого на рубашку стекала слюна.
На вокзале было по-летнему грязно и пахло углём. Лёгкий, ещё прохладный ветерок катил по асфальту бумажный стаканчик. Милиционер в сиротливых мятых брюках проверял документы у мужчины с запекшейся на лице кровью. До начала посадки на «фирменный» оставалось ещё минут двадцать. Поставив чемодан между ног, Крапивин присел на жёсткое деревянное кресло в зале ожидания. Мимо него стали ходить абсолютно чужие люди с сонными некрасивыми лицами, глядя на которые ему вдруг стало ясно, насколько он теперь беззащитен перед миром и одинок. Вся его прошлая жизнь осталась где-то там, на горе, с которой он спустился на трамвае и на которую, в силу необратимости времени, подняться теперь было невозможно. Крапивину стало жалко, но не себя, а всех тех, кто остался там. Ему казалось, что он предаёт и бросает их.
Когда поезд уже вот-вот собирался тронуться, он увидел выбежавшего на перрон Захара. Для Крапивина его появление стало полной неожиданностью. Они простились накануне, в парке, в котором провели чуть ли не половину всей своей бурной мятежной юности.
Захар просил, чтобы Крапивин писал ему письма, которые он будет читать тоскливыми осенними вечерами. Он сказал это таким тоном, словно бы не надеялся, что Крапивин напишет, и заранее упрекал его в этом.
– Ладно, так уж и быть, напишу, душа Тряпичкин, – пообещал Крапивин, кладя ему на плечо руку. – Да, я, скорее всего, на Новый год приеду. Или в феврале после сессии, на каникулы, – предположил он.
Захар вдруг вспомнил, что, гуляя в парке, они почему-то за все годы ни разу не прокатились на чёртовом колесе. Это и в самом деле было странным.
Купив два билета, они сели в подвешенную на цепь синюю раскачивающуюся кабинку. Из-за вершин деревьев показался козырёк драмтеатра. Внизу служащий парка ручной косой срезал одуванчики, окружившие скульптурную группу «Три медведя». Сделав один безмолвный круг под тихо плывущими облаками, умиротворённые, спустились на землю.
Теперь, стоя на перроне, Захар напоминал разъярённого быка. Он часто дышал, раздувая ноздри, крутил головой и сжимал свои огромные кулачищи, пытаясь взглядом отыскать нужный вагон. Крапивин вскочил и что было сил потянул вниз оконную створку. Но она намертво вросла в деревянную раму, так что не сдвинулась ни на миллиметр. Тогда он стал стучать костяшками пальцев по стеклу и звать: «Саша! Саша!»
Захар услышал, встрепенулся, подбежал к окну и, подняв вверх руки, приложил ладони к стеклу. Крапивин увидел, что они были абсолютно бледны. Он сделал то же самое. В этот момент поезд тронулся с места и поплыл вдаль от круглого выпуклого циферблата, на котором дёрнулась и замерла тупая чёрная стрелка. Захар, ускоряя шаг, пошёл за ним, глядя на Крапивина и не желая отнимать от стекла рук.
