№11.2021. Андрей Новиков. Квакушки в кляре. Житейские истории
Андрей Вячеславович Новиков родился 26 декабря 1961 года в с. Алабузино Бежецкого района Тверской (Калининской) области. После службы в армии поступил в Литературный институт им. А. М. Горького на факультет поэзии (семинар В. Кострова).
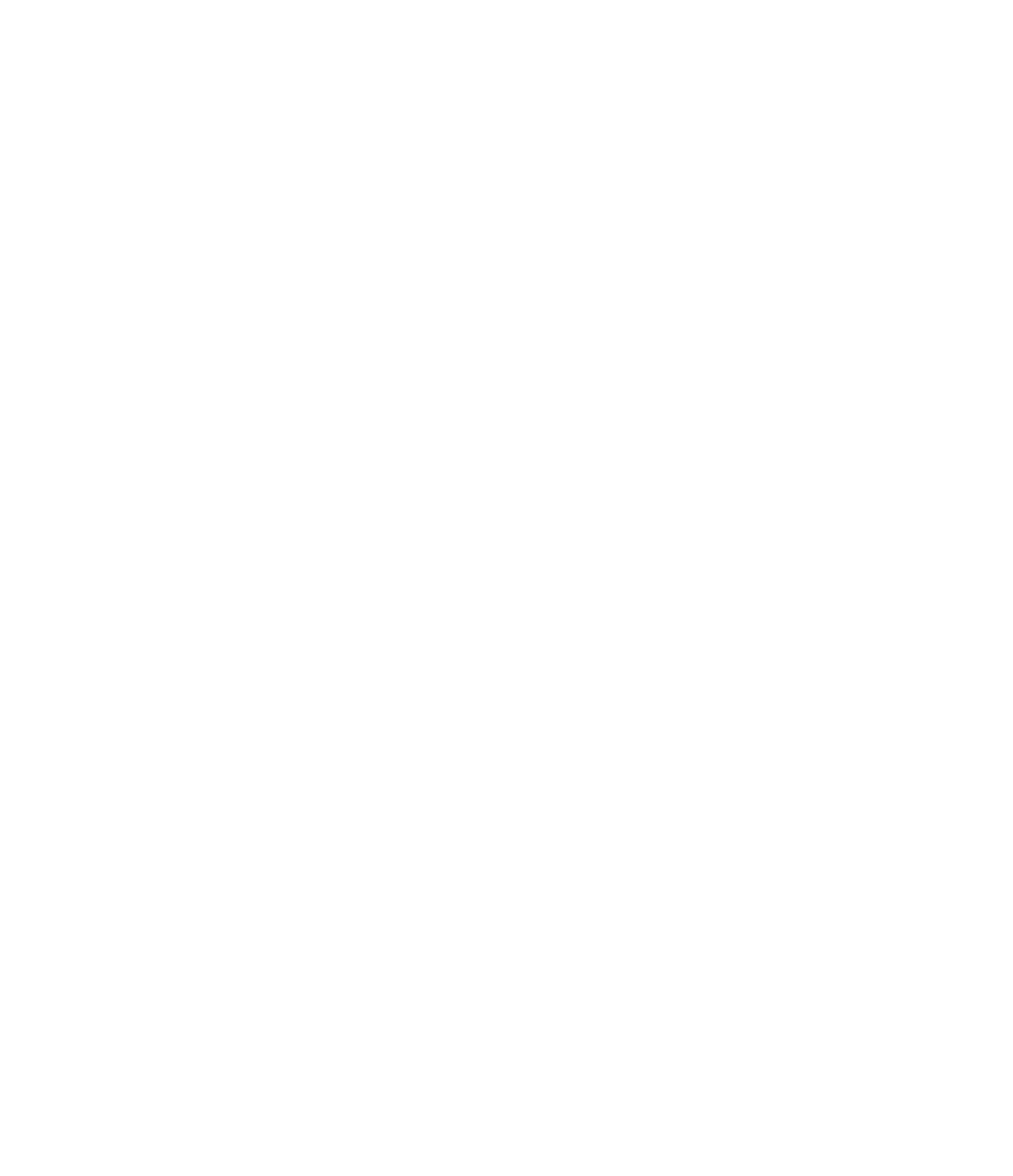
Андрей Вячеславович Новиков родился 26 декабря 1961 года в с. Алабузино Бежецкого района Тверской (Калининской) области. После службы в армии поступил в Литературный институт им. А. М. Горького на факультет поэзии (семинар В. Кострова). После окончания института 25 лет работал журналистом. Публиковался в «Литературной газете», в газете «Московский комсомолец»; в журналах «Подъем», «Нева», «Сибирские огни», «Сура», «Байкал», «Симбирскъ», «Александръ», «Молодая гвардия», «Волга ХХI век», «Русское Эхо», «Сибирь», «Зензивер», «Крым», «Студенческий меридиан», «Южное сияние», «Север», «Литературная учеба», «Петровский мост», «Литературная Киргизия» и др.; в альманахах: «Поэзия», «День поэзии», «Паровозъ», «Тверской бульвар – 25», «Академия Поэзии». Автор шести книг. С 2015 года возглавляет региональное отделение Союза писателей России в Липецке. Секретарь СПР.
Андрей Новиков
Квакушки в кляре
Житейские истории
Журавль у дороги
Огромного деревянного журавля на въезде в деревню бывший председатель колхоза «Светлый путь» Тимофей Ильич мастерил целый год. Птица получилась строгих пропорций, ладно и просто скроенной по исполнению и замыслу, высотой с трехэтажный дом и серебрилась неокрашенным деревом. Колхоз «Светлый путь», несмотря на оптимистическое название, давно приказал долго жить и стоял на берегу Дона с разрушенными коровниками и покосившимися домами. Тимофей Ильич от своего многолетнего председательства никакого богатства не нажил. Даже при разделе колхозного имущества он взял себе только старенький грузовик, стоящий теперь сиротливо у дома на спущенных лысых шинах. Да еще ему достался велосипед, на котором пожилой человек ездил на рыбалку и в магазин. А вот Журавль стал приметой и гордостью всего района. На дивную деревянную птицу приезжали посмотреть даже столичные журналисты. Встречал Тимофей Ильич любознательных деятелей пера так:
– Ты у меня был?
– Нет.
– Ну, тогда заходи.
Вначале журналиста хлебосольный Тимофей Ильич кормил и поил, а после просил с ним спеть под гармонику. Этот популярный инструмент мастер не только коллекционировал всю жизнь, но и сам изготавливал. Сыграв перебор, Тимофей Ильич назидательно замечал:
– Самое сложное правильно «отковать» у гармоники из латуни голоса!
Мастером Тимофей Ильич, конечно, не родился. Большую часть жизни он шоферил, за баранку грузовика сел в голодном сорок седьмом году.
– На фронт я не попал, возрастом не вышел, но знаешь, как я работал после войны? – вопрошал он у журналиста и сам себе отвечал: – По двенадцать часов за баранкой, а еды не было тогда. Положу в карман пригоршню квашеной капусты – на целый день!
Служил Тимофей Ильич в армии на аэродроме, и здесь умелец прославился. Изготовил командиру части ванную из того, что нашел – оцинкованного кровельного железа. Но ванная получилась знатная, двухместная, не хуже, чем показывают в американских фильмах. Парился в ней полковник с ветреной прапорщицей-телефонисткой, а поощрил рукастого солдата именными часами и отпуском на родину.
Председателем колхоза выбрали Тимофея Ильича накануне перестройки, он не особенно хотел идти на эту хлопотную должность, ибо уже разменивал шестой десяток жизни. Так хлебнул Тимофей Ильич и оголтелой антиалкогольной компании, и несуразной гласности. Особенно раздражало его слово «мышленье» из уст главного перестройщика. Тимофей Ильич на этом слове выключал телевизор, приговаривая:
– Так тебя бы и двинул в лоб, Мишка-меченый.
Он точно знал и чувствовал, что идет к очередной беде – плутовской демократии, окончательно разрушившей колхоз-миллионер.
Особенно было ему обидно, когда заезжий демократический агитатор обозвал Тимофея Ильича «партократом». При этом гость чванливо стоял перед ним и тщательно обрабатывал пилочкой для ногтей свои холеные пальцы.
Смотрел на него председатель растерянным взглядом и вспоминал, как с пятилетнего возраста пас гусей, в девять лет уже самостоятельно запрягал лошадь, а в четырнадцать встал к станку на эвакуированном заводе.
«Какой я тебе, перестроечная шельма, партократ! – высказал Тимофей Ильич. – Ты даже не представляешь, как в жизни работать нужно, у меня с тридцати лет от труда контрактура рук…»
Когда Тимофей Ильич все же вышел на пенсию, то решил окончательно посвятить себя любимому занятию – работе по дереву. За этот год бывший председатель успел многое – превратить свой небольшой дом в изящную резную шкатулку, сплошь украшенную балясинами, точенными на списанном токарном станке. А на самом коньке крыши водрузил деревянный самолет, пропеллер которого вращал ветер. Как говорил деревенским мастер, самолет он сделал в память о службе в авиации. По этому неожиданному увлечению, можно сказать, по художественному поводу у Тимофея Ильича возник небольшой семейный конфликт, когда благоверная в сердцах воскликнула:
– Да замахал ты своими точенками всю семью!
Но Тимофей Ильич не унимался, и следующим творением стал фонтан у дома. С фонтаном вышла и вовсе курьезная история, когда безобидное водометное сооружение вдруг запретил начальник местного ГИБДД. По его уверениям, фонтан отвлекал внимание проезжающих по деревне водителей и создавал аварийную обстановку. Однако Тимофей Ильич обжаловал суровое решение районного гаишника у губернатора области. Высокий начальник уже был наслышан о знаменитом деревянном журавле и народного умельца принял.
– Начальник ГИБДД утверждает, – серьезно начал разговор губернатор, – что в твоем фонтане рыбы прыгают и водителей на дороге отвлекают.
– Это правда, – согласился Тимофей Ильич, – но ведь нет такого закона, чтобы фонтан запретить, за воду я исправно плачу.
– Только в толк не возьму, почему у тебя рыбы прыгают? – допытывался губернатор.
– А я воду в фонтане чуть закоротил, – лукаво признался Тимофей Ильич.
– Ладно, – захохотал губернатор, – фонтан я разрешу, но рыбу электричеством больше не бей, а то, выходит, прав гаишник, говорит, что на твоих прыгающих рыб шоферы шеи выворачивают!
Эта радость с разрешением вновь запустить фонтан оказалась последней в жизни Тимофея Ильича. Выходя из кабинета губернатора, он еще не знал, что болен раком. Прожил бывший председатель всего три месяца: саркома развивается быстро. Давно нет в живых народного мастера, а вот его деревянный журавль все так же стоит у дороги на въезде в село, и все так же благодарно вспоминают бывшего председателя его земляки.
Дядя Запуперя
Жил дядя Запуперя в старой бане, дом родной сестре отдал, а что было делать – сестру муж-алкоголик выгнал из городской квартиры с двумя ребятишками. А почему его Запуперей по-уличному звали, есть на то своя легенда. Рассказывают, при рождении бабка-повитуха ему каким-то необычным узлом пуп завязала.
Был у Запупери единственный друг – кот Бублик. Много лет они вместе прожили, долгими вечерами на соломенном матрасе лежали и по старенькому радиоприемнику политику слушали. Любил дядя Запуперя политику, а кого политика в деревне интересует? Одного кота Бублика, единственного в деревне трезвого собеседника.
Лет пятнадцать кот Бублик политику Запупери внимательно слушал. Но велик ли век кота? Постарел Бублик и оглох. Решил Запуперя, что негоже коту в этой жизни от старости мучиться, и задумал он Бублика утопить.
Посадил кота в сетку из-под картошки, взвалил на плечо и пошел на пруд. Бросил сетку с котом в пруд, смотрит – Бублик в сетке барахтается, и натуральные слезы у кота текут.
Тут сам Запуперя от горя заплакал, вспомнил, как с Бубликом на этот пруд многие годы ходил ротанов ловить, схватил палку на берегу, подцепил сетку с котом и вытащил – пусть Бублик и дальше живет.
Пошел Запуперя к сестре с мокрым котом и рассказал эту трогательную историю. Одобрила сестра Запуперин поступок, хорошей приметой назвала. И как в воду того пруда мудро заглянула, вскорости пришла к одинокому Запупере большая любовь.
Купила дом в деревне круглолицая горожанка Наденька. Дом на внешний вид добротным казался, а вот изнутри гнилым был – месяца не прошло, упали перевод и потолок, чудом Наденьке на голову не обрушился.
Пошла она по деревне мастера искать. Зубы у Наденьки золотые, лицо как луна в полнолуние, словом, по меркам Запупери – просто красавица и мечта всей жизни. Стоит Наденька с сынком Димой перед Запуперей и говорит:
– Дима, давай Ивана Васильевича к себе жить примем, костюм ему купим с галстуком и зубы вставим.
Тут вовсе сомлел Запуперя, ведь по имени-отчеству его никто никогда не называл.
Только сынок Наденькин, Дима, смотрит на Запуперю исподлобья, носом шмыгает:
– А батько мы куда денем?
Стал Запуперя Наденькин дом поправлять, потолок поднял, а Наденька уж просит баню поставить и штакетник.
А где стройматериалы взять? Племянник на гараж стройматериалы припас, так пришлось их в дело пустить. Хорошо, что племянник в отъезде был. Строит Запуперя Наденьке баню, а она возьми и загуляй.
Приходит Запуперя к сестре жаловаться:
– Валя, никого так в жизни не любил, увидел – сердце защемило, – со слезами на глазах жалуется Запуперя.
А сестра ситуацию поняла, но решила не вмешиваться, дескать, пусть сам разберется, и говорит брату:
– Ну, что ж, любовь бывает и поздняя.
А Наденька брачное объявление дала. Приехали на это объявление два кавказца, вышли из машины, на Наденьку посмотрели и даже хотели побить:
– На фиг ты с такой рожей объявление даешь? Мы такое расстояние отмахали.
Вернулась Наденька к Запупере, у его бани на майском солнышке лоскутное одеяло расстелила и загорает нагишом.
Смотрела сестра на ее моцион и не выдержала, взяла совковую лопату и давай Наденьку по голой заднице охаживать. Так и убежала нагая Наденька огородами к себе в дом.
Пока Запуперя баню строил да у племянника стройматериалы таскал, Наденька ему сосиски варила и кисленького самодельного винца наливала. Наварит компот из дичков да дрожжей добавит. А как Запуперя стройку завершил – любовь закончилась. Ни сосисок, ни винца. Придет, а Наденька на крыльцо замок повесит и двором ходит. А потом строителю сама счет предъявила:
– Я тебе тысячу рублей на штакетник давала, а ты мне его не поставил.
– Мне этой тысячи только на половину досок хватило.
– Это не мое дело, – напирает Наденька, – взялся – доделывай, или тысячу возвращай. А если нет денег – отдай тележку.
Пришлось тележку отдавать, а тележка на селе – первое дело. Воды бак с колонки привезти, дров, перегной.
Увидела сестра, как Запуперя утром дрова на горбу тащит, и говорит:
– Ну что, старый дурак, строил, строил Наденьке и еще сам должен остался? Как теперь без тележки жить будешь? Правда, любовь зла. Обула тебя Наденька, зубы в задницу вставила и галстук на мошонку повесила. Говорят, к Наденьке муж вернулся, в отремонтированный тобой дом, и в бане, тобой построенной, теперь парится.
Молчит виновато Запуперя, только старого кота – самого верного друга поглаживает и вновь политику по радиоприемнику слушает.
Говорунчик
У Тамары Дворецкой было два высших образования – педагогическое и инженерное, а трудилась она в колхозе простой дояркой. В прошлом жительница Санкт-Петербурга, вдова начальника райотдела милиции, во времена перестройки потеряла работу технолога на текстильной фабрике и решила вернуться в родную деревню, в доставшийся ей по наследству родительский дом. Двухкомнатную квартиру, практически в самом центре северной столицы, в пяти минутах ходьбы от знаменитого Невского проспекта, она оставила повзрослевшему сыну, который обзавелся семьей и пошел по стопам отца, став офицером угрозыска.
Обустраивалась Дворецкая в родных местах очень непросто, даже пожалела, что вернулась. Знания в области текстильной промышленности в дышащем на ладан колхозе ельцинских времен оказались никому не нужны, не нашлось ей работы и в местной школе, начальники от народного образования указали ей на отсутствие педагогического стажа и полной невостребованности ее педагогического диплома – преподавателя французского языка. Имела право она преподавать еще и немецкий, но эти часы в школе были заняты, да и, если говорить честно, Дворецкая давно забыла не только немецкий, но и основной свой язык по вузовскому диплому. Тамара Алексеевна и сама это прекрасно понимала, ибо владение иностранным языком требует постоянной практики. В итоге, приведя в порядок родительский дом, Дворецкая решила на жизнь не роптать, а пойти работать дояркой. Сын писал и звонил очень редко, но регулярно присылал небольшие денежные переводы. Тамара на него обижалась, но только на словах, в разговорах с подругами, а в душе обиды не было. Она понимала, какая у сына тяжелая работа – преступников милиция ловит без праздников и выходных. Она хорошо помнила, как на этой работе, буквально в сорок лет «сгорел» ее бывший муж. Умер от сердечного приступа прямо за рабочим столом. Дворецкая очень переживала, что сын после армии пошел работать в милицию, всячески отговаривала его, убеждая, что ему – золотому медалисту – прямая дорога в любой ВУЗ, однако сын твердо сказал, что хочет пойти по стопам отца, и начал свою карьеру в милиции сержантом ППС. Затем заочно окончил юридический и перевелся в угрозыск.
После переезда в деревню, через некоторое время, в жизни Дворецкой появился мужчина. С Николаем Кузнецовым, или как его звали по-деревенски – Колька Кузеня, она сидела еще в детстве за школьной партой. После школы Колька даже сватался к Тамаре, а когда она поступила в пединститут в Ленинграде, Кузеня уехал вслед за ней, поступил учиться в строительный техникум, но буквально через месяц попал в этом огромном городе в нехорошую историю. Он возвращался с учебы в общежитие, и в трамвае на ногу Кузене наступила женщина острым каблуком. Боль была такая, что у Кольки вырвалось нецензурное слово, а поскольку Коля был еще и не совсем трезвым – выпил две кружки пива с приятелями-студентами, то донельзя оскорбленная гражданка сдала Кузеню в милицию. Кольку осудили на год за хулиганство, наказание назначили условное, но исключили из техникума. Эта история окончательно расстроила их отношения с Тамарой, ибо она не хотела выходить замуж за пьяного хулигана, и Кузеня с позором вернулся в родные места. Семью он так и не устроил, работал трактористом и жил с родителями, пока они не умерли. Впрочем, жил он неплохо. Отец Кузени всю жизнь работал завхозом, и родительский дом для Кольки был полной чашей. В четырнадцать лет Колька выпросил у родителей двухскоростной мопед и японскую магнитолу, о чем конечно не могли даже мечтать другие деревенские дети. В шестнадцать лет Кузене купили великолепный чешский мотоцикл «Ява». Колька к этому возрасту уже потягивал спиртное и дорогой мотоцикл умудрился разбить через несколько месяцев. Дело было поздней осенью, Колька в модной белой дубленке выехал на ярко-красной «Яве» со двора, набрал приличную скорость, но плохо управляемый на мокром асфальте мотоцикл понесло прямо на придорожный бетонный столб. К счастью, сам Кузеня не ударился, улетел в кусты, а вот мотоцикл буквально переломился и обгорел от вспыхнувшего бензобака. Несмотря на это, родители продолжали баловать единственного сына и на восемнадцатилетие уже подарили сыну «Запорожец». Автомобиль продержался у Кузени два года. Как-то Колька поехал с приятелями на ночную рыбалку. Когда они наловили сетью два мешка рыбы и стали варить уху на костре, при этом, конечно, продолжая выпивать, «Запорожец» прямо на глазах всей честной компании скатился с обрыва и, перевернувшись на крышу, исчез в реке. Кузеня просто забыл поставить машину на ручной тормоз. Больше родители Кольке никакую технику не покупали, хотя он еще несколько лет после этого просил мотоцикл с коляской.
Когда родители умерли, Кузеня пропил все, что было ими нажито за многие годы, вплоть до постельного белья и посуды. Ел и пил из одноразовых пластмассовых стаканов и коробок от китайской лапши, спал на диване прямо в одежде. Трактористом он уже не работал, попал в глупое ДТП. Угораздило приехать в район какого-то крупного столичного чиновника, лимузин знатного гостя буквально въехал под Колькин трактор. Кузеня в этот день отправился за соляркой в райцентр и дорожную аварию описывал приятелям так:
– Еду я, мужики, по дороге спокойно, погода отличная, еду и песни пою, уже и заправка показалась на въезде в райцентр, как вдруг чую, моя задница сама по себе вверх поднимается, колеса трактора тоже вверх пошли, а морда моя сама по себе плавно на руль ложится.
– Неужели ты даже удара не почувствовал? – недоумевая, переспрашивали его мужики. – Быть такого не может!
– Ей Богу, – крестился Колька, – когда меня этот лимузин сзади догнал и под мой трактор ушел, никакого удара я не ощутил, только началась с моим телом какая-то цирковая акробатика!
Возможно, Кузеня и не был виновником ДТП, но за руль трактора он сел нетрезвым, а приехавшие на место аварии гаишники сильно Кольку прессовали:
– Ты почему, сукин сын, не пропустил машину с флажковыми номерами?
Разумеется, о существовании блатных «флажковых» номеров Колька ничего не знал, хорошо, что в начальственном лимузине никто не пострадал, но Кузеня получил в жизни еще один условный срок и лишился водительских прав. Восстанавливать он их так и не стал, устроился работать на лесопилку.
Когда Тамара приехала в деревню, Кузеня появился у ее дома в тот же вечер. Коля с трудом сидел на стареньком велосипеде, пьяный, грязный, и, постучав в веранду, закричал:
– Тамарка, дай сто рублей!
– Хоть бы поздоровался, – осекла его Дворецкая. – Столько лет не виделись, и на тебе – дай сто рублей, – передразнила его Тамара.
– Ну, хоть пятьдесят дай, – сделал жалобную физиономию Кузеня, – не похмелюсь – точно помру!
– Не дам, – твердо отрезала Тамара, – и занимать на выпивку лучше не заходи!
Кузеня уехал, но через полчаса вернулся с бутылкой, Тамара смотрела из окна, как Колька осушил ее прямо из горлышка. Но в дом Кузеня ломиться не стал, охмелев, грузно присел на порог дома и тут же уснул до утра.
На рассвете он еще раз постучался к Тамаре:
– Тамарка, – сказал Кузеня, протягивая невыспавшейся Дворецкой новые зеленые резиновые мужские сапоги, – купи у меня сапоги, хотя бы за полтинник?!
– Ладно, – немного подумав, сказала Тамара и отдала Кузене пятьдесят рублей. Но вечером она заглянула в Колькину избу и поставила сапоги у порога:
– Отдаю назад, – строго сказала Дворецкая, – но с условием, что ты их не продашь. Дурень, в чем ходить будешь?
Колька грустно посмотрел на свои грязные, уже разбитые артритом ноги и виновато ответил:
– Обещаю, не продам.
Кузеня сдержал свое слово, стал приходить в гости к Тамаре трезвым. Однажды Коля зашел к Тамаре после бани, неожиданно принес бутылку молдавского коньяка, и они допоздна засиделись за ужином. Вспоминали детство и юность. Тамара заметила, что Колька может не материться, а нормально разговаривать. Растрогавшаяся от нахлынувших чувств, женщина оставила его на ночь. А утром Кузеня предложил Тамаре стать его женой.
Тамара засмеялась, но, немного подумав, недоверчиво ответила:
– Официально оформлять отношения, конечно, я с тобой не буду. Зачем мне муж алкоголик? Но мужик в доме нужен. Хочешь – приходи и живи, но только по моим порядкам, а если что не так, сразу выставлю за дверь!
Неожиданная семейная жизнь Коли и Тамары постепенно налаживалась. Дворецкая приодела Кузеню в одежду, оставшуюся от покойного мужа. Коля стал ходить в чистых рубашках, костюмах и в хорошей кожаной обуви. Ничто в нем теперь не выдавало бывшего опустившегося алкоголика. Пить он не бросил, но от страха перед Тамарой вдруг обнаружил, что пить может меньше, а главное – способен вовремя остановиться и не тянуть руку к лишнему стакану.
В колхозе зарплату задерживали, бывало и полгода, но с доярками председатель расплачивался продуктами, работая по бартеру с местным молокозаводом. Тамара приносила с работы молоко, огромные головки сыра, упаковки сливочного масла. За колхозное зерно председатель выменивал муку, крупы, сахар. Так что еда в доме была всегда. Коля и Тамара брали каждый год на откорм телят. Мяса было столько, что фарш на котлеты крутили в большой эмалированный бельевой таз. На лесопилке Кузене хозяин-армянин давал ежедневно за трудодень наличными триста-четыреста рублей. Эти деньги шли на спиртное. Тамара тоже стала выпивать, но умеренно, исходя из некого соображения, чтобы Коле меньше доставалось. Любви между ними никакой уже не было. Они просто были нужны друг другу. Кузеня нуждался в женском обиходе, а Тамара – в мужской помощи по дому. Коля копал огород, его поливал, рубил в лесу дрова и колол их на зиму. В отличие от прочих деревенских мужиков руку на Тамару никогда не поднимал. Да и вряд ли у него это бы и получилось. У Дворецкой была крепкая кость, все женщины в их породе были коренастыми и сильными, даже несколько мужиковатыми, и в обиду себя никогда не давали. Особенно это проявилось в младшей сестре Тамары – Ольге. Она тоже по примеру сестры уехала после школы, но не в Ленинград, а в Воронеж, поступила в медучилище на фармацевта. Однако проучилась всего год и неожиданно для всех вышла замуж за аспиранта-англичанина. Он уже закончил учебу, молодые сразу уехали в Лондон. А чуть позже сестра написала Тамаре несколько удивительных писем о своей новой жизни. Муж-англичанин оказался совсем никудышным, он был потомок шотландских аристократов, которые в своей жизни не работали, наверное, уже лет пятьсот! Русской жене пришлось буквально кормить английского мужа. Хорошо, что еще не было у них проблем с жильем, мужу от родителей досталась небольшая двухкомнатная квартира в пригороде Лондона – Гринвиче. В чужой стране Ольга не нашла никакой достойной работы, кроме как выступать на женских боксерских поединках в лондонских пабах. Вначале ей платили всего пять фунтов за бой. Но от поединка к поединку слава ее в Лондоне росла. Коренастая и крепко сбитая Ольга, не обладая боевой техникой, своими крестьянскими кулаками легко опрокидывала хорошо тренированных и знающих толк в боксе холеных рослых англичанок. Британки от ее мощных апперкотов легко валились на кафельный пол пивбара под неуемные восторги нетрезвых английских мужиков. Скоро русской боксерше стали платить по целой сотне фунтов за один бой. Дальше и вовсе пошли дела удивительные – через несколько лет, освоив английский язык, Ольга поступила в знаменитую лондонскую Высшую школу экономики, а успешно окончив ее, устроилась брокером в один из известных аукционных домов Лондона.
А вот в деревенской жизни Дворецкой произошел очередной перелом. Тамара все чаще задерживалась на ферме. Особенно она любила проводить время с телятами. Телятник – самое теплое, чистое и сухое место на ферме. Здесь содержатся телята от рождения до трех месяцев. Дворецкой нравилось, как их любопытные мордашки выглядывают из клеток и дружно мычат, завидев же знакомую фигуру. Про себя Тамара думала: «Это очень хорошо, значит, телята здоровы и уже проголодались». Она знала, что теленок, как и маленький ребенок, любит заботу и ласку. Особенно ей приглянулся черный теленок с большими глазами, который больше всех радовался ее приходу, ластился в подол своим крутым лбом, смотрел на нее фиалковыми глазами и все время нежно мычал. Она так и прозвала его – Говорунчик. Вскоре Говорунчик превратился во взрослого быка, но Дворецкая любила крупное, сильное, холеное животное еще больше. Ей казалось, что сокрыта в этом особенном быке необычная мужская сила и нежность, чего ей всю жизнь не хватало от своих мужей.
Тамара уже приходила по утрам к быку и обязательно давала животному охапку самого свежего сена.
– Узнал ли ты меня, Говорунчик? – ласково спрашивала она и обнимала тяжелую, шелковую бычью морду. – Любишь ли ты меня, Говорунчик?
А бык в ответ преданно смотрел Тамаре прямо в глаза.
Но благоволил Говорунчик только Тамаре. Нрава бык рос крутого, и его стали побаиваться на ферме. Он бодал неосторожных баранов, бодал коней и даже задирал брехливых деревенских собак. Ходит за ними по деревне, мычит и ногами роет землю.
В одно из воскресений, когда приехала автолавка, бык убежал с фермы и неожиданно появился в толпе покупателей. Настроен был Говорунчик мирно, Тамара хвасталась деревенским бабам дружбой с быком и кормила его у автолавки только что купленным печеньем. В этот момент к Дворецкой подошел Кузеня и стал просить купить ему баклажку пива. День был жаркий. Неожиданно бык ударил подошедшего к Тамаре Кузеню рогами в живот. Стало быть, приревновал. Кузеня только ойкнул и тут же захрипел, а Говорунчик уже катил его рогами по пыльной дороге. Самое удивительное, что никто не испугался, бабы и мужики с воплями лупили Говорунчика кулаками и ногами. Быстро отогнали, окровавленного Кузеню подняли с земли и на этой же автолавке повезли в районную больницу. Умер Колька на больничной койке. Быка закололи на следующий день. После похорон Кузени Дворецкая написала письмо сестре, поведав эту трагическую историю с быком и убитым сожителем. Ответ пришел через месяц и неожиданный: сестра позвала ее жить в Англию и просила выслать номер пластиковой карточки, на которую она переведет ей деньги на дорогу. Думала Дворецкая недолго и собиралась недолго. Конечно, никакой пластиковой карточки у нее не было, но сестре она об этом сообщить постеснялась. Деньги на дорогу нашла – продала по дешевке дом переселенцам из Казахстана. Уехала она тихо, ни с кем не простившись.
Квакушки в кляре
Когда портной Николай Васильевич Усков выходил из запоя, его жена Людмила Ивановна запирала мужа в квартире на ключ, по его же настоятельной просьбе, и Николай Васильевич шил брюки по заказу швейной фабрики, где много лет трудился портным-надомником. Шил он детские школьные брюки, на резинке, по рублю за каждое изделие. Однако мастер в такие дни успевал сшить до семи штук. Работа кипела, утюг шипел паром, ткань резалась и кроилась уверенной рукой, беспрестанно строчила швейная машинка. Рядом с портным на столе сидела собака породы болонка – Пушок. Николай Васильевич в работе беспрестанно полыхал папироской, изредка он втыкал папироску Пушку в зубы. Собака давно привыкла к табаку и послушно дымила тлеющим окурком.
Работать надомником портного пристроила его жена, которая тоже трудилась на швейной фабрике. Людмила Ивановна стеснялась внешности мужа – Николай Васильевич в детстве отморозил кончик носа и ходил всю жизнь с небольшой черной повязкой. Виной всему была мачеха Ускова, которая выгнала его из дома десятилетним ребенком за какую-то мелкую провинность, и ему пришлось несколько дней ночевать на улице, в стогу сена, пока не вернулся из командировки отец. Мачеху он прогнал, но Николай остался на всю жизнь без носа. Вскоре буквально исчез в никуда его отец – офицер НКВД. От родителя ему остался только толстый кожаный семейный альбом, который отец прятал в холщовый мешок от посторонних глаз и даже от собственного сына. С этим альбомом его и забрала к себе единственная родная душа – тетка, сестра матери. А мать Николая умерла при его рождении. Тетка этот альбом велела спрятать и никому не показывать. Но почему, он понял только когда вырос. На дореволюционных фотографиях были предки Николая Васильевича, представители известной дворянской фамилии. Но ничто в этом пареньке не указывало на отпрыска знатного рода. Коля был маленького роста, с большими ушами, и, несмотря на отсутствие носа, стал заметным школьным комсомольским активистом.
После средней школы он выучился на портного, некоторое время работал в Москве, в одном из армейских ателье, но через некоторое время вернулся в родной город и хвастался тем, что когда-то пошил шинель маршалу Буденному. В заказчиках у некогда столичного портного ходил буквально весь город. От шальных денег Николай пристрастился к алкоголю, и от этой пагубы не спасла даже женитьба. Людмила и представить не могла, что выйдет замуж за безносого парня, но Николай так расположил к себе ее многодетных родителей, что они поставили дочери ультиматум: либо выйдешь замуж за портного, либо можешь уходить из дома на все четыре стороны. Дескать, хватит на родительской шее сидеть. Девушка несколько дней рыдала, но потом смирилась.
Работал Николай Васильевич быстро, заезжей на гастроли балерине он, по настойчивой просьбе директора фабрики, за одну ночь сшил шубу из нерпы. Шкуру этого зверя не брала ни одна швейная машинка, но Николай Васильевич шубу танцорке все же сделал, орудуя только толстой иглой и пассатижами. Расплатился с портным любовник балерины, худрук театра, вручив портному пятидесятирублевую купюру. В этот же день Николай Васильевич гонорар прогулял в ресторане «Поплавок», который в то далекое советское время призывно качался на понтонах посреди Комсомольского пруда. Там Людмила Ивановна и нашла своего мужа. Николай Васильевич бренчал на гитаре модную тогда песню:
– А на кладбище все спокойненько…
Песню слушали местные забулдыги и верный пес Пушок с беломориной в зубах.
Супруги вырастили двух сыновей. Старший, Владислав, некогда подавал надежды как футболист, даже сыграл несколько матчей за молодежную сборную страны, но блестящую спортивную карьеру прекратила травма – разрыв мениска. Может быть, и был у него шанс вернуться в спорт, но операция прошла не совсем удачно, о футболе пришлось забыть. Потерявшийся в жизни Владислав стал тихим алкоголиком и фактически висел на шее у родителей. Целый день он пил с отцом дешевый «Солнцедар» и слушал записи Высоцкого на стареньком катушечном магнитофоне «Маяк». Младший сын – Игорь, стал промышленным художником, удачно женился во время учебы в Москве, в Строгановском училище, на дочери директора автомобильного завода. Любящий отец отдал дочери и зятю министерскую квартиру на Ленинском проспекте, обставленную мебелью из карельской березы. Уже в период окончания перестройки сын наконец-то пригласил престарелых родителей в гости, которых долгие годы стеснялся, – привычная история выбравшегося в столицу провинциала. Жена Игоря – Лариса, была известным искусствоведом, постоянно ездила в Париж, слыла поклонницей всего французского. Детей у них не было, избалованная Лариса панически боялась рожать.
Родители ехали в Москву к сыну в фирменном поезде. Николай Васильевич выпросил две бутылки вина в ресторане и утром на перрон Павелецкого вышел с помятой физиономией. Сын заметил родителей в дверях вокзала и посигналил через опущенное стекло югославского автомобиля «Застава», купленного на чеки посылторга.
Николай Васильевич автомобилю удивился, вроде по внешности наш «горбатый» запорожец, но был в авто некий забугорный лоск, изящные линии кузова, покрытого белой и очень качественной эмалью, тщательная отделка салона, лишенного советского минимализма. Машина двигалась по широким, тогда еще полупустым московским проспектам, престарелый портной восторженно крутил головой, вспоминая свою московскую послевоенную молодость. Столица изменилась, разрослась, а он помнил ее еще полубарачной, с черным снегом от многочисленных угольных котельных.
Пока муж с родителями был в дороге, невестка решила попотчевать дорогих гостей экзотическим блюдом – лягушачьими лапками. Накануне она купила их в замороженном виде в Елисеевском гастрономе. Секрет приготовления блюда она познала во Франции, заключался он в специфическом сырном кляре, с виду похожем на вязкую темную карамель.
Когда прошло время дежурных объятий и поцелуев, родственники сели за круглый стол в огромной кухне с барной стойкой и массивным буфетом. Людмила Ивановна есть лягушек не стала, еле заметно фыркнула и, чтобы не обидеть невестку, ковыряла вилкой кляр.
– А вы попробуйте, – настаивала невестка, – это необыкновенно вкусно.
– Да знаю я, – смутилась Людмила Ивановна, – мы в детстве, в войну и после войны, лягушек на реке ели.
– И ракушки пекли на костре, – добавил Николай Васильевич, уже раскрасневшийся от первой рюмки доброй столичной водки, – ракушками и свиней кормили.
Игорь только хмыкнул, идею супруги с приготовлением лягушек он не одобрил, но промолчал.
А Николай Васильевич с интересом хрустел лапками земноводных.
– Не правда ли, – жеманно заметила невестка, – похоже на вкус нежной курятины?
Николай Васильевич, однако, никакого сходства не замечал. Лягушачье мясо отдавало тиной и казалось ему совершенно безвкусным. Он посмотрел искоса на Людмилу Ивановну, и она ответила ему таким же понятным взглядом, в котором читалось только одно: «Вот как они в столице с жиру бесятся!» В глазах Николая Васильевича коричневый карамельный фритюр давно перемешался с таким же коричневым паркетом и добротной темно-коричневой румынской гостиной мебелью. Николай Васильевич испытал вдруг необычное ощущение, будто он сам и есть лягушка в кляре.
– А я нахожу, что вкус сладковатый и похож не на курицу, а на свинину, – решил поддержать жену Игорь, уловив раздражение родителей.
Повисла неловкая пауза, Людмила Ивановна только незаметно ткнула захмелевшего супруга в бок. Но ей в тарелке, в отличие от мужа, виделась другая картина. Лягушачьи лапки поразительно напоминали дебелые девичьи ноги на деревенском пруду, и от этого еще больше подкрадывался к горлу предательский ком тошноты…
Больше сын и невестка родителей в гости не приглашали. А Николай Иванович часто рассказывал эту историю во дворе своим приятелям-собутыльникам:
– Ну и жену сын себе выискал – отца и мать московская курва квакушками в кляре встретила. Какая жадная! Да и сынок-подкаблучник отчудил, лягуху со свининой на вкус сравнил. Это же сколько в болоте нужно свиней наловить?!
Достоинство Ивана Петровича
Всю жизнь Иван Петрович работал в женском коллективе, в небольшой химической лаборатории при заводе, слыл закоренелым холостяком, несмотря на то, что уже разменял пятый десяток. Жил он в рабочем общежитии, в девятиметровой комнате, правда, с сантехническими удобствами в виде душа и унитаза. Эту маленькую комнату Иван Петрович безропотно делил с художником-оформителем Володей Прониным. А чудаковатый, сухонький, с масляными карими глазками художник женился и разводился каждый год. Выбирал он подруг жизни в большом теле, имел нервную привычку все время подтягивать штаны, зимой и летом носить калоши и напиваться в одиночку. Четвертинка с водкой все время лежала в бачке для унитаза. Зайдет Володя в туалетную кабинку грустным, а выйдет румяным и веселым.
Отец Пронина когда-то был шофером председателя райисполкома, от большого начальника, как говорится, с барского плеча, ему досталась списанная «Победа». Автомобиль, сделанный в 1949 году из немецкого железа, был совершенно не подвержен времени. «Победа» досталась художнику по наследству и стояла всегда наготове, прямо под окнами общежития. На автомобиль женский пол реагировал всегда положительно и способствовал любовным успехам.
Впрочем, за этот автомобиль Володя Пронин получил условный срок. Очередная жена как-то загуляла, художник нашел неверную на соседней улице во времянке, голую, пьяную и в компании трех мужиков. Разгневанный Володя привязал веревкой супругу за бампер «Победы» и потащил по улице. Автомобиль медленно полз по зимней наледи, привязанная к нему рыжая, толстая, совершенно голая баба отчаянно выла. Прохожие вызвали наряд ППС. Супругу художник не покалечил, однако уголовное дело и условную судимость – два года за хулиганство – он получил.
Жизнь с похотливым художником и его неудачные романы с дородными женщинами вовсе отвратили Ивана Петровича от мысли создать семью. Впрочем, жил Иван Петрович в комнате в основном один, так как художник часто обитал у очередной жены.
В женском коллективе Иван Петрович был предметом для постоянных насмешек. Сотрудницы лаборатории давно перестали видеть в нем мужчину, при нем примеряли нижнее белье и сплетничали с интимными подробностями о своих знакомых и мужьях. Иван Петрович тихо сидел за своим столом, уши его горели, а когда становилось совершенно невыносимо, выходил нервно курить на улицу. Однако все годы сотрудницы не оставляли попыток устроить личную жизнь Ивана Петровича. Как-то они познакомили его с тихой, разноглазой портнихой Катей. Знакомство состоялось на трамвайной остановке, где Иван Петрович чинно раскланялся перед дамой и вручил ей пластмассовую розу, совершенно ядовитого цвета. Глядеть на Катю было кавалеру очень любопытно, Ивану Петровичу совершенно не удавалось сфокусировать в своем сознании ее лицо, разные глаза портнихи – один голубой, а другой зеленый – как будто дробили ее черты. Но парочка, перекинувшись несколькими ничего не значащими фразами, села в вагон, а через остановку в трамвай вошел контролер, и тут неприятно выяснилось, что Иван Петрович купил билет только себе, и несостоявшуюся невесту контролер со скандалом вывел на улицу. Хитрый Иван Петрович отвернулся к окну и равнодушно смотрел через грязные подтеки стекла на осеннюю улицу. Правда, он впервые в жизни остро почувствовал свое сердце, нет, не боль, а какое-то странное ощущение пауз между его биением.
После этого скандального сватовства женщины из лаборатории Ивана Петровича уже не пытались с кем-то познакомить.
Этой же осенью коллектив лаборатории послали на помощь местному колхозу, на уборку картошки. В автобусе неунывающий Иван Петрович с удовольствием уплетал припасы сотрудниц, шутил. В поле, а день в конце сентября выдался необычно жарким, Иван Петрович разделся до семейных трусов. Но лопату в руки так и не взял. Он достал из сумки маленькую скамеечку, какую обычно гитаристы ставят под ногу, и уселся загорать. Изредка Иван Петрович подходил к работающим женщинам с увесистым бруском:
– Может, кому лопату наточить?
Но в ответ неслось задорное:
– Лучше себе хрен подточи!
Сотрудницы, не разгибая дородных спин, вовсю обсуждали субтильную фигуру Ивана Петровича, его острые колени, тощий, но отвисший живот, сутулую спину.
– Глядите, уселся малахольный, – сетовала начальник лаборатории Татьяна Семеновна. – А может бабы, проверим, мужик он вообще или нет?
После этих слов женщины, словно сговорившись, бросили лопаты и двинулись к Ивану Петровичу. Товарки ловко свалили его в сухую ботву и сняли с изумленного сослуживца семейные, в голубых слониках, трусы.
– Да у него, бабы, писулек с детский пистолетик! – гоготала Татьяна Семеновна. – У моего внука-первоклассника и то больше!
Иван Петрович только сверкал глазами и, криво улыбаясь, натягивал трусы. Женщинам в ответ он ничего не сказал, а по возвращении из колхоза написал заявление в товарищеский суд: дескать, женский коллектив взял и ущемил мое мужского достоинство путем неожиданного голого раздевания.
Если кто еще помнит товарищеский суд в СССР, то это был выборный общественный орган, призванный активно содействовать воспитанию граждан в духе коммунистического отношения к труду, к социалистической собственности, соблюдения правил социалистического общежития, уважения чести и достоинства граждан. В общем, бла, бла, бла… А главная задача незабвенного товарищеского суда заключалась в предупреждении правонарушений и проступков, наносящих вред обществу. Товарищеский суд был призван воспитывать методом убеждения и общественного воздействия.
Только художник Пронин заявления Ивана Петровича не одобрил:
– Дурак ты, Петрович, бабы к тебе сами полезли, а ты свой мужской момент упустил…
Через несколько дней в обеденный перерыв в лабораторию заглянул Илья Сергеевич Савельев, грозный председатель профкома завода и одновременно председатель товарищеского суда.
– Иван Петрович, – чинно обратился Савельев к потерпевшему, – прошу сегодня к семнадцати ноль-ноль явиться в Красный уголок на заседание товарищеского суда.
Народу собралось немного, но и этого количества хватило для соленых шуток, повисших в воздухе, когда собравшиеся узнали, в чем провинились перед Иваном Петровичем женщины из лаборатории.
Призвав собравшихся к порядку, Савельев, открыв заседание, предоставил слово «потерпевшему» от женского любопытства Ивану Петровичу. Пока Петрович рассказывал историю своего обнажения в чистом картофельном поле, смех в зале часто перерастал в гул, а председательствующий, еле сдерживая улыбку, листал книжку «Положение о товарищеских судах».
Вызвали единственного свидетеля, шофера автобуса Мишу Сизова. Миша был не совсем трезв, но на это уже никто не обращал внимания.
– Да что я видел? – переспросил сам себя Миша. – Видел издали его голую задницу, бабы вокруг него столпились и хохотали, я думал, что Петрович нагишом загорать собрался. Ну, сняли с него трусы – не велика беда, все ведь шутки ради, они ведь шишки у своих мужей каждый день видят. Почему сразу суд? Больше мне сказать нечего…
Наконец попросила слова главная виновница происшествия – Татьяна Семеновна. Она, не моргнув глазом, попросила извинения у Ивана Петровича от имени всего коллектива лаборатории, попутно похвалив его как добросовестного работника, однако в конце своего длинного монолога все же не удержалась:
– Все бы ничего, да не мужик он на самом деле…
– Хватит таких оценок! – возмутился Савельев, задумчиво рассматривавший все это время суровые портреты членов Политбюро. – Иначе мы Вас оштрафуем за неуважение к суду!
– А что такого? – улыбнулась Татьяна Семеновна. – Судите нас, право ваше!
Слова ее потонули в очередной волне хохота. Поняв, что суд пора закруглять, Савельев заявил, что решил прекратить прения, и пригласил всех членов суда в соседнюю комнату на совещание. Выбор наказания для женщин был невелик. Товарищеский суд мог объявить общественное порицание, либо ходатайствовать перед администрацией об объявлении выговора, либо о наложении штрафа от десяти до тридцати рублей. Рассудив, что общественное порицание и выговор для работниц лаборатории – пустой звук, заседатели проголосовали за минимальный штраф в десять рублей, и взыскать его следовало с Татьяны Семеновны, заведующей лабораторией.
Уходил Иван Петрович с заседания Товарищеского суда как побитый. Еще бы, за какую-то десятку с него бабы в поле прилюдно и совершенно безнаказанно сняли трусы, потешались над его мужским достоинством. Более того, смеющиеся товарки уже в импровизированном судебном зале стали собирать этот штраф по рядам и передавать деньги Татьяне Семеновне. Сбросились не только на штраф, но и на праздничный стол, за который еще и позвали Ивана Петровича, чтобы выпить «мировую».
Больше всех не унимался шофер Миша:
– Гордись, Петрович, теперь твой никчемный хрен по решению суда стал червонец стоить!
На следующий день Иван Петрович написал заявление на увольнение, отработав положенные по закону две недели, выписался из общежития и уехал из города. Соседу по комнате, художнику Пронину, Иван Петрович лишь тихо сказал, что решил вернуться в деревню и первое время будет жить у сестры.
Книжные люди
После окончания культурно-просветительного училища Аня получила распределение на работу в большое село Подгорное. Оно стояло в девяти километрах от райцентра. Комнату ей пообещали снять у сельской пенсионерки. Рейсовый автобус сломался на середине пути, и Ане, единственной пассажирке, пришлось зимней ночью идти больше часа пешком. Ей даже показалось, что на пустынной дороге, огороженной деревянными снегозащитными щитами, она видела волка. В темноте из придорожных кустов горели два внимательных глаза. Она шла и боялась обернуться. Так и вошла она в темное село, нужный дом спросила у стоявшей у колонки женщины:
– Это вам к Елизавете Дымовой, – опустила оцинкованное ведро закутанная в теплый платок селянка, – вот тот дом, из красного кирпича возле склада, видите, окно горит?
Аня благодарно кивнула и пошла на слабый огонек за красной занавеской. Дом у пенсионерки Дымовой был небольшой, кирпичный, в одно окно, с пристроенным двором из самана. Весь двор был заполнен желтыми и оранжевыми тыквами, часть из них уже успела подгнить. Старушка Елизавета встретила Аню приветливо, быстро оценив, что новая библиотекарша сильно продрогла.
– Автобус сломался, – виновато сказала Аня, – я полдороги пешком шла. Мне кажется, я волка видела, сильно испугалась.
– У нас такое бывает, – кивнула пенсионерка. – Ты полезай-ка на печь, задницу греть, а я щи тебе разогрею.
Аня, молча, с благодарностью влезла прямо в пальто на полати, пахнувшие старыми валенками, шиповником и сухой глиной. Уже через полчаса она согрелась, а бабка Елизавета разогрела щи на электрической плите.
Она подала Ане щи прямо в помятой алюминиевой кастрюле, нарезав несколько пластиков сала и черного хлеба. Эта простая еда показалась Ане самой вкусной на свете. В это время бабка Елизавета, бурча себе под нос, перешла к разговору о личной жизни. На стене, в деревянной рамочке висели старые, пожелтевшие семейные фотографии. Одна была самая крупная, с человеком в военной гимнастерке:
– Вот я с Петром Федоровичем тридцать лет прожила, умер десять лет назад от воспаления легких. Шестерых детей родили, трое померли, а остальных жизнь по всей стране развела. Редко приезжают, внуков всего два раза видела. Мужа всю жизнь по имени и отчеству звала, не так, как теперь у вас принято, в строгости жили, даже ни разу не поцеловались.
Аня от неожиданности поперхнулась щами:
– Как это так, шестерых детей сделали и не поцеловались?
– А что я, – хитро улыбнулась бабка Елизавета, – спать лягу, он сзади пристроится и что-то там ворочается себе, а я вид делаю, что сплю. Так дети и получались, без всяких ваших поцелуев!
Библиотечные дни были похожи один на другой. В натопленном большой металлической печью зале стоял резких запах типографской краски, книг, газет, журналов. Молодая библиотекарша Аня откровенно скучала целыми днями, дожидаясь конца рабочего дня. Уже была прочитана вся периодика, а любимые книги, которые она перечитывала, вызывали теперь раздражение и равнодушие. Она часами смотрела на тихую сельскую улицу, на кладбище, примыкавшее к деревянному зданию библиотеки. Читателей не было. Изредка в библиотеке появлялся кто-то из школьников. Она до сих пор помнит своего первого читателя – смышленого белобрысого подростка, как его почему-то боялась и непонятно почему рекомендовала четырнадцатилетнему мальчишке рассказы Борхеса. Он принес книжку через день, разочарованно признавшись: «Как скучно и куце пишет этот дядя».
Ученики просили книги из школьной программы, иногда забавно путая названия и авторов, не зная, что им вообще нужно. Или просили книжку про войну или приключенческую. Школьная программа ее все более настораживала, даже на привычные басни Крылова она стала смотреть с подозрением. Вот ведь пишет: «На ель ворона взгромоздясь». Сколько же должна весить такая ворона, чтобы «взгромоздиться»? А стихотворение Некрасова о медведе, которого смотритель принял за генерала? Употребил классик неуклюжее сравнение «Мохнатый седачок»? Один из юных читателей и вовсе рассмешил, попросив стихотворение Пушкина «Я помню жуткое мгновенье…» Иногда Аня делала обход по домам должников, книги возвращали в потрёпанном виде, были и с коричневыми следами от тарелки с супом. Библиотекарша только вздыхала и пеняла нерадивым читателям, предупреждала, что книги больше не даст, однако покорно выдавала нужную литературу проштрафившимся читателям.
Путь к домам нескольких должников проходил прямо через кладбище: так было короче. По дороге Аня с интересом рассматривала припорошенные снегом, заросшие сухим бурьяном могилы, читала таблички с именами усопших. «Да здесь все библиографические данные!» – невольно осенила ее лукавая мысль, она хорошо помнила, как пару дней назад в библиотеку наведалось районное начальство и требовало увеличить количество читателей, грозили урезать финансирование или вовсе библиотеку закрыть.
– Что я сделаю, если нет читателей? – робко оправдывалась Аня. – Кто на селе книги читает, кроме школьников?
– Вы плохо работаете, – с непроницаемым лицом отвечал ей молодой чиновник в модной финской дубленке, – ищите индивидуальный подход к сельскому труженику. Объясните трактористу или доярке, что книга – источник знаний.
Библиотекарша слушала и покорно молчала, другой работы все равно не было. Но выход из положения она нашла, и весьма необычный.
Так Аня завела в библиотеке новые формуляры с фамилиями покойников. Вначале она боялась, что обман может вскрыться, но отчеты проходили нужные инстанции, и на них никто не обращал внимания. Есть новые читатели и есть. Иногда она, осторожно проходя по кладбищу, останавливалась у могилы потустороннего абонента и весело спрашивала:
– Ну что, Валерий Иванович Карпенко, новый роман Донцовой понравился?
Ей казалось, что могильный холмик с колеблющимися на ветру останками проволочных венков глухо отвечает:
– Да разве можно это читать?
Однажды, к концу рабочего дня, сидя за столом в библиотеке, Аня услышала, как тихо скрипнула входная дверь и раздались шаркающие шаги. Она привычно не подняла глаз и спросила:
– Вам какая книга нужна? У нас есть новые поступления.
Через секунду Аня подняла глаза, но в передней никого не было, только в открытую сквозняком дверь, как ей показалось, метнулась длинная тень. Но ведь шаги она явно слышала! Более того, на полу остались большие мокрые следы. Аня не испугалась. Она стала ждать, что будет дальше. Но ничего больше в этот день не происходило. От безделья Аня даже сама попробовала написать книгу, но смогла только вывести черной авторучкой на салатовой клеенчатой обложке общей тетради название: «Село и люди».
– Какие люди? Какое село? – вслух невольно произнесла она. – Мужики почти все спились и вымерли от суррогатного спирта, а бабы злые, молодежь разбежалась…
За Аней несколько дней пытался ухаживать местный парень. Он возил в село баллоны с газом. Алексей был мешковат, хотя ему было всего двадцать пять лет. Он считался завидным женихом на селе, работает газовиком, зарплата для села большая, и служебным грузовиком он пользовался как личным. Начальство позволяло ему держать машину в заулке возле дома, Алексей ездил на ней в лес, на рыбалку, иногда калымил, была она и хорошим подспорьем в личном хозяйстве. Некоторое время он пристрастился к спиртному, но его властная мать Полина быстро пресекла слабость сына, отобрав у него пластиковую карточку, на которую начисляли зарплату. Он как-то пригласил Аню в местном клубе на танец, неуклюже обнимал, а после они смотрели польский фильм в этом же клубе, где, как ей показалось, Алексей смеялся в ненужных местах. Аня отчужденно смотрела на его профиль в темноте зала и думала, зачем у него на таком большом лице такой маленький нос? От бабки Елизаветы она недавно слышала, что чем больше у мужчины нос, тем больше его мужское достоинство. Рассуждение старухи тогда очень насмешило ее. «Может быть, поэтому Алексей до сих пор не женат?» – невольно подумала она.
Один раз она ужинала в доме Алексея, ее поразила властная мать, жидкая темная похлебка с грибами, которую, молча, как по команде, ели за столом. Полина расспрашивала Аню о родственниках, учебе в педучилище. А после, высокомерно глядя на библиотекаршу, сказала, что хотела бы для Алексея невесту из местных девушек.
Алексей отвел глаза и промолчал. Больше они не встречались.
В этот день Аня пришла в библиотеку за полчаса до открытия. Она просто спешила уйти из дома бабки Елизаветы, житье на квартире у старухи становилось невмоготу. Бабка постоянно заводила разговоры о повышении квартплаты, у Ани стали исчезать ее продукты, мелкие деньги. Ранний час библиотеки был пустым и душным от печного отопления. Она с оторопью увидела, как к ее столу подошел мужчина в сером костюме и заснеженных домашних тапочках. Лицо у мужчины было землистого цвета с тонкими синими губами.
– Я вам, наконец, книгу принес, три года назад брал почитать Островского, да и забыл о ней. Вчера случайно в серванте нашел.
– Вы у меня ничего не брали, – пролепетала Аня странному абоненту. – Вам не холодно из дома было в костюме идти?
Мужчина ничего не ответил, медленно повернулся и вышел на улицу, унося с собой потрепанную книгу. Аня только обратила внимание на его неестественно прямую спину со следами больших черных ниток и мокрой земли на костюме, необычную шаркающую походку. Буквально через минуту раздался телефонный звонок. Районный начальник перешел к делу без ненужных вступлений:
– Как вы посмели покойников в библиотеку записывать? – услыхала она истеричный голос в трубке. – Как до такой мерзости додумались? Вас впору под суд отдать!
– А что мне делать? – севшим голосом пролепетала библиотекарша. – Вы читателей требуете, а их нет…
– Приезжайте в район, пишите заявление об уходе, я как-нибудь утрясу скандал. Один из бывших жителей села увидел в ваших отчетах своего давно умершего родственника и еще нескольких сельских покойников.
Собралась Аня быстро, с бабкой Елизаветой даже не попрощалась и уже через час была на автобусной остановке. Удивительно, на душе было почему-то не горько, а радостно, и впереди озорно светило яркое февральское солнце, обещая новую жизнь.
