№7.2022. Алла Михайличенко. Казанское детство
Современная Казань красивая, безупречная. Но за новым обликом города я всегда могу увидеть ту родную, деревянную Казань – уютную, зеленую, с мелким песком на асфальте, деревянными заборами, распахнутыми воротами и парадными с прорезями для почтовых ящиков.
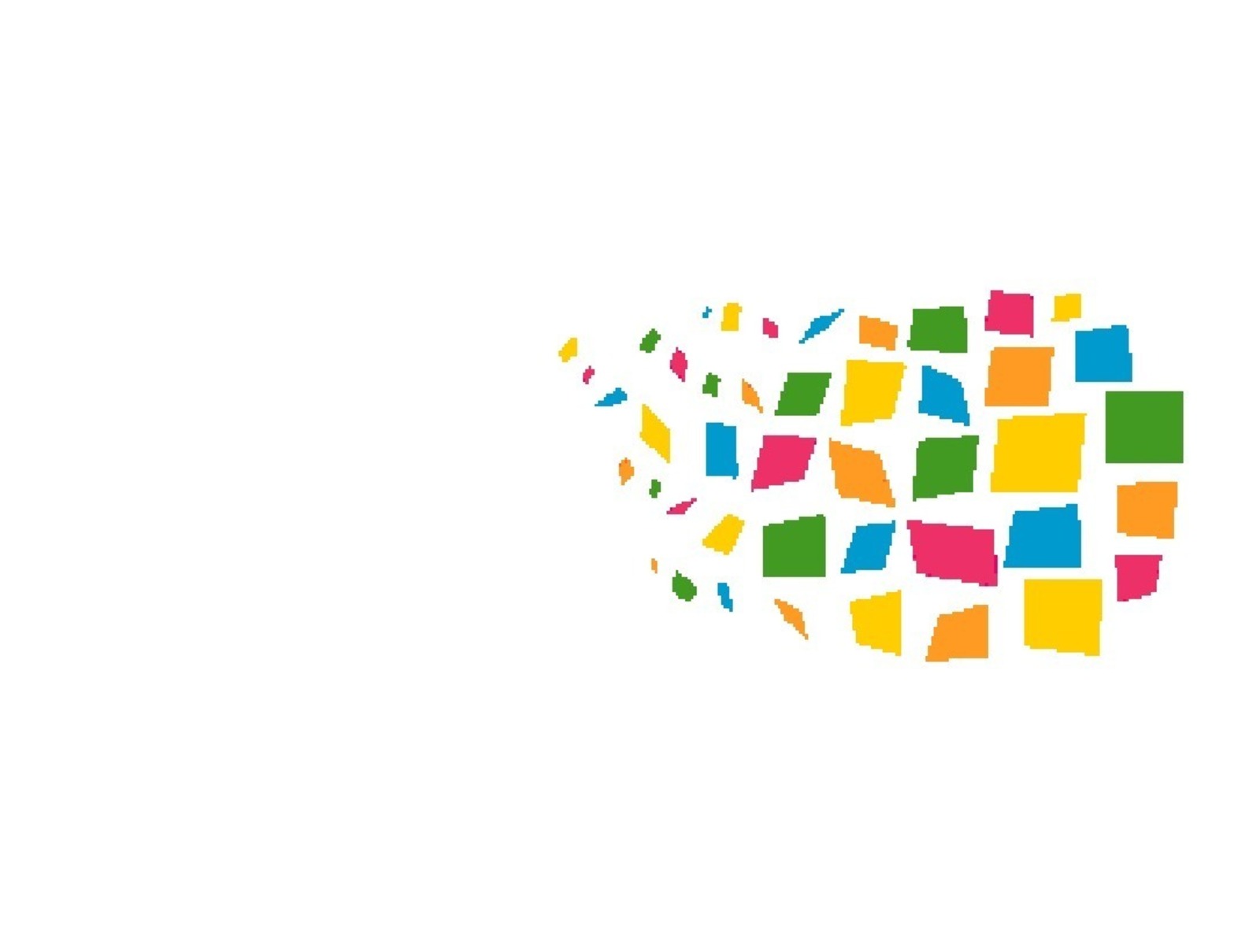
Алла Ирековна Михайличенко родилась в 1957 году в Уфе в семье военнослужащего. Окончила Уфимский авиационный институт и МПСИ.
Алла Михайличенко
Казанское детство
* * *
Современная Казань красивая, безупречная. Но за новым обликом города я всегда могу увидеть ту родную, деревянную Казань – уютную, зеленую, с мелким песком на асфальте, деревянными заборами, распахнутыми воротами и парадными с прорезями для почтовых ящиков. Об одном жалею часто: нет на улицах нынешней Казани наших татарских бабушек, в платках, покрывавших плечи и спину, иногда в плюшевых жилетах, с бусами и недорогими сережками в ушах. Нет их теперь и в Уфе.
Помню и люблю свою бабушку – красивую и ухоженную казанскую татарку. Именно от нее передалась мне безмерная любовь к Казани. Моя бабушка из образованной семьи, во многих поколениях занимавшейся торговлей. Красивая и молодая девушка, она вынуждена была покинуть родительский дом и бежать ночью в Казань на перекладных. Бежала она от местного конокрада, который надумал ее выкрасть. Как и многие люди в те годы, пережила много страшных событий, которые заставили ее молчать о родителях, муже, планах. Молчание стало чертой характера, отчего она всегда казалась сильной и волевой. В один из периодов своей жизни бабушка работала секретарем-машинисткой у Мусы Джалиля, печатала на арабском языке. В ее доме особое место занимали книги поэта с дарственной надписью.
Дом бабушки на Вишневского остался в моей памяти островком счастья и нескончаемого благополучия, с приятной летней прохладой внутри и умопомрачительным запахом бабушкиной стряпни. В том и есть феномен памяти, она удаляет все травмирующее и разрушающее, а потому воспоминания получаются светлыми и добрыми.
В нашей семье Казань любили всегда. Лето было казанским, остальные сезоны – по месту службы папы в Уфе. Казань в разговорах и планах присутствует круглогодично и сейчас, чем-то этот город нас магнитит, даже мою маму, не имевшую в крови ничего казанского.
Милый деревянный дом на Вишневского не отпускает. Как же я благодарна всем, кто согревал своим теплом или просто уделял мне внимание! Именно благодаря им моя память с легкостью по прошествии десятилетий воспроизводит их образы и позволяет мне вспомнить некоторые моменты моего казанского детства.
Тетя Настя
Смежную с нашей очень маленькую комнату в девять метров занимала тетя Настя. Она была родной сестрой моего деда, я же ей приходилась внучатой племянницей. В их родительской семье было пятеро детей. Дети рано осиротели, и все заботы о них упали на плечи старшей сестры Ольги, которую они ласково называли бабуся. Прокормить детей было очень трудно, и при первой возможности мой дед, старший брат тети Насти, забрал ее к себе в Казань.
В Казани она выучилась, вышла замуж и родила сына Николая. Замужество, видимо, было неудачным, а потому и недолгим. Мужа ее в нашей семье не видели и о нем и не вспоминали. Сын тети Насти вырос и стал работать киномехаником в клубе Маяковского. Женился на девушке с соседней Академической улицы, из такой же деревянной коммуналки. Брак их, по патологическому неравнодушию тети Насти к сыну, а потом и к двум внукам, был обречен.
Молодая семья с двумя детками поселилась в комнате Кузьмы и Лизы, которые переехали в благоустроенную квартиру. Дверь комнаты всегда была нараспашку, потому как суетливая и беспокойная мамаша бегала туда-сюда из комнаты на кухню и наоборот по детским обеденным делам. Завтрак у них начинался в околообеденное время и всегда с пригоревшей манной каши. Кастрюли не всегда были такие красивые, как теперь, особого выбора тогда в магазинах не было. В коммуналках кухни далеко, и поэтому то пригорит, то убежит, да и хозяйка она была аховая. Бежит, бывало, по грязному коридору босиком и кастрюлю держит тряпкой, значит, пригоревшая каша в ней, если без тряпки, значит, в руках детский горшок. Вся ее утварь была одинакового цвета и чистоты. Очень худая, с редкими кудряшками на голове, не сильно опрятная и очень нелюбимая свекровью. Отношение соседей к ней было нормальным, но за спиной ее звали Читой за мелкость телосложения и худобу. Возможно, что человек-то она была и неплохой…
Тетя Настя всю жизнь проработала медсестрой у одного именитого хирурга в поликлинике на улице Бутлерова. В поликлинике тетя Настя чувствовала себя хозяйкой. В белом, накрахмаленном до шуршания халате, такой же накрахмаленный платок поверх головы, очки с толстыми плюсовыми стеклами и стоптанные танкетки, надетые на светло-коричневые, неопрятно спущенные хлопчатобумажные носки. От полноты ее походка была утиной. По длинному полуподвальному коридору поликлиники она шла хозяйкой, Терентьевной – так ее величали коллеги. Ее счастье было не широким и без выбора – две двери на всю жизнь: одна в поликлинику, вторая в маленькую комнатушку брата – своего жилья она не имела.
Ее маленькая комнатка содержалась в стерильной чистоте, как и халаты. Две кровати, стол, холодильник и двустворчатый шифоньер. Маленький проход к печке, постоянно промерзшие и протекающие подоконники, покрытые черной плесенью, с которой она боролась, используя медный купорос.
Тетя Настя была негромкой хозяйкой везде. Она успевала поправить соседский веник, убавить огонь, если сильно кипел соседский суп, дернуть дверь дяди Кости, чтобы сообщить ему новость, при этом успевая расправить коврик под его дверью. Вот это качество ее беспокойной личности и стало причиной разлада в семье сына.
Казалось мне, что так будет вечно: никто не постареет, никто не переедет, никто не сменит профессию.
Тетя Настя была еще совсем не старой и вышла замуж за хорошего человека, старше себя лет на десять или больше. Возможно, ее вторым мужем и стал хирург, у которого она работала. И это в нашей семье не обсуждалось, а мне радость. Радость потому, что теперь я могла бегать в другой дом к тете Насте.
Дом этот находился на углу улиц Шмидта и Вишневского, немного в глубине, где теперь стоят высотные дома.
Деревянный дом с верандой, потемневший от времени и заросший яблоневым садом, был для меня другим миром. Парадный вход был со стороны Шмидта и не закрывался до поздней ночи. Прихожая переходила в длинный коридор, в котором всегда было темно. За несколькими высокими дверями, которые часто были прикрыты, жизни не чувствовалось. И лишь двойная дверь в одну из комнат была распахнута. Комната жилого духа не имела, и лишь следы от войлочных тапочек, оставленные на пыльном полу, указывали на то, что в комнате кто-то бывает.
Огромная комната с высокими потолками и старинной мебелью. Солнце сюда пробиться не могло из-за густых яблоневых веток, таких же старых, как дом. Комната эта выходила большой стеклянной дверью на темную, деревянную, покосившуюся от старости веранду. У окна безнадежно скучал старинный потертый рояль, клавиши которого не перестали ждать прикосновения рук хозяйки. На рояле стояло поколотое и потемневшее от мелких трещин фарфоровое блюдо с голубым изящным рисунком, поставленное сюда навечно. Когда-то белая кружевная салфетка истлела под блюдом.
Старинный книжный шкаф в стиле ренессанс хранил свои тайны за красивым резным фасадом и маленькими окошками из рифленого стекла. Искрошившиеся и почерневшие от времени книги боялись, цеплялись друг за друга.
Верхнее отделение шкафа было закрыто на ключ. Там хранились слипшиеся от сырости старые письма, свидетели безумного романа юноши и зрелой замужней дамы. Ключ, забытый в замке шкафа, перестал бояться, что его кто-то повернет.
Большое старинное мутное зеркало с тяжелой пыльной рамой из красного дерева умирало от тоски, не видя современных красавиц. Оно хранило облик своей давно ушедшей хозяйки. Сквозь пелену времени и пыли отражало ее портрет, висевший на противоположной стене комнаты.
Богатый золотистый багет помогал картине занять своим отражением все пространство зеркала. Портрет давно потемнел от домашнего уныния, скорби, времени и плохого освещения. Позолота на багете осыпалась, потому как сырь и мокрядь жили в доме.
Бархатно-оливковый фон заднего плана придавал потусторонность женскому лицу на картине. Каштановые волосы, заплетенные в косы, лежали венком на голове, темные, изящно выгнутые брови на овальном лице и даже губы, казалось, были написаны одной краской.
Тонкий нос молодой женщины напоминал клюв птицы, высокие скулы и чуть заостренный подбородок делали портрет тревожно-надменным. Скудная палитра выдавала настроение художника, не было у него сил дотянуться до ярких красок. Лишь в раскосые глаза цвета растопленного шоколада художник брызнул медовой каплей, сделав взгляд немного виноватым. Медовая капля в глазах женщины безнадежно искала солнца, но старый скрипучий сад задушил своей любовью дом, окружил его темнотой, ревностно закрывая от солнца.
Красивые женские руки, казалось, свисали за багет, а в тонких длинных пальцах не было сил удержать счастье. Своим уходом хозяйка остановила время в доме для всех. Ее взгляд застыл в мутном зеркале. Пыль была полноправной хозяйкой зазеркалья, только она имела право двигаться. Никому не приходило в голову что-то передвинуть или переставить в этом пространстве.
На облупившихся окнах и дверях гобеленовые портьеры стирки не знали. В доме жил очень добрый, пожилой интеллигент со своей престарелой сестрой. Отношения с сестрой были непростые, казалось, они помнят, что родственники, но общего быта у них не было. Союз с тетей Настей был просто разумным решением для всех.
Сам хозяин был очень приветливым, улыбчивым и светлым человеком. С ранней весны и до поздней осени он проводил время в раздумьях, сидя в кресле в глубине своего, а может, еще родительского сада. Одет он был дома в белую, не очень свежую, но всегда чистую сорочку, высокие и широкие брюки. Поверх сорочки – помочи на пуговицах. Если на рояле стоял пустой стакан в подстаканнике, значит, хозяин пошёл отдыхать, отсутствие же стакана говорило о том, что хозяина можно найти в саду. Пустой стакан в подстаканнике часто лежал опрокинутым в траве, старый плед сползал с плеч на дрожащие колени, а серебряная ложка часто попадала под ножку кресла, оттого и была вычурно изогнутой. Сам хозяин уносился в другой, понятный для него мир грез, где он, будучи совсем юным, влюбился в жену художника. Любовь эта была взаимной, несмотря на разницу в годах, им посчастливилось иметь двух сыновей. Сыновья ушли вслед за своей матерью, раньше отца.
Старый неухоженный сад – то место, где доживал свою жизнь этот человек. Кем он был, из какой семьи, я не знаю, слишком маленькой я тогда была. В последний путь его проводила тетя Настя. Дом снесли, взамен дома – однокомнатная, безликая, но с унитазом квартира.
Прошло много, много лет, но звук падающих осенних яблок у меня ассоциируется с чужим садом и доброй улыбкой человека, с которым я даже не разговаривала.
Дядя Костя
Обычная в те времена казанская коммуналка из восьми комнат на втором этаже старинного деревянного дома. Одну из комнат занимал большой друг дворовой ребятни дядя Костя. Соседи любили его за доброту, а дети за ландринки, которыми он их угощал. Монпансье, мелкие разноцветные леденцы в металлической коробочке, для ребят у дяди Кости были всегда. Взрослых дядя Костя снабжал газетами и дефицитными журналами, используя свои связи в киоске «Союзпечать». Дядя Костя был душой дома и всегда помогал соседям прибить, починить, встретить, проводить, одолжить. Для соседей это был серьезный, надежный и ответственный человек. С детворой он умел хорошо ладить, очень весело смеяться, подпрыгивать, изображая испуг от неожиданности, искреннее удивление от встречи.
Соседи платили дяде Косте той же монетой – вниманием и помощью в его бытовой неустроенности, молчаливым уважением, называли его ласково Костей. Константин Михайлович был 1919 года рождения.
Моя бабушка подкармливала дядю Костю пирожками и прочей стряпней, все это он ел с удовольствием, потому как скучал по домашней кухне и другим семейным радостям. Соседка тетя Настя, работавшая медицинской сестрой в поликлинике на Бутлерова, ежедневно стирала и крахмалила свои белые халаты, а потом, по-соседски, в этой же воде стирала гимнастерку дяди Кости, крикнув, бывало, ему через всю кухню:
– Костя! Давай рубаху состирну! И майку неси.
Дядя Костя спешно снимал майку и нес тете Насте свое белье:
– Настя, шибко-то не три, пальцы пожалей. Белее твоих халатов уже майка!
– Костя, ведро через верх! Пойдешь – не расплещи, да лампочку в парадном поменяй. Кузьма, видать, забыл.
Большая парадная лестница с залощенными перилами и пыльными балясинами. Протертые до овала ступеньки старой, пересохшей лестницы. На стене в парадном деревянные почтовые ящики с фамилиями нынешних адресатов, написанные масляной краской или химическим карандашом. Одно деревянное запыленное окно на верхней площадке лестницы перед входной дверью в жилое помещение второго этажа дома. Окно выходило на крышу соседнего дома, завидного пейзажа не имело, но функцию освещения выполняло, несмотря на приобретенную непрозрачность.
Входная дверь обита бывшей в употреблении столовой клеенкой, растрескавшейся от мороза и времени, утеплена какой-то ветошью. За открытой дверью снаружи прятались старинные платяные шкафы, такие же пыльные, как окно и балясины, древние, как сам дом. Мебель, оставшаяся от прежнего хозяина, несмотря на свою добротность, была брошенной. Шкафы использовались нынешними жильцами как склад для ненужного хлама, который и выкинуть-то жалко, и украсть некому.
Деревянный двухэтажный дом, лишившийся любви своего хозяина с приходом советской власти, был разделен на коммунальные комнаты и попал в новые многочисленные руки. Дом стали любить по частям поселившиеся в нем жильцы. Вроде и любви много, а дом грустит, потому как вечерами все расходятся по своим комнатам, а общее пространство остается бездушно-пустыми.
Вот и дядя Костя; днем это весельчак и замечательный сосед. Вечером старинная лампа с зеленым абажуром и тусклой лампочкой на обшарпанном столе была ответственной за уют и заменяла ему семью. Массивный письменный стол с зеленым сукном, круглыми резными ножками, с коваными ручками на тяжелых выдвижных ящиках, в которых хранилось перепутанное время. В них можно было найти все: свежую батарейку, чернильницу начала века, потемневшие ложки от старого хозяина, позеленевшую от времени опасную бритву, военные трофеи, стопку современных поздравительных открыток и конвертов, закупленных впрок. Стены большой комнаты в два окна из-за боязни пустоты были заставлены шкафами разного калибра и цвета, но одного возраста со столом.
Один человек не может заполнить собой дом, и дядя Костя искал спасения у газет и журналов – ими было завалено все пространство его непростой судьбы. Вечером дядя Костя с горячим чайником в руках и соседским угощением в эмалированной старенькой тарелке уходил за порог неведомого для меня мира. Высокая дверь его комнаты клацала стальным ключом изнутри, заветный для меня лучик из приоткрытой двери прекращал свою жизнь до следующего утра.
Дядя Костя был холостяком, история эта была недетская, да и среди взрослых не обсуждалась. Где-то в Казани у него жила мама и сестра, он любил их и заботился о них. Сам жил, как в песне: «два костюма износил, три баяна потерял» – с добрым сердцем и пустыми карманами. Средний рост, возрастная полнота, светло-русые волосы и глаза с разлитой в них серой печалью моментально растворяли его в толпе. Пергаментный цвет лица указывал на нарушения в организме, которыми отвечало ему тело за душевную боль и одиночество. Гимнастерка с истрепанным ремнём, картуз на голове делали его похожим на оловянного солдатика, у которого обмундирование есть, а снять его нельзя. И только однажды картуз был заменен на новый, но того же фасона. Старым парусиновым ботинкам грязно-желтого цвета со сношенными каблуками, ветхими шнурками имелась сменка – подшитые валенки с глубокими калошами.
Домой дядя Костя приходил всегда со стороны парка Горького, покупая в газетном киоске свежие номера газет. Газеты эти он нес как-то по-особенному, прижав к груди левой рукой, словно они могли защитить его сердце от людских глаз. Газеты дополняли его одинокий образ тихой грустью.
Я же продолжала ждать детских чудес, волшебства и смеха от дяди Кости.
Вечерами в пятницу в комнате моей бабушки собирались соседи для игры в лото. Моду на лото в наш дом принёс дядя Костя. Лото где-то у себя раскопала кухарка Лиза, Елизавета Демьяновна. Сама она в лото не играла, считая это барской забавой, но хранила с генеральских времён, называя его третьяковским. Комплект для игры она передавала под ответственность дяди Кости. Лото было стареньким, с потрепанными карточками, отполированными временем дубовыми бочатами, и ранее принадлежало семье генерала, жившего в этом доме. Мешок для бочат из плотной чёрной ткани с красными тесемками сшила моя бабушка. После игры карточки складывали в металлическую банку от рождественского кекса, сохранившуюся у дяди Кости со времен войны. В маленький ситцевый мешочек с голубыми мелкими цветами убирались металлические кружочки-фишки, которые использовались в игре. Кружочки эти принёс сосед Женя с завода.
В игре участвовали дядя Костя, тетя Настя, папа, Николай, иногда дядя Кузьма и пара соседей из соседнего дома. Были и наблюдатели: в коридоре курила соседка Люся, Магсума выходила за водой и задерживалась поговорить с моей мамой, тетя Лиза громко о чем-то говорила, сидя в своём кресле. Дверь нашей комнаты находилась в глубине маленького коридора и была открыта, мама мыла после ужина посуду, а бабушка составляла посуду в шкаф.
Игроки рассаживались вокруг стола на венские стулья, покрытые самодельными ковриками. Дядя Костя был личностью колоритной, неординарной и запомнился мне как елочная игрушка клоун: с одной стороны – веселый, с другой – грустный. Веселую сторону дяди Кости я обожала, грустная мне так и не открылась. Ну и понятно, что я устраивалась под бок к дяде Косте и чувствовала свою полную причастность к ведению игры. Дядя Костя доставал бочонки и выкрикивал номера на них. Его короткие, толстые пальцы иногда разжимались, и бочонок, чуть показавшись, падал обратно в мешок; непонятно было, случайность это или это его шутка, но тетя Настя говорила: «Костя, не дури, если играешь, играй».
Дядя Костя умел выкрикивать номера очень загадочно, весело называя их: «барабанные палочки», «стульчики», «дедушка», «туда-сюда». Я-то думала, что все эти названия придумывал он сам. Иногда он ошибался, сохраняя интригу, а я спешила его поправить. В это мгновение дядя Костя делал вид, что падает от расстройства со стула со словами: «Да что это, что?», или, весело подпрыгнув, говорил: «Ой, не подглядел бы кто…» Я смеялась, боясь пропустить интересное. Когда выпадало «55», он специально кричал: «Варежки», я поправляла его: «Перчатки!» и ощущала свою нужность в игре.
Играли на медную мелочь. У бабушки было два мешочка – один с медной мелочью для игры в лото, другой – с серебристой мелочью для своих нужд, но он тоже иногда развязывался для выдачи денег в долг игрокам.
После игры дядя Костя медленно складывал игровые аксессуары, словно не хотел уходить от чужого тепла, где пахнет пирогами и свежевыстиранным постельным бельем.
Соседи расходились не сразу, кто-то курил в коридоре, кто-то завершал дела на кухне. Свет горел везде, и в такие вечера дом становился одним целым и очень уютным. Из кухонной форточки тянуло ночным волшебством старого сада, поспевающей антоновкой, предвестницей осени. Яблочный ветерок задорил пенку на клубничном варенье, которое стояло на выключенной плите в большом медном тазу с длинной ручкой. Смешавшись, эти запахи гуляли по дому до самого утра.
Мне было весело и грустно одновременно, что игровой праздник закончился. Бабушка, заглянув в кастрюлю, которую хотела пристроить в холодильник, спрашивала дядю Костю: «Костя, лапши в банку налью?»
На следующий день я ждала дядю Костю с цветным монпансье в красивой баночке за оказанную в игре помощь, и он про мои ожидания никогда не забывал.
Сказки о чудовище, живущем в шотландском озере Лох-Несс много лет тому назад, появились летом. Лето – время отпусков, событий происходило мало, рассказы о существах из далекой Шотландии заполняли страницы газет, читались и обсуждались с интересом. Печатался рассказ в нескольких газетных номерах по определенным дням недели. Номер газеты с таким рассказом раскупался сразу. Нам газету приносил дядя Костя одну на весь этаж, ожидание вечера было приятным с моими детскими фантазиями о Чудовище.
Наступал вечер, я выглядывала из своей двери в коридор, чтобы знать, пришёл ли дядя Костя. Пришёл! Дальше надо было подождать, когда соседи придут с работы, поужинают и начнут собираться на большой коммунальной кухне с русской печью и вечно капающим краном в стиле лофт.
Люся курила, сидя на своём перевернутом чемодане, глядела в окно и делала вид, что события нашей кухни ей безразличны. У бабушки высвобождалось время после ужина, она у плиты доваривала варенье из китайки. Нина к этому времени выходила с большим ковшом варить яйца на утро. Тетя Лиза садилась заранее в своё истрепанное кресло и тут же засыпала. Мама в соседнем коридорчике с Ниной листали журнал «Работница», принесенный маме дядей Костей. Дядя Коля, сын кухарки Лизы, проходя мимо из дровяника, присаживался с беломориной в зубах на порог. Женя, Валя и другие соседи устраивались поодаль стоя. И только тетя Настя подтыкала дядю Костю: «Костя читай!»
Из соседнего деревянного дома по черной лестнице, ведущей на кухню, поднимались соседи по двору послушать про чудовище.
Чудесные три вечера подарил нам наш дядя Костя. После прочтения газета отдавалась моему папе, а на утро возвращалась дяде Косте. А когда уже вечерело, соседки выходили в парадное на крыльцо со своими матрасиками, подстилками, садились на ступеньки, и обсуждения чудовища продолжались. Сомнений о том, что такое чудовище есть, не было ни у кого. Милое советское время, наивные читатели!
В одно летнее утро шёл дождь, дверь комнаты дяди Кости была приоткрыта, и я туда нырнула. Родители мне делали замечание, что человек отдыхает или чем-то занимается – нельзя надоедать. Но мне-то нужен не сам дядя Костя, а его пыльный газетный мир с разложенными газетами, закладками в журналах, книгами в старинных переплетах, из которых вываливались странички.
Большая комната с двумя окнами, в которой одно окно было завалено газетами и никогда не мылось. Второе, напротив, часто было открыто, выходило в старый яблоневый сад, всегда блестело от чистоты стекол и белизны расшитых штор-задергушек. Окно мыла тетя Настя, шторы выбивала на швейной машинке «Волга» моя мама. Стены были заставлены старинными шкафами с книгами, разодранное кожаное чёрное кресло и металлическая кровать с панцирной сеткой – таков был интерьер. Металлическая кровать с шарами, панцирной сеткой, полосатым матрасом и солдатским байковым одеялом конфликтовала с аскетическим интерьером комнаты. Кровать была единственной роскошью в жизни дяди Кости не приобретенной, а навязанной соседом в связи с его переездом.
Бабушка переживала за то, что я там дышу пылью, но в то утро дядя Костя делал уборку, и пол был ещё влажным. За окном барабанил дождь, капли залетали в окно, низ накрахмаленной шторки был мокрым, ветки яблони чиркали по стеклу. Сквозняк шелестел газетными листами, миксовал запах пыли и дождя с запахом свежих газет на столе. На кухне горели газовые конфорки, пытаясь просушить вековую сырость, проснувшуюся от дождя.
Все заняты своими делами и про меня забыли. Я же, перегнувшись через кресло, заваленное журналами «Юность», «Новый мир», умудрилась заглянуть на книжную полку. На полке размером, может, с большой ноготь, – маленький стеклянный медвежонок, с мордочкой, синими прозрачными ушами, глазками и синим носом. Восторг и тайна разом упали на мою голову. Я побежала по коридору искать дядю Костю. Чтобы достать медвежонка, надо было отодвинуть неподъёмное кресло с журналами, которые предательски сползли с кресла, завалив проход к шкафу. Журналы и газеты нельзя было сложить обратно как попало… ну, канитель мне на час, а дяде Косте на неделю.
Медвежонка достали. В игрушку я влюбилась сразу, и быть счастливым мое детство без медвежонка уже не могло. Я начала пытать дядю Костю – откуда такой медвежонок? Долго просила подарить его мне, об этом узнали родители и бабушка, меня стыдили и ругали за то, что я прошу медвежонка. А дяде Косте мама строго сказала: «Не давать!» Все видели, как дяде Косте была дорога эта вещь. Мне разрешалось брать медвежонка и играть с ним, а вечером возвращать хозяину. Я мучилась от любви к медвежонку, и дядя Костя рассказал мне свою историю.
Во время войны он был в Берлине, влюбился в немецкую девушку раз и на всю жизнь. Когда они расставались, девушка срезала одну пуговицу со своей белой блузки и подарила её на память дяде Косте. Дядя Костя любил эту девушку всю свою жизнь. И только после его рассказа на спине у мишутки я увидела две дырочки. Медвежонок оказался пуговицей. Вместе с дядей Костей медвежонка мы поставили на место, мое сердце почему-то успокоилось.
Лето подходило к концу, наступила пора улетать домой. Нас, как всегда, провожали всем домом, а дядя Костя с тетей Настей поехали с нами в старый аэропорт. Расставаться не хотелось ни с кем, плакали и смеялись. С дядей Костей я прощалась за руку. А после рукопожатия медвежонок полетел с нами в моей маленькой ладошке.
Стеклянный медвежонок с голубыми ушками каждое лето прилетал со мной в Казань. Его укладывали в баночку от ландринок – и в чемодан. Хотя буратино с закрывающимися глазами, резинового негритенка и бумажную куклу с нарядами я складывала в маленький железный чемоданчик, какой был у каждой девочки, и везла в руках. Эти игрушки я не боялась потерять. По приезде медвежонок убирался в выдвижной шкафчик бабушкиной ножной швейной машины. С медвежонком я не играла, он просто был, а дядя Костя про него не спрашивал.
Шли годы, я выросла, в разговоре с дядей Костей перешла на «вы». Очень радовалась, когда в нашей комнате соседи играли в лото, приходил и дядя Костя. Сама в его комнату я не ходила – повзрослела. Дядя Костя не постарел, он просто изменился. Веселье сменилось спокойствием, в глазах прижились боль и грусть, печаль сомкнула губы. Гимнастерка его стала почти белого цвета на спине. Картуз выцвел местами, под боковыми пуговицами и перепонкой можно было увидеть, какого цвета картуз был лет двадцать тому назад. Все чаще и чаще я слышала от бабушки: «Костя сегодня устал, завтра попрошу нож для лапши поточить». Тогда мне казалось, это я стала взрослой, и он перестал шутить. Теперь же я понимаю, что возраст всегда побеждает.
В одно лето в дяде Костиной комнате стал жить его племянник, потом комната была закрытой, а потом туда переехала тетя Оля из парадного.
Медвежонок исчез так же печально и непонятно, как и дядя Костя.
Тетя Лиза
Двухэтажный деревянный дом был построен казанским купцом в конце позапрошлого века. Ничем особенным он примечателен не был. Дореволюционное городское здание с деревянным кружевом балконов, веранд, наличников. Дом как символ достатка и процветания купечества, таких в Казани много.
Мир купеческий был закрыт от сторонних глаз и любопытных носов. Дом имел тихий двор и хранил семейные тайны разного калибра и значимости, которая измерялась принятыми в обществе культурными нормами. Дома редко были одноэтажными, даже купцы низшей гильдии стремились иметь два этажа. На первых этажах таких домов велась торговля, на вторых проживали хозяйские семьи.
Хозяин нашего дома торговлю свою давно свернул в силу обстоятельств по здоровью. Сыновей он не имел, торговое дело двум своим дочерям передать не мог из-за их малолетства. Решил второй этаж сделать доходным и сдать внаем. Квартиры верхнего этажа считались наиболее престижными, а значит, сдать второй этаж можно было дороже.
Второй этаж дома был полной копией первого этажа и имел шесть комнат – с гостиной, несколькими спальнями, комнатой для прислуги. Большая кухня с русской печью имела выход на черную лестницу, откуда заносили дрова для отопления печки, продукты с рынка. Рядом располагалась комната для кухарки. В парадном была дворницкая в шесть квадратных метров для истопника и дворника в одном лице. По решению хозяина второй этаж был сдан казанскому генералу для проживания.
В генеральской семье, как и в семье хозяина, были две дочери с небольшой разницей в возрасте. Многочисленной прислуги генерал не имел по финансовым соображениям и пользовался услугами персонала, который содержал хозяин дома. А вот без личной кухарки дом сочли бы неполноценным, да и готовить разносолы генеральской жене не подобает, вот и нанял генерал в кухарки молодую крепенькую девушку Лизу.
Родительская семья Лизы жила в деревне, а сама она приехала по бедности и нужде в Казань на заработки.
Попала в дом «средней руки», где условия предлагались сносные, оплата до тридцати рублей, стол с куском мяса невысокой категории и каша.
Кухарки считались высокооплачиваемой прислугой в сравнении с горничными и няньками. Но какой бы высокой ни была оплата, свести концы с концами Лизе было трудно. Из своих средств ей надо было приобретать себе одежду для опрятного вида, средства для содержания себя в чистоте, а остальное она отправляла родственникам в деревню, мотающим беспросветную нищету.
Лизу взяли «кухаркой за повара» – так называлась должность в казанских домах в начале ХХ века. Она готовила еду генеральской семье, имея одну помощницу из хозяйского персонала для выполнения «черной кухонной» работы.
Молоденькая девушка Лиза низкого роста с русой косой, точеной фигурой и по-крестьянски крепкими ногами. Она ладно управлялась на генеральской кухне.
«Невелика да сноровиста», – хвалил ее генерал.
Бывало, затеет кто из соседских хозяев гульбу да созовет гостей, Лиза и там услужит за лакомый кусочек, иногда и лафитник с казенкой подадут в кухне. Кухарки да девки из других хозяйских домов научились вкушать прелести барской, городской жизни и казенку уважали, иногда и опивки со стола допивали. Лиза же к этому удовольствию расположена не была и с компанией не хороводилась. Характер у Лизы был подходный, лицо улыбчивое, а потому тумаки, может, и получала когда, да зла не держала, оттого тумаки-то эти обидой да злобой в ней не прижились.
В семье генерала Лиза прожила свою юность, молодость и лучшие женские годы. Могла ли она знать, что один раз и навсегда переступит порог чужого дома, доживет до глубокой старости рядом с одушевленной ею русской печью, здесь же вырастит сына, дождется рождения двух внучек и что обряд тризны по ней проведут в этом же доме, но при других порядках. И станут ей все равные по положению, закон будет для всех одинаковым, и уж никто ей больше не прикажет и не напомнит, где ее место. Куска теперь просить не надо – пенсию принесут в назначенный день.
С приходом советской власти жилфонд был национализирован, доходные дома прекратили существование, наступила эпоха коммуналок. Дом потерял свое былое величие, душа из дома ушла вслед за хозяином.
В доме брошены шкафы, два кресла, буфет и не только. В этот ряд попала и жиличка из маленькой, метров в семь комнаты на первом этаже. Нина Михайловна, сгорбленная старушка, которая иногда в выцветшей шляпке выходила в магазин с котом на веревочке. Из магазина возвращалась с авоськой, в которой всегда было одно и то же: бутылка молока и бумажный сверток. Нина Михайловна ни с кем не здоровалась, к Нине Михайловне, напротив, соседи относились с почтением. Казалось, что в ней нет жизни, эмоций и только собственное достоинство несло ее по этой неинтересной для нее жизни. Когда, шаркая башмаками не нашего века, она проходила мимо, мне, девочке, хотелось прижаться к стене. Нина Михайловна была дочерью бывшего хозяина дома, являлась его наследницей. Судьба сыграла злую шутку, и Нина Михайловна, как шкаф, была задвинута в бывшую хозяйскую умывальню. Доживала свой век в бывшей умывальне и с закрытыми ставнями – это было спасением от враждебного для нее мира. И лишь кухарка Лиза была свидетелем ее прошлой благополучной, безмятежной жизни в родительском доме. При редких встречах с Лизой они обе опускали глаза, словно боялись увидеть свое отражение в разбитом зеркале. Они понимали, что встреча глазами унесет в прошлое, из которого возвращаться в настоящее будет больно.
Во времена уже моего детства на большой, теперь коммунальной кухне в том же доме, у высокой русской печи стояло старое черное кожаное кресло, из которого от времени вылезал конский волос. Кресло это было психологической собственностью тети Лизы, и досталось оно по наследству от генерала. Елизавете Демьяновне на тот момент шел восьмой десяток. В праздники или перед Пасхой с утра и до поздней ночи она кружила вокруг родной для нее русской печи. Любила приговаривать, прислонившись в проходе к печке: «И согревает, и кормит, и косточки мои греет, а печурка-то трещит, словно со мной говорит».
Елизавета Демьяновна по праздникам, как и прежде, пекла «генеральские» пироги с капустой, куличи по старинным рецептам и всегда угощала соседей. Синяя эмалированная неглубокая тарелка имела на краю печки свое место. Соседу Косте в этой тарелке Елизавета Демьяновна оставляла два пирожка, накрыв их салфеткой. Покупное тесто она не признавала и квашню заводила с вечера, утром же утиной походкой спешила на Чеховский рынок за капустой да свежими яйцами.
В канун Пасхи она и вовсе не уходила в свою комнату, спала на большой кухне за печкой на полатях в силу круглосуточной занятости или просто по старой привычке. Коричневое штапельное платье на тете Лизе было как подгоревший жареный пирожок – засаленное на животе даже через передник. Маленького роста, круглая от полноты и широкой крестьянской кости, с жиденькой кубышкой из волос горчичного цвета да костяной гребенкой на уровне отсутствующей шеи. Ее блуждающие глаза всегда смотрели в потолок, словно чего-то искали, даже если она с кем-то разговаривала, такая индивидуальная особенность делала ее образ характерным. Голос ее был звонким, как у девчонки, она часто громко бранилась, не по злости, а для порядка. Ругалась она громко, грубых бранных слов не употребляла, личность ничью не задевала. Говорит, бывало, глядя в потолок: «Фулюган, озорник, блудня», – или что-то в этом духе, а про кого и не поймешь. Потому и обиды на нее соседи не таили.
О том, какой должен быть порядок, ведомо было ей одной, но, видимо, порядок должен быть, как в генеральские времена. Тетя Лиза ловко управлялась с ухватом, щипцами и кочергой, успевала подложить дров или расшвырять угли. Для всякого печного инструмента имелось свое место. Печь казалась похожей на большой концертный орган, из которого лилась кулинарная музыка.
Обувь на тете Лизе была специальная: изношенные мужские ботинки черного цвета на микропорке со стоптанными задниками – потому как в молодые годы из топки ей на ногу падала тлеющая головешка. Место для ее ботинок было за печкой с правой стороны, там же на кочерге висел клеенчатый фартук. Печь была ее пожизненной собственностью еще потому, что на печь эту никто из соседей не претендовал из-за отсутствия навыков.
Иногда тетя Лиза, довольная тем, что тесто вышло удачным, начинки в меру, а дрова горят хорошо, ударялась в воспоминания о жизни в генеральской семье. О том, как генеральским дочкам свеклой да сажей красила шпульки от ниток для каких-то их игральных нужд. О том, как генеральская жена, будучи полковой дамой с пристойным поведением и доброй нравственностью, порицала кухарку дома Чубаковых, с соседней Госпитальной, за ее «нетяжелое социальное поведение». Как часто генеральша приводила в пример свою кухарку Лизу, говоря о ней: «Наша-то и глаз до мужского пола не поведет, все в печь на пироги смотрит. “Сам”-то уж больно довольнешенек кухаркой».
«Сам» был мужчиной справным. Но особой генеральской выправкой не отличался. Переодень в гражданское платье, так и не подумаешь, что генерал. Голос командный имел, но дома его не применял. На женщин смотрел сладко, а в злоупотреблении замечен не был. Генеральшу свою он почитал как жену и как мать своих детей. Смеялся раскатисто, любил Лизину кулебяку с грибами да суточные щи из квашеной капусты по воскресеньям. Ему нравилось после обеда да после парочки чарок хлебного вина, сидя в кресле у голландки, наблюдать, как Лиза убирает со стола, напевая: «…он знал, что нравится хорошенькой Наташеньке…»
Вспоминала Лиза и то, как однажды добрый генерал купил ей, молоденькой девочке, служившей у него кухаркой, красивое платье и взял ее в театр на балет вместе со своей семьей. Впечатление от похода в театр, видимо, было самым ярким в ее жизни, сюжет и художественный орнамент в ее рассказах были одинаковыми всегда. И лишь когда аудитория на кухне была совсем доверительной, рассказ этот имел продолжение.
В тот вечер хозяйский извозчик-татарин бессовестно зыркал на молодую Лизу, решив, что она из «своих» и, если доведется встретиться в каретной, выкобениваться не станет.
Лиза в тот вечер сама для себя была золушкой, хоть и в подшитых валенках. Событие это она пронесла через всю жизнь, как любовь и уважение к семье, которой она служила.
Многие из девушек, начинавших свою самостоятельную жизнь в кухарках, становились матерями-одиночками. У тети Лизы был сын. Сын вырос, обзавелся семьей, работал на заводе. Был он молчаливым, выпивал умеренно. Маленький рост и худощавость компенсировались уверенностью пребывания в доме, где он родился и откуда ушел навсегда, раньше своей матери.
Яркое июньское солнце заливало большую коммунальную кухню, согревая протертый до белизны дощатый пол. Кормилица, большая русская печь, стояла особняком, и казалось, что нет ей равных в кулинарном мастерстве. А неухоженные газовые плиты? Так это для тех, кто не пробовал ее с Лизой пирогов…
Бывшая генеральская кухарка тетя Лиза с раннего утра сидела в своём протертом кресле. К моменту, когда закипал ее чайник, она засыпала, сидя в кресле. Чайник неоднократно выкипал, она доливала в него воду и снова садилась в кресло. Она, как и ее печь, не имела на тот момент ничего общего с происходящей вокруг современностью. Силы ее были на исходе. И только сноха и две внучки, с которыми она дожила свой век в полной гармонии в одной комнате на всех, помогали ей осилить ежедневный путь от кухни до кровати.
Ухват и кочерга остались бесхозными и пережили хозяйку, дождавшись сноса дома. Большая русская печь еще пятнадцать лет стонала осенним ветром и пургой в дымоходе, зная, что никогда больше не будет в ней огня, никто не прижмется к ней, никто не скажет: «Печника бы надо позвать, тяга никудышная», или: «Ну, обожди, обожди, березки подложу».
Стены дома разрушили, разобрали, растащили, а печь еще какое-то время скорбела под открытым небом, дожидаясь своего конца, и не было у нее шанса пустить хоть одно колечко дыма туда, в небо, к своей Лизе.
