№10.2023. Василий Напольский. Сон о жизни
Елабуга. Из записок туриста
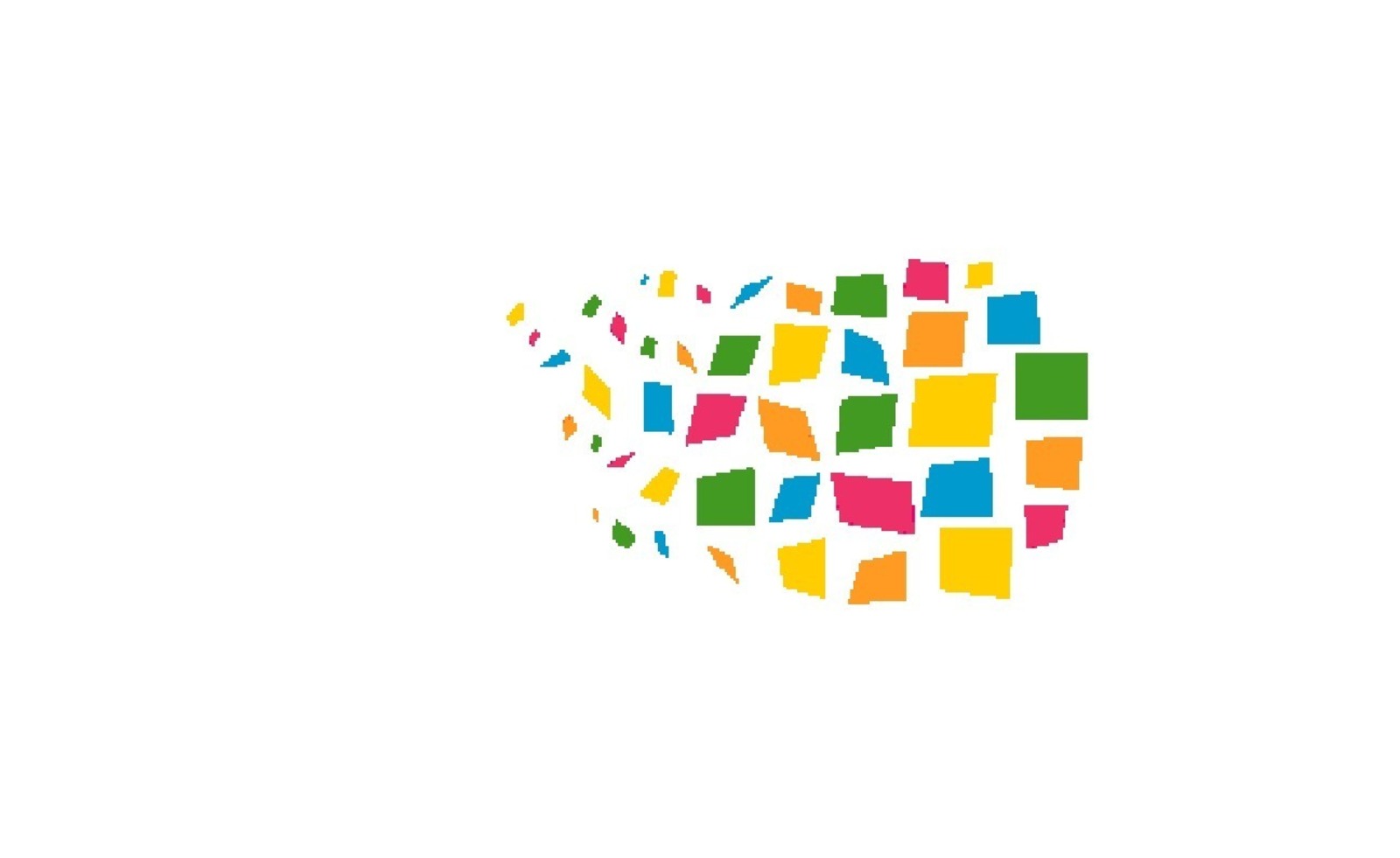
Позабытое давно
Вспоминаю отчего-то
Маргарита Алигер
«Вся моя жизнь – сон о жизни, а не жизнь», – так сказала о себе Марина Цветаева в частном письме, вспоминая своё пребывание в Париже в 1908 году, когда её, романтическую шестнадцатилетнюю барышню, одну отпустили за границу. А сказано это было в 1922-м, в самом начале эмиграции, когда она с мужем и дочерью жила в Чехии, в предместье Праги, в местечке со смешным названием Мокропсы. Фраза в письме имеет двоякий смысл. Тогда она, вчерашняя гимназистка с романтическими грёзами о вечном городе, с его версальскими аллеями подстриженных деревьев и кустарников, прудами и людовиками, больше всех на свете любила Наполеона и поэтому даже поселилась на улице Бонапарта. Теперь же, испытав нужду и вкусив горький хлеб эмиграции, она вспоминает прежнюю обеспеченную, благополучную жизнь в дореволюционной России как счастливый романтический сон.
В речных круизных маршрутах по Волге Елабуга значится как обязательный пункт остановки. Туристские теплоходы от устья Камы поднимаются вверх по реке и швартуются к причалу у высокой горы. Дорога в город идёт вдоль берега реки, затем поднимается в гору и проходит по сосновому лесу, и экскурсоводы обычно говорят, что это тот самый лес, где знаменитый русский художник и уроженец здешних мест Иван Шишкин писал свои пейзажи, в том числе и хрестоматийных медведей. Оставим на совести экскурсоводов эту маленькую неточность о медведях, но Елабуга действительно родина художника, и туристам показывают и дом-музей – родовое гнездо Шишкиных, и памятник художнику на главной улице, и речную пойму, где некогда были знаменитые шишкинские пруды и где теперь проходят елабужские ярмарки. Пруды эти были устроены отцом художника в бытность его елабужским градоначальником, и он же на свои и пожертвованные купцами средства восстановил башню времён Золотой Орды, построил один из первых в России городских водопроводов, устроил общественную прачечную и сделал много других полезных дел. Показывают туристам и дом-музей и памятник кавалерист-девицы Надежды Дуровой, и художественный салон, где выставляются местные художники, и много других интересных мест. Но главным объектом интереса всех приезжающих в Елабугу является дом-музей Марины Ивановны Цветаевой, выдающегося поэта с трагической судьбой. Здесь завершилась её земная жизнь, и в городе есть три памятных места, связанные с её именем: упомянутый дом, куда её поселили во время эвакуации и где она умерла; могила на городском кладбище и памятник – бронзовый бюст, окруженный колоннадой. В этом доме Цветаева с сыном прожила всего десять дней, дом ей не нравился, но ничего лучше не предложили. Отведённая им комната крошечная, всего шесть метров, отделялась от хозяйской части фанерной перегородкой с ситцевой занавеской вместо двери. Фанерная стенка – не до потолка, а чуть выше человеческого роста. Сейчас в этой комнате стоит небольшой столик, экскурсоводы говорят – подлинный, который стоял здесь и тогда, на котором под стеклом – копии записок: сыну, Николаю Асееву и тем, кто вместе с ней приехал в эвакуацию; а также миниатюрный сборник стихотворений на французском, обнаруженный после её смерти в кармане халата. Дом этот неоднократно ремонтировался и снаружи, и внутри и имеет сегодня вполне приличный вид. На фасаде – памятная доска с соответствующей надписью. По словам смотрительницы, место внутри дома, где произошла трагедия, сохранено в прежнем виде: неокрашенный стершийся порог, стертые половицы и даже та самая перекладина в прихожей перед дверью.
На городском кладбище туристам показывают могилу, на которой установлена гранитная плита с позолоченной надписью. Но этот памятник находится на месте предполагаемого захоронения. Настоящее место погребения до сих пор неизвестно. Похоронили Марину Цветаеву чужие люди, по-настоящему не обозначив её могилу, и знавшие о ней только то, что она – беженка из Москвы. Из Чистополя, где находился в эвакуации Союз писателей и где проживало писательское начальство, никто не приехал ни на похороны, ни позже на кладбище. Из близких только сын Георгий, к тому времени шестнадцатилетний подросток, смог проводить её в последний путь. Сестра и дочь Ариадна – в ссылке, муж – в тюрьме, родители давно умерли. Так и затерялась её могила. И о Цветаевой забыли на двадцать лет.
В начале шестидесятых на одной из безвестных могил 1941 года Анастасия Ивановна, сестра Марины Ивановны Цветаевой, установила памятный крест. А спустя десять лет Союз писателей Татарии принял решение считать это место официальной могилой. Однако среди местных краеведов и исследователей творчества поэта есть и другая точка зрения.
В июле 1963 г. фольклорная экспедиция студентов Башгосуниверситета работала в деревнях Дюртюлинского района. В одном из деревенских магазинов потребкооперации, где вперемешку лежат и пряники, и посуда, и одежда, и хомуты, и сельхозинвентарь, в небольшой стопке книг, пылившихся на прилавке, я обнаружил сборник стихотворений Марины Цветаевой. Бог знает, какими путями попала эта книжка в сельский магазин, вряд ли в такой глуши нашелся бы читатель, интересующийся поэзией, ну разве что кто-нибудь из местных учителей, да и то маловероятно. В то время о Цветаевой мало кто знал, кроме, может быть, университетских преподавателей-филологов. А среди студентов о Цветаевой никто даже не слыхал. Да и я узнал о ней случайно, года за два до того, из мемуаров Эренбурга, печатавшихся в «Новом мире», который редактировал тогда Твардовский. Время это – начало 60-х – несколько позже стали называть оттепелью. В общественную и литературную жизнь это понятие вошло с легкой руки Эренбурга, написавшего в середине 50-х повесть с таким заглавием. Эренбург был знаком с Цветаевой по эмиграции, встречался с ней в Париже, ценил её талант и своеобразный стиль и сожалел о трагической судьбе. В его воспоминаниях Цветаевой посвящено всего-то несколько страниц, но меня это заинтересовало и захотелось познакомиться с её поэзией. Но в городской библиотеке Омска, где я тогда жил, ни одного её сборника не нашлось. Теперь же, купив книгу в столь неожиданном месте, я обрадовался, что смогу наконец познакомиться с Цветаевой.
Приобретённый мною сборник Цветаевой вышел в 1961 году в издательстве «Художественная литература» с предисловием Вл. Орлова, он же является составителем сборника, и ему принадлежит подготовка текстов. В примечаниях указано, что в составлении сборника также принимала участие дочь Цветаевой Ариадна Эфрон. Она была освобождена из ссылки в 1956 году и реабилитирована. Тираж этого сборника 25 тыс. экз., а цена на тогдашние деньги – 52 копейки. Сборник открывается стихотворением, написанным в 1913 году, когда автору было двадцать, и заканчивается оно так: «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черёд». В шестидесятые, после двадцатилетнего забвения, черёд действительно настал: её стали издавать, о ней стали писать, стихи – читать с эстрады, создавать на её стихи песни, она даже вошла в моду. Стихи её включали в свои концертные программы Вячеслав Сомов и Елена Камбурова, было что-то цветаевское и в репертуаре генерала тогдашней эстрады Аллы Пугачёвой. Но знатоков и настоящих ценителей поэзии немного, как и ценителей хорошего вина. Мода на Цветаеву скоро прошла. Она не тот поэт, которого можно обожать, которым можно умиляться, делать из него популярного кумира экзальтированной публики. Её поэзия своеобразна по форме и содержанию: ломаная строка, сложный синтаксис, смысловая глубина и образная многослойность. Произведения её, как стихи, так и прозу нельзя читать ради развлечения. Для её понимания требуется напряжённый умственный труд.
Когда в августе сорок первого Марине Ивановне предложили эвакуироваться, она была в нерешительности. С одной стороны, в Москве становится опасно (ночные бомбёжки), поэтому надо увезти сына, который добровольно ходит дежурить на крышу дома и подвергается опасности, а с другой, не хотелось оставлять с трудом найденную квартиру в Москве и возможность творчества, а также с отъездом неизбежно затруднится отправка посылок мужу и дочери; и самое главное, с отъездом становится неясной перспектива найти хоть какую-нибудь работу. Не хотел уезжать и сын Георгий, в сентябре он должен пойти в школу, в девятый класс, а будет ли возможность учиться в эвакуации неизвестно. Марина Ивановна советовалась по этому поводу кое с кем из близких ей знакомых, но потихоньку упаковывала вещи, всё же готовясь к отъезду. И 8 августа на пароходе «Александр Пирогов» Цветаева с сыном отправилась в эвакуацию. Пароход был специальный, писательский: на борту – московские писатели со своими семьями, члены правления Союза и вся его канцелярия. Местом эвакуации называли Чистополь. В Казани – пересадка на другой пароход, идущий до Перми. Наконец, Чистополь. Здесь высадились все писатели и всё писательское начальство со своим хозяйством. В последний момент Цветаевой было сказано, что местом её эвакуации является Елабуга. И вместе со служащими разных московских учреждений она отправилась дальше вверх по Каме к указанному ей месту. Это решение Марина Ивановна восприняла как намеренное унижение, ей дали понять: она – чужая, и пребывание её в писательском сообществе нежелательно. И тем не менее у неё ещё оставалась какая-то надежда на то, что ей удастся упросить писательское начальство похлопотать за неё, чтобы ей разрешили переехать в Чистополь. Стремление непременно переехать в Чистополь было основано на том, что там Союз писателей, там издательства и журналы, а значит, есть возможность найти литературную работу, да хоть какую-то работу. Заявление с просьбой о переезде в Чистополь она передала со знакомой, выходившей в Чистополе. Елабуга ей сразу не понравилась, она восприняла её как захолустный неблагоустроенный город. Не нравилось ей и предоставленное на новом месте жильё. Едва устроившись на отведённой жилплощади, Цветаева отправилась в Чистополь. В воспоминаниях Лидии Чуковской, находившейся в числе эвакуированных писателей в Чистополе, сказано, что заявление Цветаевой о переезде в Чистополь руководством Литфонда рассматривалось дважды. На первом заседании под председательством Николая Асеева было принято отрицательное решение. Особенно активно выступал против Константин Тренёв, обвиняя просительницу в иждивенчестве на том основании, что год назад он и Самуил Маршак передавали Цветаевой какое-то денежное вспомоществование. Асеев тогда не вступился за Марину, хотя они находились не то чтобы в дружеских, но, во всяком случае, в добрых отношениях. В Москве Марина Ивановна с сыном неоднократно бывали в доме Асеева, о чём известно из дневника Георгия. На второе заседание Асеев не пришёл, сославшись на нездоровье, но прислал записку в поддержку Цветаевой, благодаря чему было принято положительное решение. По свидетельству Чуковской, видевшей Цветаеву в коридоре горсовета в ожидании решения комиссии, Марина Ивановна не выразила ни малейшей радости по поводу благополучного решения её вопроса. В книге Ирмы Кудровой о жизни Цветаевой после эмиграции приводятся свидетельства очевидцев, видевших Марину Ивановну в Чистополе и после её возвращения в Елабугу, и все отмечали, что это была нравственно и физически нездоровая женщина: безжизненное застывшее лицо, потухший, ничего и никого не видящий взгляд, подавленное душевное состояние. Вернувшись в Елабугу и переговорив кое с кем из знакомых, Марина Ивановна засомневалась: а так ли уж необходимо переезжать в Чистополь? О том, что Цветаева, будучи в Чистополе, встречалась с Асеевым после полученного ею разрешения на переезд, прямых доказательств нет. В упомянутой книжке Кудровой приводятся только косвенные свидетельства о такой встрече и о возможном содержании их разговора. Так вот, будто бы Асеев сказал Цветаевой, что в Чистополе на литературную работу она рассчитывать не должна. Возможно, это и поколебало её решимость во что бы то ни стало сменить Елабугу на Чистополь. Но на переезде настаивал сын, ему не нравилась Елабуга, не нравилось предоставленное жильё, не нравилась школа, в которой предстояло учиться. И на 30 августа назначили отъезд, но не уехали. Почему? Ответа на этот вопрос нет. Есть разные предположения: не было в этот день парохода на Чистополь, у Марины Ивановны резко ухудшилось здоровье, есть и другие. Пароходы тогда действительно ходили нерегулярно, Марина Ивановна действительно серьёзно занемогла. Что на самом деле помешало уехать, неизвестно. А 31 августа случилась трагедия. В книге Кудровой даётся ссылка на записи краеведа Мустафина, сделанные им в 1964 году со слов хозяйки дома Анастасии Ивановны Бродельщиковой. По её словам, 31августа по разнарядке городских властей все жители улицы, в том числе и эвакуированные, должны были в свою очередь идти на расчистку аэродрома. Но Цветаева пойти не могла, потому что была нездорова. Вместо неё, по одной версии, пошёл сын Георгий, по другой – он отправился в кино. Таким образом, трагическое событие случилось, когда в доме, кроме Марины Ивановны, никого не было. Тайна страшного решения о добровольном уходе из жизни остаётся до сих пор неразгаданной.
Все писавшие о последних днях Цветаевой, ссылаясь на прямые и косвенные свидетельства, отмечают её крайне угнетённое состояние и физическое нездоровье во всё время эвакуации. Называются и причины: переживание о судьбе дочери и сестры, отправленных в ссылку; тревога о муже, тоже томящемся где-то в застенках НКВД; беспокойство о сыне, который из-за эвакуации не может полноценно учиться; и самое главное – нет работы, а значит, и средств к существованию. Намекается и ещё на одну причину, о наличии которой прямых доказательств нет. Речь идёт о давлении органов НКВД, якобы склонявших Марину Ивановну к сотрудничеству в обмен на предоставление работы переводчика в лагере военнопленных под патронажем органов, и от чего она будто бы с возмущением отказалась. Эту мысль, в частности, высказывает Евгений Евтушенко в статье о Цветаевой в его антологическом сборнике «Десять веков русской поэзии», хотя никаких доказательств ни прямых, ни косвенных этому высказыванию нет. В предсмертной записке, адресованной сыну, объясняя своё решение, она говорит, что «попала в тупик». Что конкретно она имела в виду? Загадка эта по сей день не разгадана. Да и вообще, разве можно разумно объяснить, что творится в душе и в голове человека, уже накинувшего петлю?
Да, в эвакуации Цветаева столкнулась с недоверием и открытым недоброжелательством со стороны писательского сообщества, но были среди собратьев по перу и такие, кто искренно ей сочувствовал и готов был в меру сил помогать. Со стороны ситуация не выглядит совсем уж безнадёжной. Да, не удаётся пока найти подходящую работу, а значит, впереди нужда и нищета. Но ведь для неё это не ново. Вся её семнадцатилетняя жизнь за границей – это постоянные материальные трудности, порой нужда и даже нищета, недоброжелательство и враждебность белоэмигрантских издательств, не желавших её печатать. Но она упорно, настойчиво преодолевала эти трудности. В Чехии, куда она выехала с дочерью к мужу весной 1922 года, особенно трудной была первая зима. «Мы всю зиму прожили в этой гнилой дыре, где, несмотря на ежедневную топку, со стен потоки струились и по углам грибы росли…» – из письма Л. Е. Чириковой, апрель 1923 года. Это о доме, который семья снимала у лесника в Мокропсах. Здесь у Марины родился сын Георгий, ухаживать за ребёнком помогали жена и старшая дочь писателя Евгения Чирикова, жившие в соседнем дачном посёлке Вшеноры. В Чехии мужу Цветаевой С. Я. Эфрону выплачивали небольшую пенсию, как бывшему офицеру и студенту Пражского университета. На эти средства в основном и жила семья, поскольку заработок от публикаций произведений поэтессы был непостоянный и небольшой. После переезда в Париж материальное положение семьи ухудшилось: выплаты Сергею Яковлевичу прекратились, работать из-за обострившейся болезни он не мог, гонорары от публикаций – от случая к случаю; кормильцем семьи стала дочь Ариадна, вязавшая шапочки и сама же продававшая их по пять франков за штуку. Фраза из письма этого периода: «…просто медленно подыхаем с голода».
А об отношении белоэмигрантской прессы к Цветаевой свидетельствует такой факт. Когда в 1928 году Маяковский приехал в Париж, в некоторых эмигрантских изданиях начались на него злобные нападки. Цветаева, знавшая его с 1918 года и ценившая его талант, опубликовала в газете «Евразия» статью в его защиту. После этого случая двери редакции «Последних новостей», где она была, как бы сейчас сказали, внештатным сотрудником, перед ней закрылись навсегда. А владельцем и главным редактором этого издания был П. Н. Милюков, бывший лидер кадетов и министр Временного правительства. Попутно заметим, Цветаева относилась к революции отрицательно. Для неё это хаос, разрушивший материальные, бытовые, нравственные и морально-этические условия и нормы существования, а значит, и творчества. В своей апологии на книгу князя С. М. Волконского «Родина» она пишет: «Принцип революции – это принцип саранчи (для поля), топора (для леса), принцип Людовика XV: после меня хоть потоп». Но в первый же год эмигрантской жизни поняла, что она там чужая и все для неё чужие. Из письма от 27 апреля 1923 г. Л. Е. Чириковой: «Ах, как мне было хорошо в России, как я чувствовала себя человеком и как здесь хуже последней собаки…» В стихотворениях начинают проскальзывать ностальгические нотки: «Русской ржи от меня поклон…» (1925). И хотя в стихотворении 1934 г. она с какой-то отчаянной решимостью заявила: «Тоска по родине! Давно разоблачённая морока…» – но Россия, как заноза, постоянно напоминает о себе. Стихотворение не завершено и оборвано на фразе: «Но если по дороге куст встаёт, особенно рябина…». Рябина – её личный символ России и повторяющийся художественный образ.
Она постоянно думала о России, о той России, которую покинула много лет назад. Но возвращаться опасалась: оттуда приходили тревожные вести об арестах. И хотя советское гражданство ей было восстановлено в 1937 г., выехать удалось только два года спустя. К этому времени муж и дочь были уже в Москве. Настаивал на отъезде в СССР и сын, родившийся и выросший за границей и знавший о нём только по рассказам родителей, и ему не терпелось увидеть эту загадочную страну, которую он успел полюбить, ещё не видя её. И 12 июня 1939 г. на пароходе «Мария Ульянова», отчалившего от пристани северного порта Гавр, Цветаева с сыном покинула Францию, где прожила четырнадцать из семнадцати эмигрантских лет. Но когда она вернулась, то почувствовала себя на родине чужой, как прежде чувствовала себя чужой в эмиграции. Отношение к ней в литературных и окололитературных кругах настороженное, подозрительное, иногда неприязненное, порой откровенно враждебное. Только немногие из старых знакомых, в частности Борис Пастернак, оказывали ей моральную поддержку. Даже родная сестра мужа, встречавшая по просьбе брата (сам он был болен) Цветаеву на морвокзале в Ленинграде, побоялась пустить её к себе в квартиру из-за возможных неприятностей. В начале 1940 г. Цветаева с сыном по путёвке Литфонда приехала в Дом творчества Голицино. С директором этого учреждения у неё вышел конфликт: из-за неприязни директора к «белоэмигрантке» Марине Ивановне отвели неотапливаемую комнату и без электрического освещения. А на дворе – январь и лютые морозы. Только участие писательницы Л. В. Веприцкой позволило уладить конфликт и кое-как устроить её быт: выдали керосиновую лампу и стали топить печь. Из письма Цветаевой к Веприцкой после её отъезда: «С Вами ушло всё живое тепло, уверенность, что кто-то будет тебе рад, ушла смелость входа в комнату. Здесь меня, кроме Вас, никто не любит, а мне без этого холодно и голодно, и без этого я вообще не живу…»
В её ранней и зрелой поэзии довольно часто повторяются мотивы смерти, добровольного ухода из жизни. Критики и литературоведы по-разному объясняют эту особенность: одни видят в этом философскую глубину, другие рассматривают это как отдалённую предпосылку её трагического конца. Но, может быть, истинная причина её преждевременного ухода содержится в словах Марины Ивановны, сказанных ей в разговоре с Валентиной Чириковой: «Одному человеку не хватает одной жизни, другому – её слишком много». И поэтому она ушла «…от всех обид, от всей земной обиды…»
* * *
Всякий раз, бывая в доме-музее Цветаевой в Елабуге, и рассматривая предметы и вещи, ей принадлежавшие, её предсмертные записки, обращённые к сыну с просьбой о прощении; к Асееву – позаботиться о сыне; к тем, кто будет её хоронить, – чтобы не положили в гроб заживо, – я испытывал какое-то тоскливое чувство жалости к этой женщине, хотя, казалось бы, «что он Гекубе, что ему Гекуба». Но так случилось, что в продолжение всей жизни это имя время от времени всплывало где-то рядом и обращало на себя внимание, хотя я и не был поклонником её поэзии, но, может быть, вызывала сочувствие её драматическая судьба и преждевременный трагический уход. И сегодняшние туристские и не только воспоминания об этом – это тоже как своеобразный сон о прошлой жизни.
