№9.2023. Константин Комаров. Сердце всего
К 130-летию Владимира Маяковского
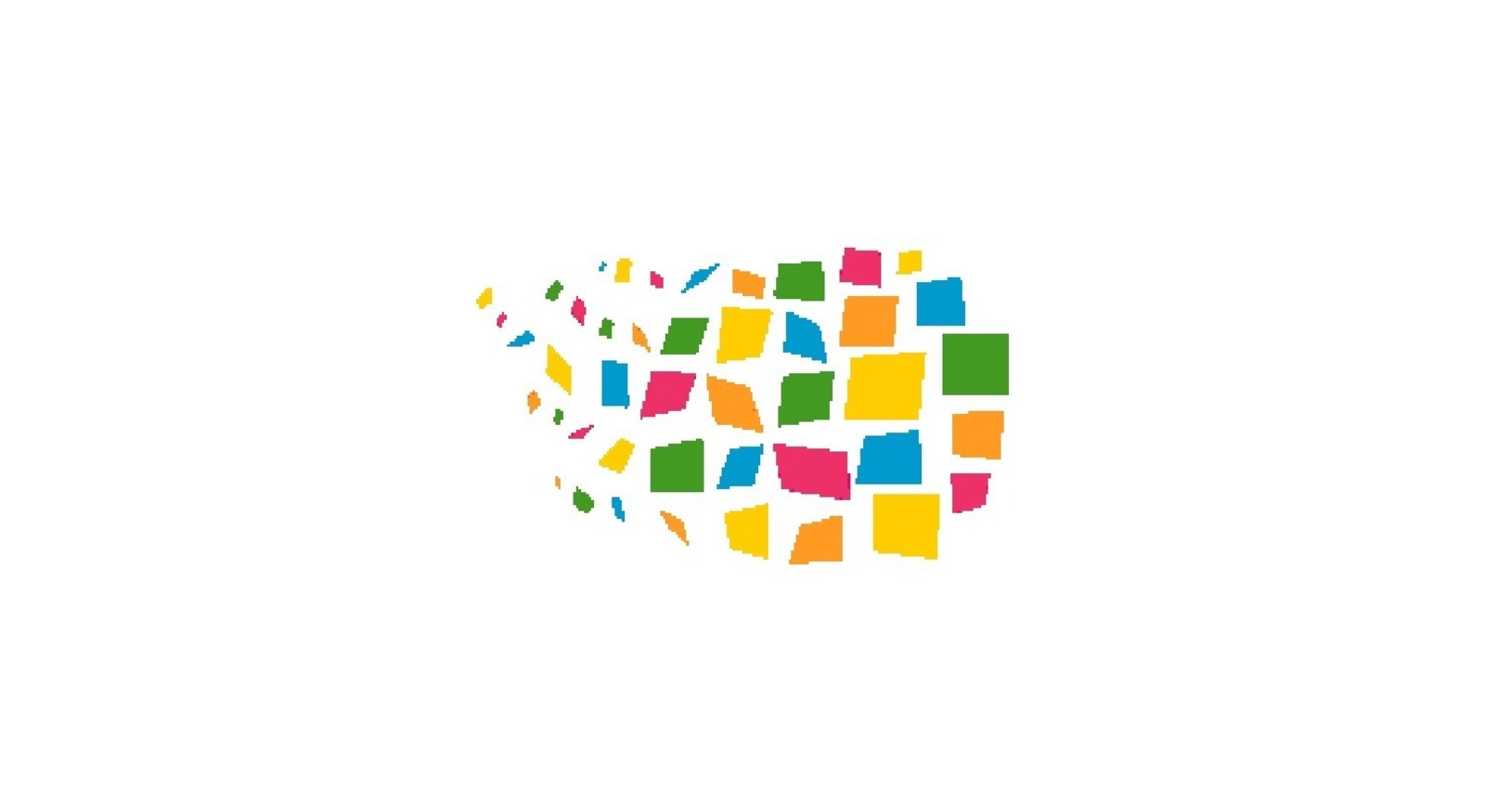
Маяковскому стукнуло-ударило-громыхнуло сто тридцать лет.
А мы всё ещё его догоняем, он уходит от нас своими семимильными «луч-шагами» – в будущее, с добродушной усмешкой поглядывая на нас, торопящихся вослед.
Маяковский – поэт Революции. И не только (рискну сказать – и не столько) – Великой Октябрьской Социалистической. В первую голову – Революции поэтического слова. Революции языка. Революции Духа (ей посвящена незаконченная поэма «Пятый Интернационал»). Главная же форма воплощения духа у Маяковского – отелесненная эмоция, материализованное чувство. Так уж была устроена психика Маяковского: любая абстракция его поэтическим сознанием мгновенно и гиперболизированно опредмечивалась.
Психоэмоциональное ядро поэзии Маяковского – «громада-любовь» в её обострённом противопоставлении «громаде-ненависти». Он и само своё поэтическое ремесло определяет через любовь: «Ежедневно, по-новому, любимое слово».
Как и всё в поэзии Маяковского, любовь прорастает из непосредственной плоти, фактуры физической действительности, преображая эту действительность, «разгоняя» переживание до сверхзвуковых скоростей. Цельность Маяковского – цельность особого рода: парадоксальное единство, сотканное из множества противоречий, которые удивительным образом эту монолитность укрепляют и поддерживают. О единстве жизни и творчества у Маяковского замечательно сказал его друг и соратник Давид Бурлюк: «Маяковский писал себя и окружающее, – он брал жизнь, – но наводил на неё такие магические стекла, что испепелялись “будни с их шелухою”, в простейшем он умел найти грани вечного алмаза искусства. Надо указать, что Маяковский в своей поэзии ничего не выдумывал. Его стихи – лог его жизни. Судовой журнал. События, факты, однако, записаны нестираемыми знаками. Отшлифовано. Найдена окончательная форма выражения. Не переделать, не забыть, не отбросить. Всё в его стихах списано с натуры». Маяковского отличало острое чувство масштаба, при этом, по словам Николая Крыщука, «чувство грандиозности духовного всегда было связано в его восприятии с огромностью физической», он был «по самой своей задаче самороден, бесподобен, сам из себя сделан».
Цельность Маяковского наглядно являет себя в соотношении внешнего и внутреннего, в соразмерности его внешнего облика и телосложения с внутренним миром, в размахе, широте, выступлении на первый план центрального содержания личности – всё это в равной мере проявлялось и в физически-телесных, и в творческих жестах поэта. Необыкновенные внешние данные Маяковского впечатляли и запоминались сразу при знакомстве с ним. Во всём его облике чувствовался гигантизм (параллелью которому в творчестве была художественная гипербола). Современники отмечали в Маяковском «мужественную суровость», «широкий шаг», «размашистые аффектированно резкие движения», высоту, силу, уверенность. Но внутри этой «железобетонности» неизменно порхает «бабочка поэтиного сердца».
Эльза Триоле так формулировала любовную трагедию Маяковского: «Маяковский ходил от женщины к женщине и, ненасытный и жадный, страшно грустил… Они были нужны ему все, и в то же время ему хотелось единой любви <…> Больше, сильнее, выше, лучше… Чтобы сердце билось стихами, он искал восторга любви, огромной, абсолютной…» Любовная лирика Маяковского потому и «протрясает» нас «до печёнок», что он, в ему одному доступной тональности, выговаривал в слове и претворял в ритм свою личную боль.
Маяковский весь – воплощённый масштаб. Масштаб, воплотившийся в «гудящем повсеместно» «сплошном сердце». И любовь – одновременно сущность, источник и инструмент этого воплощения. Любовь – средоточие всей его личности и всей его поэзии. Огромное синтетическое чувство, деятельное преобразующее начало, противостоящее косности и мертвечине, вмещающее себя и любовь к Революции, и любовь к женщине (порой они соединяются и «в поцелуе рук ли, губ ли», в «дрожи тела» начинает «пламенеть» «красный цвет моих республик»), и сострадательная любовь «ко всему живому на земле» (здесь он удивительным образом сходится с Есениным):
Я люблю зверьё.
Увидишь собачонку –
тут у булочной одна –
сплошная плешь, –
из себя
и то готов достать печёнку.
Мне не жалко, дорогая,
ешь!
Любовь к себе (вспомним дерзкое футуристическое «Себе любимому посвящает эти строки автор…») – здесь только преддверие, только ширма, только подготовка к термоядерной по мощи своей любви как к ближнему, так и к «дальнему» – гражданину утопического будущего (которое поэт стремился приблизить словом, понимаемым как жест, как поступок, как действие), в котором «никто не будет, некому будет человека мучить», где «люди родятся, настоящие люди, бога самого милосердней и лучше».
Любовь у Маяковского всегда – чрезмерная распахнутость и безоглядная раскрытость. Впуская в своё «сплошное сердце» весь окружающий мир во всех его цветах и красках, его лирический герой оказывается предельно уязвим и открыт в своих отношениях с любимой. Маловероятно, что человек, вся жизнь которого основана на механистическом рационализме, может написать: «Теперь я чувствую, что меня совсем отодрали от жизни, что больше ничего и никогда не будет. Жизни без тебя нет». А это строки из письма Лиле Брик 28 декабря 1922 г. Это отнюдь не инфантилизм и не «подростковые комплексы», это корневая человеческая потребность в понимании, в сочувствии, в «слове ласковом, человечьем» – потребность, предельно и болезненно обострённая. Но именно эта болезненность, вечная душевная рана («Я ж навек любовью ранен, еле-еле волочусь…») не дают душе очерстветь и остыть.
Осип Брик проницательно характеризовал максималистское понимание Маяковским любви: «Маяковский понимал любовь так: если ты меня любишь, значит, ты мой, со мной, за меня, всегда, везде и при всяких обстоятельствах. Не может быть такого положения, что ты был бы против меня – как бы я ни был неправ, или несправедлив, или жесток. Ты всегда голосуешь за меня. Малейшее отклонение, малейшее колебание – уже измена. Любовь должна быть неизменна, как закон природы, не знающий исключений. <…> По Маяковскому, любовь не акт волевой, а состояние организма, как тяжесть, как тяготение».
«Тяжесть», «тяготение» – не случайные здесь слова. Лёгкая, безоблачная любовь у Маяковского – редчайшее исключение (навскидку ничего, кроме поэмы «Люблю» с её торжествующим финалом – «Не смоют любовь ни ссоры, ни вёрсты! Продумана, выверена, проверена!» – и не вспомнишь), лишь подтверждающее «правило», прекрасно сформулированное, например, в прологе к поэме «Про это»:
Эта тема ко мне заявилась гневная,
приказала:
– Подать
дней удила! –
Посмотрела, скривясь, в моё ежедневное
и грозой раскидала людей и дела.
Эта тема пришла,
остальные оттёрла
и одна
безраздельно стала близка.
Эта тема ножом подступила к горлу.
Молотобоец!
От сердца к вискам.
Эта тема день истемнила, в темень
колотись – велела – строчками лбов.
Имя
этой
теме:
. . . . . . !
Любовь, как лакмус, как рентген, выявляет всю «подноготную» поэта, просвечивает его до последних глубин, и оказывается, что перед нами, говоря словами литературоведа, автора книги «Маяковский. Самоубийство» Бенедикта Сарнова, «очень несчастливый человек. Бесконечно уязвимый, постоянно испытывающий жгучую боль. Бесконечно одинокий, страдающий. Главные чувства, владеющие его душой, – огромная жажда ласки, любви, простого человеческого сочувствия. И такой же огромный, неиссякаемый запас жалости, любви, сочувствия всему живому, каждой божьей твари… Это человек с душой не просто ранимой, а словно бы страдающей гемофилией – готовой истечь кровью от любой ничтожной царапины…».
Маяковский вселенски одинок, потому что трудно найти применение чувству такого грандиозного масштаба, такого взрывоопасного наполнения («Такого любить? Да этакий ринется!»): «Я в плену. Нет мне выкупа! Оковала земля окаянная. Я бы всех в любви моей выкупал, да в дома обнесен океан её!»
Любовь – страдание, но страдание очищающее, катарсическая мука. Как и поэзия, она убивает, чтобы тут же воскресить. Главное в любви у Маяковского – её животворное, динамическое, деятельное начало. Любовь запускает в работу человеческое сердце: «Нам любовь не рай да кущи, нам любовь гудит про то, что опять в работу пущен сердца выстывший мотор». Любовь – катализатор всего и вся. Именно безответная любовь толкает лирического героя «Облака в штанах» на вселенский бунт и «диктует» ему «четыре крика четырёх частей» поэмы «Облако в штанах».
Литературовед Е. Эткинд заметил, что космический размах «внешнего» пространства «тетраптиха» Маяковского – это ведь проекция его души, уязвлённой и оскорблённой ревностью, его горячечного мозга, работающего на полных оборотах в прислонившейся к леденящему оконному стеклу одинокой голове. Так, у Маяковского «внутреннее» мощной взрывной волной «выбрасывается» вовне: «Душу вытащу, растопчу, чтоб большая! – и окровавленную дам, как знамя».
Фитиль у этого «динамита» всегда один – любовь и бритвенная ревность, как её необходимая и неизбежная составляющая. Но ревность – заметьте – не меньше, чем к Копернику, и уж точно не к «мужу Марьи Иванны». Бытийная ревность, не бытовая. Ревность у Маяковского под стать любви, которая ведь «не в том, чтоб кипеть крутей, не в том, что жгут у́гольями, а в том, что встаёт за горами грудей над волосами-джунглями».
Показателен один биографический эпизод: поэт попросил Лилю рассказать о её свадебной ночи и пришёл в отчаянье, а Лиля в растерянность, не понимая, как можно так ревновать к «бывшему». Вскоре это отчаяние переплавилось в стихотворение «Ко всему»:
В грубом убийстве не пачкала рук ты.
Ты
уронила только:
«В мягкой постели
он,
фрукты,
вино на ладони ночного столика».
Любовь!
Только в моём
воспалённом
мозгу была ты!
Глупой комедии остановите ход!
Смотрите –
срываю игрушки-латы
я,
величайший Дон-Кихот!
Но от «глупой комедии» так просто не открестишься…
В известном письме к Лиле Маяковский нашёл потрясающую метафору любви – «сердце всего»: «Исчерпывает ли для меня любовь всё? Всё, но только иначе. Любовь – это жизнь. Это главное. От неё разворачиваются и стихи, и дела, и всё прочее. Любовь – это сердце всего. Если оно прекратит работу, всё остальное отмирает, делается лишним, ненужным. Но если сердце работает, оно не может не проявляться во всём. <…> Но если нет деятельности, я мёртв. <…> Любовь не установишь никаким “должен”, никакими “нельзя” – только свободным соревнованием со всем миром».
Поэту – 130 лет. А подпитываемое вечным двигателем любви (или, если хотите, «несгорающим костром немыслимой любви») «сердце» его поэзии работает на полную. И этот пульс будит нас, будоражит, влечёт.
Ураган,
огонь,
вода
подступают в ропоте.
Кто
сумеет
совладать?
Можете?
Попробуйте!
Даже пытаться не станем, Владимир Владимирович!
