Габриэль Гарсиа Маркес. Последнее плавание корабля-призрака
Пер. М. Петрова
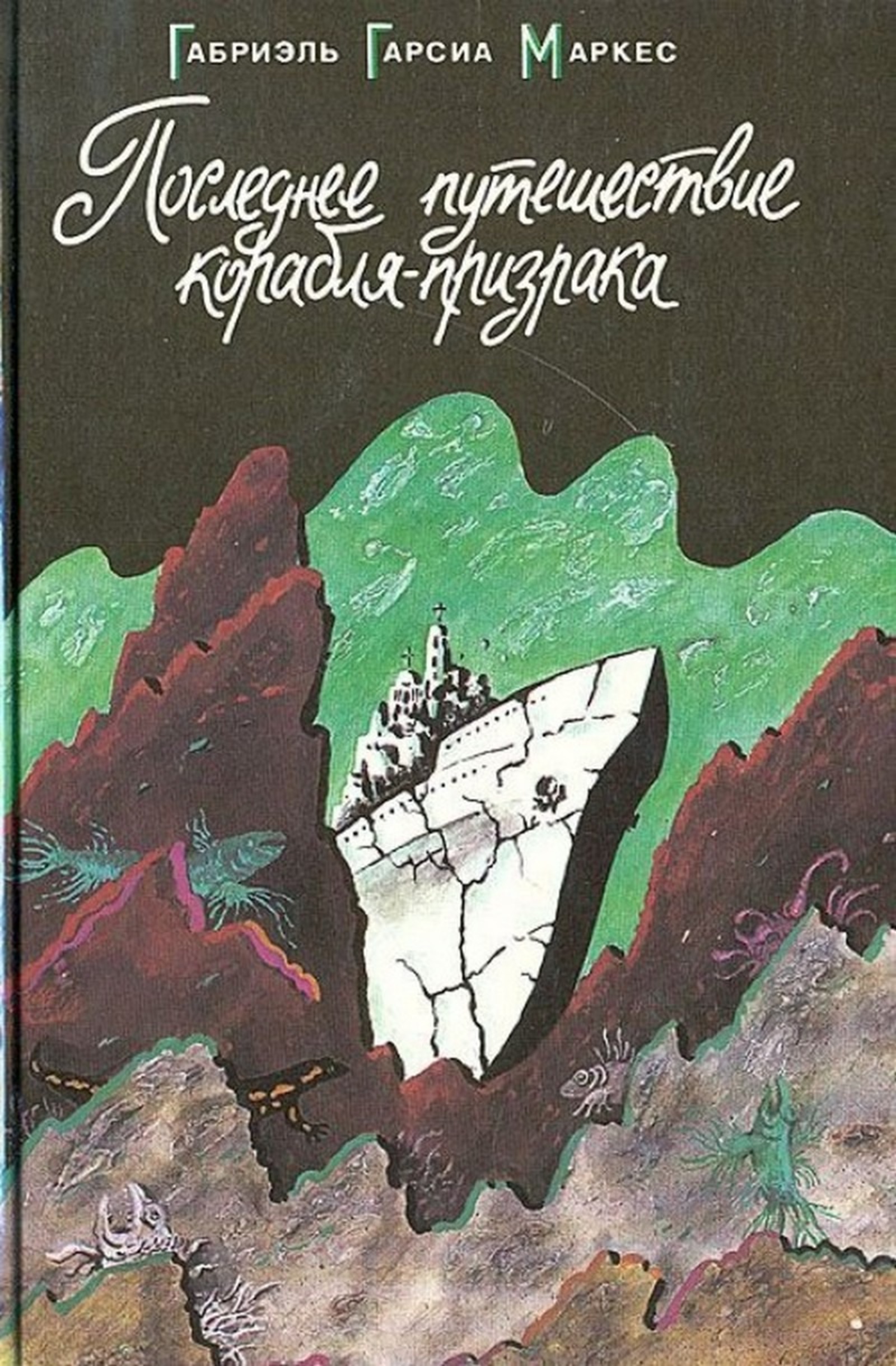
От переводчика
В году 2000-м ко мне обратился известный петербургский испанист Виктор Николаевич Андреев. Незадолго до этого он взял мои переводы не издававшихся на русском языке рассказов Кортасара. А в тот раз он предложил мне перевести рассказ Габриэля Гарсиа Маркеса El ultimo viaje del buque fantasma для готовившегося в издательстве «Азбука» сборника произведений Маркеса «Третье смирение». На тот момент существовал перевод этого рассказа Р. Рыбкина. Однако переводчик предложил выкупить у него права на переводы нескольких рассказов. Так сказать, отдавал их оптом и по-другому никак. Концепция сборника, видимо, к тому времени уже сложилась, и переводы других рассказов не вписывались в нее. Поэтому был нужен новый перевод. Отказаться от такой работы я не мог. В общем-то, как бы выспренно это ни прозвучало, это была большая честь для меня, человека, только начинавшего входить в переводческий корпус. Рассказ, написанный одним предложением, в котором важны интонация, ритм, затягивающий, обволакивающий, качающий словно на волнах – это фантастическая, магическая работа для переводчика.
Наверно, комментарии к рассказу не имеют смысла, разве что стоит, может, упомянуть, что «халалчиллаг» – с венгерского «звезда смерти».
Почему венгерский, я этого вопроса не изучал, а те немногие объяснения, что встречаются, меня не удовлетворяют.
Михаил Петров, г. Санкт-Петербург
Они меня еще узнают, я им докажу, твердил он раскатистым голосом, огрубевшим за столько лет, прошедших с той поры, когда он впервые увидел невероятных размеров океанский лайнер, который однажды ночью прошел мимо деревни, совершенно бесшумно и без единого огня на борту, словно какой-то громадный пустынный дворец, больше целой деревни и куда выше церковной колокольни, и двинулся туда, где по другую сторону залива тонул во мраке укрепленный от пиратов город колониальной эпохи, с портом, где некогда торговали рабами, с маяком, прожектор которого, вращаясь, крыльями неприветливого света каждые пятнадцать секунд превращал деревню в лунный лагерь светящихся домов и бегущих по раскаленным пустыням улиц, и хотя он был тогда еще ребенком и голосок его звучал по-детски тонко, но мать разрешала ему засиживаться допоздна на берегу и слушать, как ветер теребит струны своей арфы, и до сих пор он отчетливо помнил, как будто это случилось только вчера, – лайнер исчез, когда луч маяка едва коснулся его борта, и вновь появился, лишь только луч ушел дальше, корабль пульсировал, появляясь и пропадая на входе в залив, нащупывал вслепую, точно лунатик, обозначающие фарватер бакены, и вдруг, видно, что-то случилось с компасом и он сбился с курса, налетел на подводные камни, развалился на части и без малейшего шума затонул, хотя при таком столкновении неизбежен скрежет металла и взрыв двигающих корабль машин, которые приводили в ужас чудовищ, до сих пор дремлющих в глубине первозданной сельвы, начинавшейся прямо на окраинах города и заканчивавшейся где-то на другой стороне света, и он посчитал увиденное сном, а наутро, увидев сверкающий аквариум залива, лоскутное одеяло разбросанных по холмам негритянских лачуг, шхуны гайанских контрабандистов с попугаями на борту, зоб у которых был напичкан драгоценными камнями, он убедился в этом: да, я заснул, считая звезды, и этот невероятный корабль мне, ясное дело, просто пригрезился, и он никому не рассказал и даже уже сам позабыл об этом случае, как вдруг ровно через год в такую же мартовскую ночь, следя за играми дельфинов в море, он вновь увидел призрачный океанский лайнер, такой же мрачный, пульсирующий, с такой же печальной судьбой, как и год назад, только сейчас это был, конечно же, не сон, и он побежал рассказать все матери, а она три недели охала да причитала, потому что нечего забивать себе голову всякой ерундой и чего хорошего в том, что у него все кувырком – спит днем и шляется по ночам, словно вор, в те дни она собиралась съездить в город присмотреть себе что-нибудь поудобнее, на чем можно было бы посидеть и погрустить о своем муже, ведь вот уже одиннадцать лет, как он умер, а кресло-качалка совсем развалилось, и мать воспользовалась случаем и упросила лодочника проплыть над рифом, чтобы сын смог разглядеть то, что на самом деле видно в витрине моря: любовные игры мантаррайи среди цветущих губок, розовые морские окуни и синие горбыли, резвящиеся в ласковых водах, которые вряд ли где еще найдешь, и даже колышущиеся волосы утопленников с какого-то потерпевшего кораблекрушение колониального судна, но никаких следов затонувших лайнеров и ничего похожего на них, однако он продолжал упорствовать, и мать пообещала ему в марте следующего года посидеть с ним ночью на берегу – и это точно, – не зная о том, что в ее случае точно можно было говорить лишь о кресле времен Фрэнсиса Дрейка, которое она купила в тот день на торгах у турков и села вечером в него отдохнуть, вздыхая, о, мой бедный Олофернес, если бы ты знал, как мне легко думается о тебе, сидя на этой бархатной обивке, украшенной парчой, будто с погребального наряда царицы, но чем больше она вспоминала об умершем супруге, тем сильнее бурлила в ее жилах кровь и запекалась шоколадом в сердце, словно бы она и не сидела, а, трясясь в ознобе, бегала, исходя потом, с забившимся пылью носом, и когда он вернулся под утро, то нашел ее мертвой в кресле, еще теплой, но уже наполовину сгнившей, словно изъеденной изнутри червем, и это же случилось потом еще с четырьмя сеньорами, после чего смертоносное кресло выбросили куда подальше, в море, чтобы оно больше никому не навредило, ведь на нем сидели столько столетий, и теперь оно уже не в силах давать отдых, а ему пришлось привыкать к незавидной доле сироты, и все презрительно кивали на него, как на сына вдовы, подарившей деревне трон несчастий, на него, жившего скорее воровством рыбы, чем милостыней, а голос его день ото дня грубел, и он больше не вспоминал о своих прошлых видениях, пока однажды в такую же ночь очередного марта его взгляд случайно не задержался на море – и вдруг, Боже мой, вот он, огромный, белый, как асбест, кит, ревущий зверь, – да посмотрите ж на него, – он кричал как безумный, – посмотрите на него, – поднялся такой невообразимый шум – лай собак, причитания женщин, – что самым древним старикам передались страхи своих предков, и они попрятались под кроватями, посчитав, что вернулся Уильям Дэмпир, но выскочившие на улицу люди даже не взглянули на море – а ведь нужно было только повернуть голову, чтобы увидеть это невероятное сооружение, которое в то мгновение опять сбилось с курса и гибло в ежегодной катастрофе, – они отдубасили его хорошенько, а раз так, то они еще меня узнают, твердил он, брызгая в бешенстве слюной, я им докажу, но не обмолвился ни с кем ни единым словом и целый год вынашивал замысел – они меня еще узнают, я им докажу – и ждал лишь верной приметы, чтобы прыгнуть в чью-то лодку, переплыть на ту сторону залива, и там в ожидании своего часа он весь вечер бродил меж торговых палаток рабовладельческого порта, среди пестрой толпы торговцев Карибского моря, но, поглощенный своим приключением, он не остановился, как обычно, перед палатками индусов взглянуть на фигурки слоновой кости, вырезанные из целого бивня, не посмеялся над голландскими неграми в креслах-каталках, не отскочил в страхе, как прежде, от малайцев с кожей змеи, которые объехали весь свет, плененные сказками о земле, где можно в два счета разбогатеть, – ему было все безразлично, но лишь ночь навалилась на него всей тяжестью звезд и из сельвы потянулся сладковатый аромат гардений и гниющих саламандр, и он уже вовсю работал веслами украденной лодки и плыл к выходу из залива с потушенной лампой, чтобы не привлекать внимание береговой полиции, накрываемый каждые пятнадцать секунд зеленым крылом маяка, а затем опять темнотой, зная, что уже недалеко до бакенов, обозначающих фарватер, и не только потому, что с каждым взмахом весел их тягостный свет становился все ярче, но и потому, что стихало дыхание воды, и он греб, погруженный в свои мысли, и не сразу даже расслышал ужасающее сопение акулы, не сразу понял, почему вдруг сгустилась ночь, словно разом погасли все звезды, и это был, мама, тот самый гигантских размеров океанский лайнер, и он был больше чего бы то ни было на свете и темнее всего, что есть на земле или в воде, триста тысяч тонн акульего запаха так близко от его лодки, что он различал швы стальной громады, и ни единого лучика в бесчисленных иллюминаторах, ни малейшего вздоха в механизмах, ни намека на жизнь, а лишь принесенные кораблем особая тишина, особое пустое небо, особый мертвый воздух, особое вялое течение времени, особая рябь на море, покачивающая трупы животных, и вдруг взмах крыла – и все исчезло, – в одно мгновение вернулась прозрачность Карибского моря, мартовская ночь, каждодневная песнь пеликанов, и он оказался один среди бакенов, не зная, что делать, вопрошая в удивлении себя, неужели ему все пригрезилось, не только сейчас, но и раньше, но едва он задумался над этим, как какое-то таинственное дуновение загасило огни бакенов, от первого до последнего, и лишь свет маяка ушел, лайнер появился вновь уже с вышедшим из строя компасом, похоже, даже не подозревая, в каких водах и какого океана находится, двигаясь на ощупь в поисках невидимого фарватера, но на самом деле все больше отклоняясь к подводным камням, и он, осознавший наконец, что погасшие бакены были последним звеном в цепи роковых чар, зажег на лодке лампу, малюсенький красный огонек которой не потревожит в минаретах береговую полицию, но станет для лоцмана ориентиром, как солнце, и благодаря ему лайнер выправил курс и, сманеврировав, вошел в широкий проход фарватера, и тогда одновременно зажглись все его огни, задышали снова котлы, вспыхнули звезды на небе и трупы животных ушли на дно, и зазвенели тарелки, заструился на кухне аромат лаврового листа, и грянул на освещенных луной палубах оркестр, и забились сердца влюбленных в полумраке кают, полюбивших друг друга в открытом море, но еще свежа была обида, и потому он не поддался чувствам и не испугался чуду, а затвердил с еще большей решимостью, что либо сейчас, либо никогда, черт возьми, они меня узнают, я им всем докажу, и он не пристроился к кораблю сбоку, чтобы его не раздавила эта громадина, а стал грести перед ним, потому что еще немного и я им всем докажу, он продолжал направлять корабль своей лампой, пока не убедился на все сто в его покорности, и тогда изменил курс и повел его к пристани, выведя из невидимого фарватера и таща за собой, словно барашка на привязи, к огням спящей деревни, уже иной корабль, живой и больше не уязвимый для света маяка, лучи которого уже не растворяли его, а лишь каждые пятнадцать секунд заставляли сверкать обшивку, и вот уже видны кресты на церкви, убогие дома, ну наконец-то, а лайнер все шел за ним, неся в себе и капитана, спящего на том боку, где сердце, и усыпленных быков для корриды, и одинокого больного в лазарете, и не нужную никому воду в цистернах, и недоглядевшего лоцмана, должно быть принявшего за пристань скалы и взорвавшего воздух, как только понял ошибку, мощным ревом сирены, и он насквозь промок в осевшем на него с корабля облаке пара, сирена взревела еще раз, и лодка чуть было не перевернулась, и снова сирена, но уже слишком поздно – вот они, ракушки на берегу, камни мостовой, двери домов всех неверящих, вся деревня, освещенная огнями насмерть перепуганного лайнера, и он едва успел отскочить в сторону, чтобы дать свершиться этой катастрофе, ну что, сволочи, кричал он, перекрикивая грохот, теперь поверили, и через мгновение огромный стальной корпус вспорол землю и зазвенели разбивающиеся по всей палубе девяносто тысяч пятьсот бокалов под шампанское, и тогда стало светло, и уже не было мартовского утра, а был полдень сияющей среды, и он с наслаждением посмотрел на неверящих людей, раскрыв рот, глазевших на океанский лайнер, такой огромный, что вряд ли что с ним сравнится и в этом мире и в том, застрявший перед церковью, белее всего в округе, в двадцать раз выше колокольни и почти в сто раз длиннее деревни, и имя его – халалчиллаг – железными буквами сверкало на бортах, по которым лениво стекали древние воды мертвых морей.
Из архива: июнь 2014г.
