№12.2022. Ольга Раудина. Солнечное затмение. Рассказ
Ольга Раудина родилась в 2001 году в Самарской области. Учится на филологическом факультете Самарского социально-педагогического университета. Рассказы опубликованы в журнале «Российский колокол» и сборнике «Зачарованные сказки» от ЛитРес.
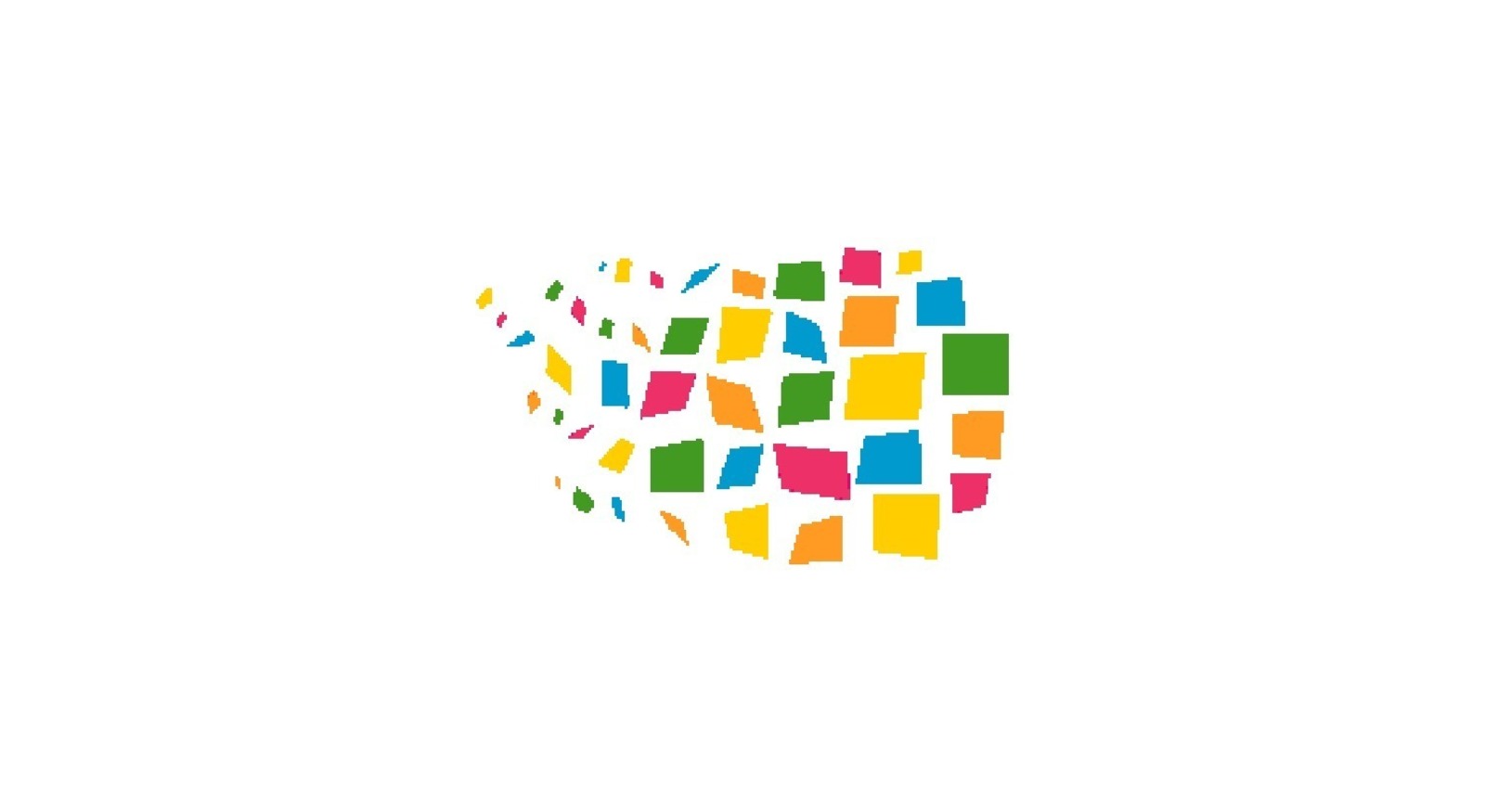
Сегодня мир исчезнет.
Осознание зреет в голове, как ягода вишни. Ягода наливается соком, чернеет, пока по горлу стекает густой пьяный мёд. Жарким пламенем разгорается он между рёбрами, горькой сладостью остаётся на языке и наполняет лёгкие, и дыхание перехватывает, точно перековывают грудь железными скобами. Приходится давиться кашлем, чтобы не разбудить спящую на лавке Ясю, – она ворочалась, когда я проходил мимо по скрипучим старым половицам.
Вторая кружка мёда охватывает тело блаженным огнём.
Кто-то кричит.
Крик бьёт по ушам. Вишня в голове блестит упругими гладкими боками и тяжелеет.
Лента алого света расстилается от окна прямо к моим ногам.
– Солнце ещё не встало, а ты уж бражничаешь, – доносится до меня сонный голос Яси.
– Спи, – шёпот мой похож на шипение. Меня по-прежнему душит кашель. – Спи и не учи меня. Авось не приведётся больше ни бражничать, ни сны сладкие видеть.
Кто-то кричит. Потом мычит неразборчиво, умоляюще. Звук утопает в суматохе, шелесте и тихих-тихих уговорах. Я слышу их так отчётливо, будто возятся прямо тут, под стенкой. Я узнаю голоса. Мычит визгливая юркая девка, что живёт через двор от нас в покосившейся трухлявой избе. Полная, мягкая и тёплая, как укрытое рушником тесто. А шепчет, стало быть, сын кузнеца, что иссохся по ней, неуступчивой.
– Чего ты скалишься? – спрашивает Яся.
Маленькие босые ноги едва-едва достают до пола, хотя ей идёт уже восьмой годок. Она сидит сгорбившись, перекинув вперёд длинные русые волосы, и хмуро смотрит на меня, точно читает мысли. Точно ещё раньше меня понимает, куда пойду.
– Спи, – повторяю. – И из избы не ходи никуда сегодня. Я к тебе тётку пришлю.
Яся молчит.
Я в третий раз прикладываюсь к ковшику. Губы привыкают к огненному питью, и горло больше не саднит. Только ягода в голове всё ещё спеет, совсем уже плотная и чёрная.
– Не ходи к ней, – говорит Яся. – Не ходи, богов разгневаешь только. Нельзя так, нельзя. Не ходи!
Она одним прыжком оказывается у печки, садится, роется в пыльном углу между белёным боком и стеной – достаёт что-то. Подходит ко мне. Переступает алую полосу.
– Не ходи, – повторяет Яся и надевает на мою шею конопляный шнурок. На нём висит щепка с защитной руной, которую выковыряла чья-то неумелая рука.
В серых глазах сестры мольба. Она готова заплакать, и я прижимаю её к себе, чтобы не видеть кривящегося лица. Глажу её по волосам, мягким, какие бывают только у самых маленьких детей. От маленьких детей пахнет молоком и кипящим соком только-только скошенной травы. Когда-то так же пахла Яся, закутанная в старую ма́терину рубаху. Я прибегал к деревянной люльке, подвешенной к потолку, наклонял её к себе и утыкался носом в круглое сестрино личико. Иногда она пыталась схватить меня за щёку, но ладошка была слишком маленькой. Ногти соскабливали с лица пыль, налипшую на знойных летних полях. Мне нравились настырные касания круглых пальчиков, и я замирал над люлькой, пока не возвращалась мать и не прогоняла меня, неумытого, от ребёнка.
Потом Яся подросла, научилась бегать на маленьких кривеньких ножках, и мы играли втроём: я, Яся и она.
Когда Яся отходит в сторону, ослепляющий красный луч бьёт в глаза.
Спелая вишня в голове взрывается дурманом и хмелем.
* * *
Крики, стоны, пьяный хохот вокруг. Кровавые пятна, разодранная одежда, криво отрезанные девичьи косы под ногами. Из одного конца деревни в другой перекатывается, петляя между домами, протяжный вой.
Мир дрожит в удушающем предсмертии.
Человеческим узором усеяны дороги и дворы.
Люди идут и падают. Выходят из дома и падают.
Падают в тумане покорного бессилия или путающей ноги браги. Падают от удара доброго соседа или заботливого сына. Кузнец висит перед домом, голый и синеватый. По сильным мускулистым ногам стекает и капает с пятки влажная вонь. Его сын, здоровенный детина с обезумевшим взглядом, привязывает к перекладине ещё одну верёвку. У его ступней бьётся, целуя и обнимая мужские колени, визгливая девка. Подол у неё оборванный и грязный. Из смятых в кровь губ вырывается пустой воздух. Она больше не кричит и не мычит. А через минуту – не живёт.
Взрывом хохота стайка мальчишек гонит толстого мужика топтать заботливо засеянные им самим грядки на общем поле. Он мешает жирный чернозём с ботвой, поскальзывается и падает, по-бабьи выпячивая мясистый зад. Встаёт и бежит. И снова падает. И бежит.
– Ноги поднимай выше!
Мальчики смеются и тычут пальцами.
– Беги быстрее!
Мальчики перепрыгивают с ноги на ногу, подгибая колени, – изображают неловкого мужика, жадно глотающего воздух через округлившийся рот.
– Волкодава выпустим! Беги!
У мальчиков чистые большие глазки, любопытные, искренние и жестокие. Мальчики всё понимают. Мальчики наслаждаются.
– Пускайте, – говорит негромко тот, что постарше. У него злое лицо и прозрачные глаза.
Три жилистые руки держат размахрившуюся верёвку, привязанную к ошейнику огромного чёрного пса. В раскрытой пасти гудит грудной рык и клокочет вязкая мутная слюна. Нос дёргается.
Пёс так давно не ел мяса.
Пёс так соскучился по кислому вкусу железа.
Пёс готов вонзить клыки в прогнившую от жадности мягкую человеческую плоть.
– Пускайте, я сказал!
Мальчик постарше держит в руке серп с заржавевшим остриём. И когда дрожащие жилистые руки сильнее хватаются за верёвку, он взмахом перерезает её.
Пёс лает на хозяина.
Пёс бежит на хозяина.
Пёс вгрызается в хозяина.
– Он укусил мою мать.
Мальчики отворачиваются, когда взрывается гроздьями алой рябины полнокровное тело. Тот, что постарше, злой, с прозрачными глазами, смотрит. По узким губам скользит острый язык.
Пёс взбивает чернозём с ботвой и ошмётками красной кожи.
Пьяный вишнёвый сок затуманивает глаза. Я иду почти на ощупь, по памяти. Дорогу к её дому я помню лучше, чем к своему.
Помню, как бежал сюда маленький, чтобы позвать в поле, в лес или к реке. Таскал за пазухой дикие яблочки и землянику в карманах и обижался, если меня прогоняла со двора злая беззубая бабка.
Я помню, как мы шли вместе на капище и ускоряли шаг, если видели вдалеке пламя разгоревшегося жертвенного костра. Я ждал, чтобы очередной неуклюжий дурак обжёг в нём руки. Она ждала, чтобы разрешили собирать ароматные травы.
Я помню, как она отказалась быть со мной. Кусал ладони, чтобы ни одна капля яда не вытекла наружу слезами.
Я копил яд. Он отравлял мою жизнь.
А теперь яд отравит её.
* * *
Яся встречает меня на крыльце в белом сарафане.
Я боюсь поднять на неё взгляд, но знаю, что она видит. Видит багровеющий след на щеке: она успела ударить прежде, чем я повалил её на пол. Видит прокусанную ладонь, которой я зажимал милый девичий рот, пока второй рукой шарил под подолом. Видит моё заплаканное лицо, пятна на рубахе, которой я пытался утереться.
– Солнце умирает, – говорит Яся спокойно.
Трава под ногами чернеет, пожираемая тенью. Падает и теряется в ней капля крови. Потом ещё и ещё, пока я не вытираю ладонь о штаны. Больно. Холодно. Не страшно.
– Если бы волхв не сказал...
– Я бы всё равно это сделал.
Голос не мой. Это говорю не я. Слова сами срываются с губ. Я поднимаю голову – и Яся меня ослепляет.
Всё равно сделал.
Горькая пьяная правда.
Я падаю на колени.
И наступает кромешная темнота.
Бесконечность течёт, пересыпается чёрным песком. Я всё ещё слышу голос Яси. Всё ещё чувствую, как она трогает меня за плечо, как шарит узкими ладошками по груди. Чувствую, как натягивается и впивается в шею конопляный шнурок – и рвётся.
– Ты Род[1] потерял.
Я жив.
Мир жив.
Серые глаза, русая коса, белый сарафан снова слепят. Я вижу светлый образ сестры, и родной двор, и слегка пожелтевшую траву с тремя багровыми пятнами, и выбеленное зноем небо. Я слышу пробуждение деревни, далёкое и удивлённое, и своё шумное дыхание. Я чувствую, как упирается в колено острый камушек.
Мне опять больно.
И хорошо. И тепло. И радостно.
Волхв ошибся. Мир не исчезнет. Мы не исчезнем.
– Ты умер, – говорит холодно Яся.
По её щеке катится слеза. И белая фигура расплывается в чужом лице, приветливом и доверчивом, а через мгновение корчащемся в безумии агонии.
Дрожащие челюсти тщетно пытаются сомкнуться на грубой ладони. Маленькая голова мечется из стороны в сторону, пока не ударяется затылком о каменный угол стены. Слабые руки бьют, и толкают, и хватаются за деревянные доски пола, собирая занозы. Она сжимает бёдра. Бьётся подо мной бесхребетной полумёртвой рыбой. Пытается выскользнуть.
Я держу крепко.
Держу, пока не расслабляются её ноги, не размякает упругое тело и не замирает на выдохе полная, блестящая от жадных мокрых поцелуев грудь.
– Ты умер.
Яся бросает окровавленный конопляный шнурок.
Алой полосой он расстилается от крыльца прямо к моим ногам.
[1] Руна, которую Яся повесила на шею брата в начале рассказа.
