№11.2022. Нина Турицына. Военнопленные. Рассказ
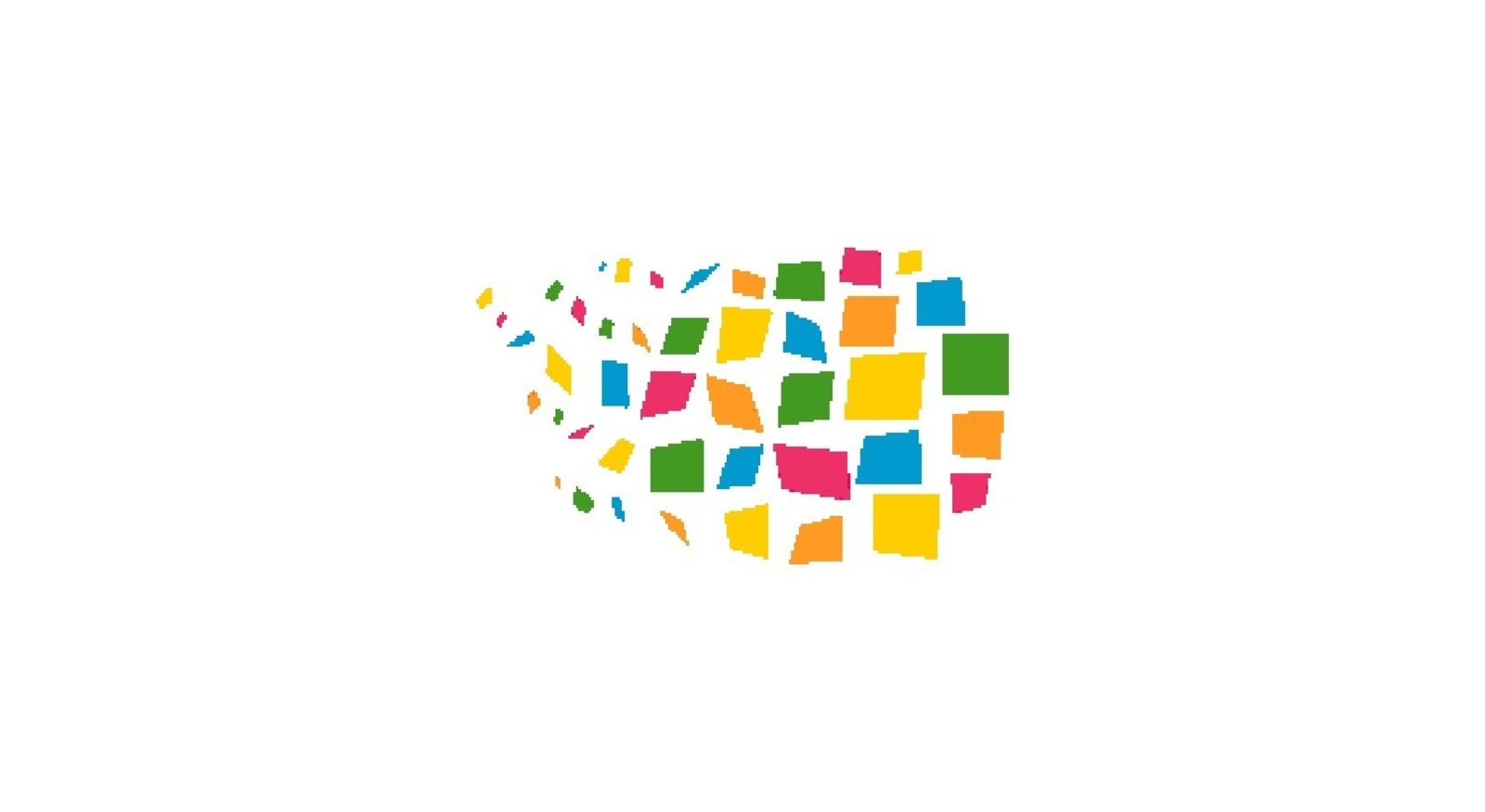
Нина Николаевна Турицына родилась в Уфе. Музыкант и филолог. Пишет прозу, стихи,публицистику, драму, занимается литературным переводом. Автор трёх книг прозы: «Белое набелом» («Китап», 2007), «Средство от измены» («Китап», 2010) «Русская парижанка» («Китап»,2016). Публикации в литературных журналах «Юность», «Аврора», «Невский альманах»(СПб),«Урал» (Екатеринбург), «Идель» (Казань), «Подъем» (Воронеж), «Башня» (Оренбург), «Бельскиепросторы» (Уфа), в журналах Канады и Германии. Шорт-лист Международного конкурса переводов«Ак торна» (2012), Лонг-лист Бунинской премии (2013). Награждена медалью «60 лет освобождения Крыма от фашистских захватчиков».
Нина Турицына
Военнопленные
Рассказ
Мы с мамой вернулись домой в июле 1945-го.
Брат погиб. Отец лежал в госпитале после тяжелого ранения.
Зимой 1944-го нас угнали из родного города в симферопольскую тюрьму гестапо.
Теперь, полтора года спустя, мы не узнавали родных мест.
Города не было. Были бесконечные развалины, остовы сожженных зданий, мусор и завалы на улицах, а на столбах кое-где надписи «Осторожно, мины».
И все-таки мы были счастливы! Это чувство жило несколько дней, но потом, после ночевок у знакомых, оно притупилось. Никто нам больно не радовался. Мы были обузой. Надо было самим устраивать свою жизнь.
Мама уходила утром, предъявляла справки о муже-красноармейце, награжденном медалями и находящемся на лечении в госпитале, и наконец смогла устроиться на неплохую работу в цехе Войковского завода, а потом и получить комнатушку в бараке, где в длинный коридор выходили бесконечные двери. Народу там было как муравьев в муравейнике!
Взрослые с утра уходили на работу – в городе уже работали многие предприятия, а другие восстанавливались, – на разборку завалов, а мы, дети, оставались одни. Сидеть дома никому не хотелось, и все собирались во дворе.
Мне было уже двенадцать лет, и я понимала всё, о чем предупреждала меня мама: не болтать о нашей жизни в Германии, о работе на ферме бауэров. И я помнила холодное недоверие офицера, допрашивавшего всех нас на пересыльном пункте в течение трех суток, и я была, как мама, этим ошеломлена! Ведь мы плакали от счастья и целовали наших освободителей, бойцов Красной армии! Только то, что мы были в партизанском отряде, спасло маму от лагеря, а меня – от спецдетдома.
И еще одно мучило меня: осенью я пойду в школу. Во второй класс! Я, уже большая девочка, буду сидеть в одном классе с малышами, которые младше меня на четыре года, на целую войну!
Я даже хотела что-то учить сама, но никаких книг, учебников – ничего не было. Никто даже не знал, где будет устроена школа, куда мы пойдем осенью.
Люди ютились, как могли: кто-то привозил на самодельных тележках камень-бут и заделывал пробоины в полуразрушенных домах, кто-то жил в землянках. Лето стояло сухое, жаркое, но что будет осенью и зимой? На разбомбленном консервном заводе нашли уцелевший склад с тарой, и целый город занялся остеклением своих строений: пол-литровые банки ставили рядами друг на друга, и так вместо голых проемов получались окна.
Хлеб выдавали по карточкам, по триста граммов на человека, и пособие на детей. Основная пища была кукурузная каша мамалыга.
Однажды соседская девочка Оля, с которой мы подружились, сказала мне по секрету, что видела шелковицу с не обобранными ягодами. Следующим утром мы отправились за тутой и вдруг увидели понурую колонну грязных мужчин, которых гнали конвоиры. Люди в колонне молчали, но по не нашей военной форме мы догадались, что это пленные фашисты. Прохожие на улице останавливались и так же молча смотрели на них. Никто не кричал им вслед ругательств, не показывал на них пальцами, но хмурые лица и повисшая в воздухе тишина, казалось, заставляли немцев пригибаться к земле.
Мы тоже остановились, а потом почему-то, не сговариваясь, пошли за ними, стараясь быть как можно незаметнее – то отставали от колонны, то скрывались за густой зеленью деревьев и кустов. Так мы дошли до длинного склада в конце улицы и увидели, как конвоиры загоняют туда пленных. Немцы снимали с себя котомки, намотанные шинели. Мы поняли, что это будет их пункт пребывания.
Мы отметили для себя это место и пошли далее, за тутой.
Ягод было много, и мы договорились, что утром на следующий день пойдем снова, но уже с котомками и кошелками.
Так и сделали. Дома все равно есть было нечего, и мы целый день провели под шелковицей. Мы ее ели, запивая водой из ближней уцелевшей колонки, давили в кружке, делая подобие компота. У нас набрались две полные котомки и корзинка.
Обратный путь пролег по той улице, где находился склад. День клонился к вечеру, и опять мы увидели длинную колонну, которую сопровождали всего два конвоира – один спереди, другой сзади. Пленные не шли – переставляли ноги. Видно было, что они очень устали после длинного трудового дня.
Один пожилой немец в очках приостановился, завидев нас. Сквозь очки мелькнул его взгляд, голодный и затравленный. И Ольга протянула ему свою корзинку!
Он недоверчиво посмотрел, потом оглянулся на конвоиров, а затем быстрым движением запустил руку, взял полную горсть ягод и закивал:
– Danke! Danke!
Я остановилась как вкопанная, но протянуть свою корзинку не смогла.
И никто из колонны не попросил.
Так и пошли дальше, они – к себе в сарай, мы – в свой барак.
Пришла с работы мама, порадовалась моей добыче, но про эпизод с пленными я почему-то промолчала.
Лежала ночью на своем топчане и думала. У бауэров мы жили вроде неплохо – голодными не были и спали в чистом сарае при коровнике на мягких матрасах.
Но прежде чем попасть к ним, нас, как скотину, – в центре современной Европы! – дотошно осматривали аккуратные немки-домохозяйки, заставляли скалить зубы и оценивали силу рук. У мамы были сильные руки бывшей доярки, а потом повара – и нас взяли. А я была худая после подземелья каменоломен, где мы сидели с партизанами, после симферопольской тюрьмы, и мама, на вопрос о моем возрасте, легко уменьшила его на два года, так что на завод, на самую страшную работу, я не попала. Там мало кто выжил, хотя в конце войны немецкие мастера, приставленные смотреть за рабами из Восточной Европы, хитро инструктировали:
– Сюда нельзя сыпать песок, а то станок испортится. И вот сюда сыпать нельзя, – и прямо показывали пальцами, где может сломаться.
Чуяли, что скоро сменится власть!
У нас с Олей появилась тайна: мы бегали к шелковице, а по дороге заворачивали смотреть на длинный сарай.
И однажды увидели неожиданную картину: после рабочего дня несколько немцев вышли и стали подметать двор. Добровольно, без конвоира!
А другие окапывали грядки и сажали в них что-то, что потом проклюнулось и оказалось цветами! И старый немец в очках был там. Он узнал Олю, улыбнулся, но кивнуть или подойти не посмел.
А у Оли на следующий день в руках появилась еще одна маленькая самодельная кошелка. Она и в нее набрала туты, а на обратном пути чуть замедлила шаг возле сарая и поставила кошелку на край грядки.
Старый немец вопросительно воззрился на нас, подошли еще несколько пленных. Мы чуть кивнули им. Тогда они взяли кошелку и стали кланяться:
– Danke! Danke schon!
А я неожиданно для самой себя ответила им:
– Bitte schon!
Если бы меня спросили, я бы ответила, что ненавижу фашистов, что никогда не прощу им смерть старшего брата, раны отца, наше с мамой рабство!
Но эти пришибленные, голодные, усталые люди, после тяжелой работы, добровольно метущие двор и сажающие цветы, – кто были они?
Такие же угнанные к нам на войну, как мы к ним – в рабство?
Они были люди? У них были семьи? Дети? И они их не видели много лет, как мы много лет не видели наших отцов.
Это не укладывалось в голове.
Иногда мы, дети, ходили в город на рынок, просто так, не надеясь ничего купить – не на что было. Мы видели в городе пленных немцев, одни разбирали завалы, оставшиеся после бомбежек, другие уже строили новые дома
Эти сталинские дома до сих пор прочно стоят в разных частях нашего города, тянущегося длинной полосой вдоль моря, на севере, в районе поселка Войково, в центре, возле рынка и автовокзала.
У них толстые стены, высокие потолки с лепниной, широкие подоконники и пролеты лестниц, крепкие двери.
А нам к осени пленные успели построить новую школу, двухэтажную.
Конечно, пока одну на весь наш район. Учеников было так много, что учиться нам пришлось в три смены: с 8 утра, с 11:30 и с 15:50.
Осенью же приехал из госпиталя отец.
Я почти не помнила его, ведь мы не виделись столько лет! Я помнила только, как он провожал меня в первый класс. Это было ранним утром, перед сменой, на которую рабочих звал гудок. Он успел проводить меня до ворот школы, поцеловал в белый бант на макушке, а потом долго махал рукой.
А теперь на вокзале даже мама с трудом узнала его в том маленьком, худеньком, сморщенном человечке, в которого он превратился.
Она заплакала, а я пряталась за ней, боясь и не смея его обнять. И он выглядел смущенным и каким-то виноватым. Мама стояла – молодая, с накрученными волосами, в красивой косынке, которую она для этой встречи и купила, чтобы скрыть старенькое вылинявшее платье. Мы должны были все вместе идти домой, ведь городского транспорта еще не было, но оказалось, что каждый шаг дается отцу с трудом. Пришлось просить шофера попутки подбросить нас до дома.
Там отца ждал накрытый стол – мама собрала всё лучшее, что было в доме, и даже купила чекушку. Но оказалось, что отцу не нужно ни картошки, ни рыбы и что есть он может только жидкую кашку.
А рюмку он даже не пригубил.
Так мы начали жить втроем.
Мама уходила утром на работу, я в школу, а он лежал один, почти не подымаясь.
Однажды ночью я проснулась от глухо звучавшего разговора. Страстный, захлёбывающийся голос, говоривший шепотом, принадлежал отцу, а мама отвечала спокойно, мягко, но в монотонных ее интонациях было что-то безнадежное.
Отец говорил:
– Человек ведь как живет? Когда с ним случается беда, он ждет, когда это кончится. Он верит, что ненадолго. Только это ожидание и помогает жить. Но если проходит месяц, второй, полгода, а конца мучениям нет, тогда начинаешь понимать, что и не будет.
Что все тебе врали и врут – и врачи, и медсёстры… А когда выписывают, уже ясно понимаешь, что всё, твое лечение кончилось, а ничего вылечить невозможно. А чем тогда жить? Зачем тогда жить? Себя и других мучая… Я был дурак, думал, тут, в родном месте, что-то изменится, наладится. Нет, Галя, мне не выздороветь, мне даже на ноги не встать. Я это чувствую.
Мама что-то зашептала в ответ.
– Ох, не надо меня утешать. Не надо мне врать. При чем здесь кашка, диета. У меня внутри всё отбито. Не жилец я.
Я лежала не шелохнувшись.
Утром всё было как обычно. Мама ушла на работу, я побежала в школу.
После уроков было торжественное собрание – нас должны были принимать в октябрята. Я по возрасту не подходила, и этот вопрос решали отдельно. Я надолго задержалась.
Когда я пришла домой, папа был еще жив, но смотрел – как из другого мира, дышал – но с предсмертным хрипом.
Я кинулась к нему, страшно закричала, он хотел мне что-то прошептать, но уже не смог.
Я побежала к соседям за помощью, а когда мы вернулись, он уже отошел.
Сообщили маме. Она прибежала растрепанная, напуганная.
Так человек ждет и знает, а когда ожидаемое случается, он все равно не готов.
Только на следующее утро мама обнаружила, что нет целой буханки черного хлеба.
Она спросила меня. Нет, я не ела.
И тогда мама поняла. Отцу надоело мучиться и мучить нас, а ускорить смерть по-другому он не захотел – пошли бы сплетни соседей и косые взгляды в мамину сторону: мол, довела инвалида.
Он ушел из жизни, чтобы понятно было только ей. И он знал, что буханку хлеба в голодное время она ему простит. Только бы она не осудила, другого суда он не боялся.
Я проучилась во втором классе полгода, одновременно сдавая за третий, в зимние каникулы ходила на дополнительные занятия, так сдала за первое полугодие третьего класса, а к весне меня перевели в четвёртый класс! Все лето я ходила в школу, занималась с учительницей, делала домашние задания, и к началу нового учебного года после сдачи экзаменов мне разрешили перейти в пятый класс.
Но в пятом в расписании появилось много новых предметов, все учителя были разные, учиться стало труднее, и ни о каких досрочных переводах уже и речи не было. Троек бы не нахватать!
Училась я старательно, и учителя у нас были хорошие, вдалбливали каждый свой предмет, пока не станет всем в классе понятно.
А дальше пошло: в 1948-м, когда отменили карточки, я окончила 6-й класс, весной 1949-го – 7-й.
Отлично сдала экзамены за семилетку и решила поступать в техникум. Но наша директриса вызвала меня к себе в кабинет:
– Неля, – впервые обратилась она не по фамилии, как было принято в школе, – подумай! Техникум – это четыре года. Но ты получишь только среднее образование. Потом нужно будет отработать по распределению. Еще три года. А там – замуж выйдешь, так и останешься недоучкой.
Помню, как резануло меня это слово.
– Получи аттестат, – продолжала она, – у тебя есть все данные окончить школу с медалью, а тогда – поедешь в университет!
У меня голова закружилась от таких перспектив, но я робко возразила:
– Мама не потянет. В техникуме стипендию дают…
– А пока можешь заработать. Мы дадим тебе путевку в пионерлагерь. Будешь помощником вожатого. Согласна?
– Конечно согласна! Спасибо вам!
Лагерь был недалеко, в Феодосии.
Корпусов еще не было, жили в палатках. Но рядом было море, золотой песчаный пляж, веселое солнце над головой и песни у костра, где пекли картошку.
Через несколько дней ко мне подошел парень, по возрасту мой ровесник, и что-то спросил про комсомольское собрание. Я ответила по-деловому, какие вопросы собираемся ставить на повестку. А он посмотрел на меня и сказал:
– Я тебя сразу заметил.
– Я что-то делаю не так? – не поняла я.
А потом посмотрела в его глаза – и впервые в жизни увидела глаза влюбленного юноши, вот только от волнения я не заметила, какого они цвета, да разве это важно?
– Тебя зовут Неля.
– Откуда ты… вы знаете?
– Узнал. А я – Борис. Познакомимся.
Он протянул руку, как взрослый.
– У нас тоже два моря. С одной стороны – Охотское, с другой – Берингово. А мы на берегу океана.
– Так это Дальний Восток?
– Камчатка.
– Другой конец земли.
Как люди, живущие так далеко друг от друга, с первого дня понимают, что это и будет твой самый близкий человек?
Он рассказывал о сопках, о гейзерах, о медведях, кормящихся у кипящих от рыбьих стай рек, об удивительных лесах, не похожих на наши.
Да у нас и лесов-то в Восточном Крыму никаких не было, только лесополосы, посаженные пионерами.
На следующий день на завтраке он спокойно пересел за наш столик. Это было нарушение, но как-то сошло.
Он не таился и не скрывался. Везде ходил за мной. Разговаривал, шутил, помогал оформлять стенды, рисовать стенгазету, и так все хорошо у него получалось.
Выяснилось – от сотрудников, со стороны, – что у себя в Петропавловске-Камчатском он – комсорг школы, отличник и спортсмен.
Сам он ничем не хвастался.
«Мы же просто товарищи», – уверяла я себя, а сама думала и думала о нем. Целыми днями!
А потом стала считать дни до конца нашей смены. Дни таяли, таяли…
Оказывается, он тоже переживал, что мы скоро расстанемся.
Однажды он пригласил меня после ужина на берег моря и заговорил об этом.
– Не представляю, что я буду делать без тебя. Вот не представляю!
И мне стало страшно. Я ведь тоже не знала, что мне делать, когда он уедет.
За несколько дней до отъезда он подошел ко мне и сунул в руку конверт.
Я сначала подумала, что пришло письмо от мамы. Нет, конверт был новый.
– Это я приготовил для тебя. Здесь мой адрес. Я первый напишу тебе, а ты мне ответишь. Ведь ответишь?
Неужели он сомневался?
– Отвечу, конечно.
Стало немного легче. Мы улыбнулись друг другу.
Я любила его первой в жизни любовью. И теперь, когда жизнь прошла, могу сказать, что главной любовью. Эти двадцать восемь дней оказались самыми дорогими в моей жизни. Он смотрит на меня со своих фотографий, и взгляд этот непереносим.
Мы узнавали друг друга всё больше, рассказывали каждый про свою жизнь, и всё было так понятно, так близко!
Конечно, не могли не заговорить про недавнюю войну. Я рассказала про гибель брата, ранение и смерть отца. О плене все же молчала, помня наставление матери.
Я рассказала Борису, что нашу школу строили пленные немцы. И он сказал, что у них тоже много строят пленные японцы.
– А ты их видел?
– Ну конечно видел.
– И какие они?
– Маленькие, узкоглазые... А ваши какие были?
– Понурые, усталые, теперь уже не страшные. Не то что в войну. Но люди им ничего обидного не кричали, а конвой – не видела, чтобы бил их.
– А подавали?
– Нет. Да и что подавать-то? Мы сами голодные. Как вспомним, как они зверствовали в оккупацию… Это так сразу не забудется.
– А у нас подавали, – сказал задумчиво Борис, – я сам однажды наблюдал. Колонна японцев, тоже все понурые, голодные, но идут строем. А женщина одна, немолодая уже, несла хлеб, отломила ломоть и подала крайнему. Он взял и закивал ей головой. Благодарил. А потом этот ломоть он стал делить на всех!
– Как это? – не поняла я
– Ломал по кусочку и передавал соседу, а сосед – своему соседу. И так, пока они не разделили весь ломоть. Всем, конечно, не досталось, но несколько рядов получили.
А дома они у нас тоже строят. Мы вот должны осенью переехать в такой дом. Отцу обещали комнату. Он военный.
– А как же адрес? – испугалась я.
– Так это будет не раньше осени. Если ты мне сразу ответишь, я успею получить по старому адресу. Нового, понятно, я еще не знаю.
Мама сначала с улыбкой приносила мне из почтового ящика его письма, но через два года, видя, как меня захватила эта переписка, стала с неудовольствием говорить, что надо думать не о том, кто живет на краю земли и кого никогда не увидишь, а о парнях, которых знаешь, которые рядом. Глядишь, среди них и жених найдется.
Но я-то знала, что мы увидимся.
Борис писал:
«Мы обязательно будем вместе, ты самый дорогой для меня человек. Что бы с нами ни случилось, главное, что я знаю: мы будем вместе».
Я окончила в то лето девятый класс, а он – школу. С замиранием сердца ждала письма, где он должен был сообщить, куда решил поступать.
А вдруг в Москву? Он же отличник. А Москва – это близко, от нас полутора суток!
Я помню, как долго не могла уснуть, зная, что назавтра должно прийти его письмо.
Там обязательно будет об окончании школы и куда он решил ехать поступать.
Потом я словно провалилась в какой-то удивительный сон – то ли ужасную сказку, то ли сказочный ужас. Мне снилась никогда мною не виденная Москва. Она вся была как Кремль с картинки, а я ходила по каким-то лестницам каких-то древнерусских соборов, рядом росли огромные ели. Было торжественно и немного страшно.
Ходила – и не могла в гулких бесконечных коридорах-лабиринтах встретить Бориса.
Сон оказался в руку.
Наутро пришло его письмо, в котором он сообщал, что поедет поступать в Хабаровск, это ближайший к ним крупный вузовский город. Оставил адрес для следующего письма:
Хабаровск, Главпочтамт, до востребования.
У меня оборвалось в душе – значит, не увидимся…
Но он опять писал: «Мы будем вместе».
Только когда?
В следующем письме он радостно сообщал, что поступил. А я ответила, что работаю вожатой в лагере, организованном при нашей школе. Впереди – десятый класс. А после школы решила поступать в Ростовский университет.
После первой сессии он написал:
«Наверно, в конце года я переведусь на заочное. Отец должен выйти в отставку и будет получать только небольшую пенсию.
Зато у меня есть для тебя потрясающая новость!
Таким, как он, теперь дается разрешение на переезд. Куда, ты думаешь? В Крым!
Родители знают про тебя, и всей семьей решили, что будем переезжать в Керчь.
Я ведь не зря писал тебе все эти годы, что мы будем вместе!»
Я кружилась по комнате с этим письмом. Я танцевала и пела!
Всего полгода! Всего полгода!
Ой, а ведь надо сшить себе нарядное платье к его приезду. Надо спросить у знакомой парикмахерши-соседки, точно ли идет мне эта прическа – гладко зачесанные назад волосы. Надо научиться ходить на каблучках.
Все в городе стали одеваться наряднее. Женщины старались шить платья из ярких тканей с цветами, а на голову кокетливо повязывали косынки узелками вперед. О шляпках никто и не вспоминал.
Мужчины сняли свои шинели и перешивали их на штатское. А парусиновые туфли тщательно чистили зубным порошком.
В Крым пришла весна. Это был абрикосовый год в Керчи. Такого буйного цветения я не помню за всю жизнь! Город стоял в бело-розовом облаке. Как все радовались будущему урожаю! А я с гордостью думала, каким богатством и красотой встретит осенью семью Бориса наша Керчь.
Мое нетерпение достигло крайних пределов. Как я жила целые годы? Теперь я не могла дотерпеть десяти дней до его очередного письма.
Я отметила в отрывном календаре примерную дату его приезда и каждый вечер перебирала пачку календарных листов до заветной даты. Пачка была толстая, она почти не убывала!
А надо было еще готовиться к экзаменам, выпускным и вступительным, надо было помогать маме по дому и в маленьком огородике, который теперь каждый из жильцов нашего барака-муравейника устраивал себе на газоне перед домом. Люди сажали там овощи и картошку.
А потом…
Прошли очередные десять дней – а письма от него не было.
Это было невероятно! Впервые за все годы, когда ждать осталось так немного!
Мама говорила мне:
– Люди готовятся к переезду. До тебя ли тут!
Разве могло меня успокоить такое заявление!
Прошел еще день, еще. Нет.
Тогда мама высказала другую версию:
– Ведь бывает, что письма и не доходят.
– За все годы не пропало ни одного письма!
– Вот именно! Когда-нибудь должно было это случиться!
– И что теперь делать?
– Ждать… Напишет же еще.
Я ждала.
Я ходила в школу как во сне, там что-то говорили, кого-то спрашивали, что-то объясняли.
Кто бы объяснил мне, что случилось? Что могло случиться?
И через следующий обычный наш срок между письмами от него ничего не было.
Ну, предположим, первое письмо не дошло. И он тоже ждал моего ответа.
– Мама! А если он не дождался?.. Может, письмо пропало, как ты предположила…
– Ты хочешь спросить, можно ли самой еще раз написать?
Да, именно это я хотела спросить. Мама задумчиво покачала головой:
– Давай подождем еще. Подумает, что набиваешься. Кто его знает, что там у него приключилось…
Вон даже как! У меня всё задрожало внутри. Приключиться может только приключение. Неужели у него кто-то другой? Какая-то другая?
Что страшнее – неизвестность или предательство?
Все-таки неизвестность.
Если человек тебе изменил, его легче забыть, всегда стараются забыть всё плохое.
Ведь не зря говорят: презирать предателя, но терзаться – неизвестностью.
Я любила Борю. За годы переписки я узнавала его все больше и теперь могла бы сказать, что знаю его всего. Если бы он встретил другую, он бы честно написал об этом.
И я решила – втайне от мамы – написать еще раз. К сожалению, я упустила время. Может быть, они уже уехали со старой квартиры? Я написала в Хабаровск. Прошла неделя, две…
Ответа не было.
В ужасе, что опоздала, зря потеряла время, мучая его и себя своей нелепой гордыней, когда, может быть, с ним что-то случилось, я написала в Петропавловск-Камчатский.
И ответ пришел.
Никому бы, даже врагам, не получать таких писем!
В почтовый ящик положили извещение, что на почте меня ждет заказное письмо.
Я помню, что радость у меня мелькнула лишь на миг. Ее сменила тревога.
Сбросив только туфли, как была, в пальто, я забежала в комнату и лихорадочно начала искать паспорт. До почты я старалась не бежать, но все равно часть пути пронеслась рысью, как напуганная лошадка.
Там стояла очередь. Я спросила, кто последний, и прислонилась к стене.
Очередь медленно ползла к окошку.
Наконец я подала служащей свой паспорт.
– Вам чего? – спросила она.
– Мне пришло заказное письмо…
– А где ж твоя квитанция?
Я растерянно посмотрела на нее:
– Дома забыла. Да вы же мне сегодня в ящик положили.
– Ничего не знаю. Я не ложила. Дайте квитанцию.
Я едва стояла на ногах.
Тут уж очередь вступилась:
– Да дайте уж девушке! Она ж с документом пришла! Чужого письма ей не надо!
Почтальонша для вида еще поворчала, но все же полезла в коробку, где друг за другом, как солдаты в колонне, стояли письма, заказные и те, которые не нужно было разносить по адресам. Она быстро нашла письмо, еще раз придирчиво проверила паспорт и протянула мне конверт. Я хотела крикнуть:
– Это не мне!
Был чужой конверт, адрес отпечатан на машинке. Но фамилия стояла моя. И имя мое.
Я взяла.
Вышла на улицу.
Здесь читать или до дома донести?
Лучше узнать позже, лучше дома.
Там в прихожей, которая служила и кухней, я разулась, сняла пальто и, неся письмо, как маленький гробик, прошла в комнату. Что же в нем? Чужой рукой, может быть, женской, а может быть, его родителей, отпечатанный мне отказ? Но почему на машинке? Этот машинописный адрес пугал больше всего.
Я надеялась, что хотя бы письмо будет от руки. Но и письмо оказалось официальным ответом какой-то официальной организации.
В нем сообщалось, что дом, который строили пленные японцы, они, как вредители и враги нашей Родины, строили с нарушением технологий. В бетон, как установила комиссия, они замешивали слишком много песка. За годы эксплуатации перекрытия пришли в негодность и обрушились. Есть человеческие жертвы. В их числе…
– Нет, – страшно закричала я. – Нет!
А потом неудержимым потоком полились слезы. Я не плакала – я рыдала. Какое-то дикое счастье было в этом рыдании.
Мама пришла на обед. Она подумала, что дочь сошла с ума, повторяя бессмысленно:
– Слишком много песка. Слишком много песка…
