№5.2022. Альфред Стасюконис. Кладбищенский рентген. Рассказ
Альфред Брониславович Стасюконис родился 27 мая 1957 года на станции Тавтиманово Иглинского района. Более 35 лет трудился в СМИ. Лауреат первого окружного фестиваля Приволжской прессы и премии им. Шагита Худайбердина.
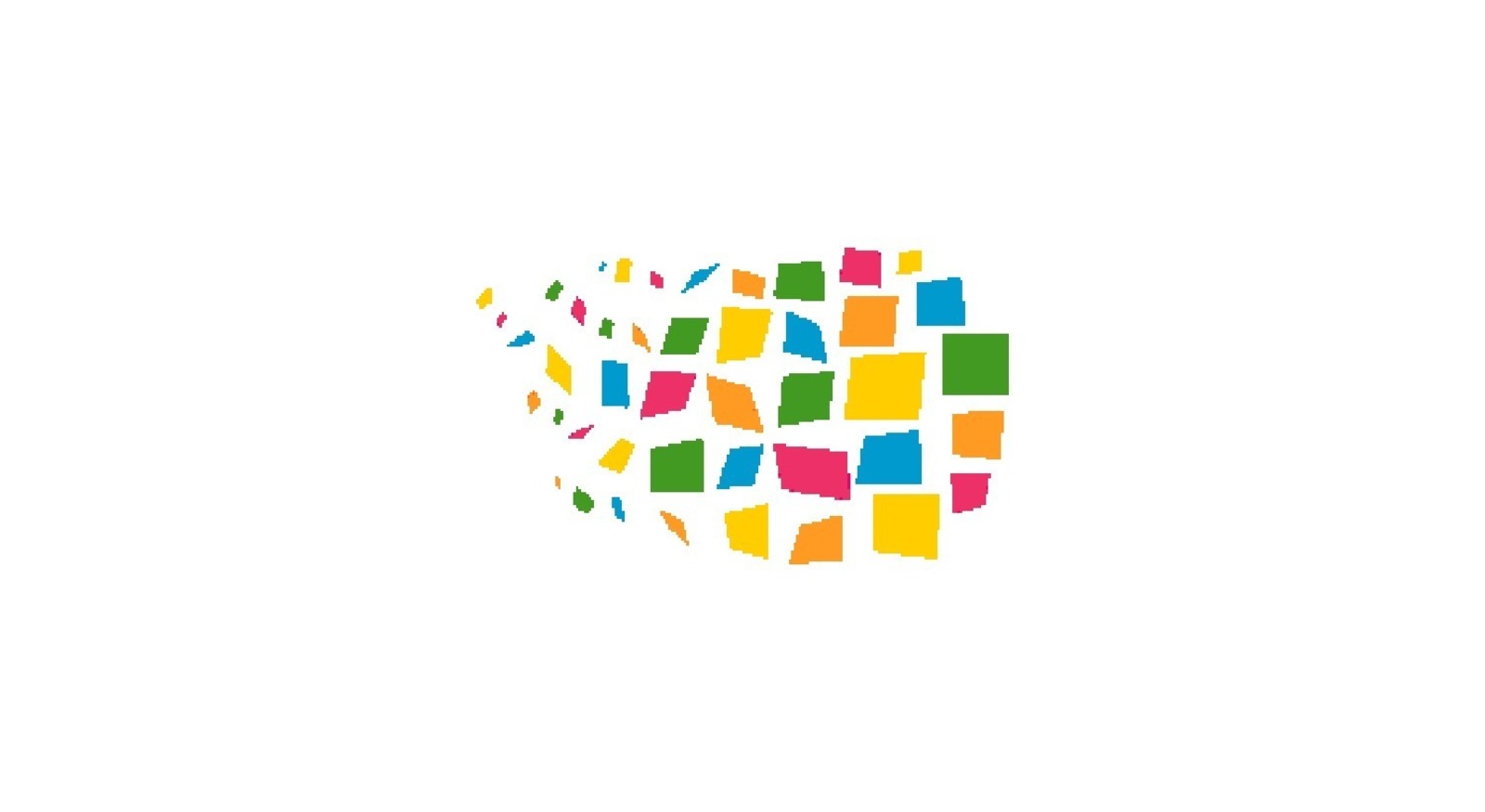
Альфред Брониславович Стасюконис родился 27 мая 1957 года на станции Тавтиманово Иглинского района. Более 35 лет трудился в СМИ. Лауреат первого окружного фестиваля Приволжской прессы и премии им. Шагита Худайбердина. Заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан. Автор нескольких публицистических книг, стихотворных подборок и рассказов
Кладбищенский рентген
Рассказ
Я добрался, наконец, до нашего старого деревенского кладбища, чтобы поклониться могилам родителей, дедушки и бабушки. Давно здесь не был. Так давно, что стыдно и признаться. Но ничего за все эти годы тут не изменилось: та же ржавая, покосившаяся изгородь, справа от входа – гора мусора, из которой торчат отслужившие свое кресты и венки, слева – огромная лужа в просевшей грунтовке. Сам погост утопает в зарослях травы и бурьяна, скрывающих серые надгробья. Разросшиеся кусты сирени и калины наглухо упрятали от глаз человеческих иные захоронения. Поверх всего этого кладбищенского запустения высятся вековые березы и осокори. Мощные и величественные, будто спешащие куда-то великаны замерли, пораженные неприглядным видом последнего пристанища людей. Замерли, да так и не сойдут с места. А вот жители ближайших сел и деревень с пренебрежительным спокойствием взирают на греховный беспорядок. Как будто не замечая толстенных сучьев, покоящихся на погнутых оградах, на могилах, охвативших их сухими ветками, похожими на окаменелые щупальца ископаемого монстра. Если мы так относимся к своему прошлому, как можем относиться к своему настоящему?
Я привел в порядок могилки близких, постоял, повспоминал всех и направился к выходу, как увидел тянущего за собой воз травы мужчину. Вот он приблизился – потный, худой, как штакетник, но с удивительно живыми глазами. И улыбкой – мягко-завораживающей, предельно доверительной. Точно: Витька-мореман. Так его у нас звали. Был он старшим в семье. В начале шестидесятых, когда космические корабли вовсю бороздили просторы вселенной, а жрать в семье колхозника из пяти детей было нечего, отец Витьки умудрился умыкнуть с посевной полмешка гречки. Пропажу быстро обнаружили – бригадир шум поднял, и дали Витькиному папане пять лет. По году на каждого ребенка. Отправился он на лесосеку под Красноярск. Выживай семья, как знаешь. А ты, кормилец, вкалывай на обожаемое государство за тридевять земель.
Через три года Витькиного отца убили. Кто и за что – поди разберись. Продала мать теленка до срока, оставила малолеток на соседей да подалась с Витькой в тайгу мужа хоронить. Почти неделю добирались. Все время их там ждали – не предавали земле тело упокоившегося, в леднике держали. Отдали жена и сын долг последний главе семейства, поминки справили, поблагодарили всех, кто не сторопился с погребением, да в обратную дорогу. После скорбной поездки вырученных с бычка денег почти не осталось. Что делать? Прежде мать на птичнике работала – кой-какую копейку имела, да сдох сей птичник вместе с курями. Удобрения с полей после дождей белесыми ручьями текли к саманному корпусу, тонул он в этом плодородии и залоге высоких урожаев. Председатель-орденоносец рассудил: на хрен его, птичник долбаный, одна морока. Снес бульдозером до основания. Осталась Витькина мать без работы.
Витька к тому времени в техникум строительный засобирался – учился на беду свою шибко хорошо. Учителя отговаривали: заканчивай десять классов и дуй прямиком в институт. Но Витька в ответ только головой мотал – надоело ему в школу на станцию за шесть километров в любую непогодь мыкаться, а помочь матери с сестренками хотелось быстрее. Строитель – специальность стоящая, с нею завсегда при деньгах. Но мать запричитала:
– Как же я, сынок, девок наших подымать стану? И тебя кормить-одевать? На стипендию-то не разживешься.
Посопел Витька, посопел, свернул своей мечте, как лебедю, шею и навострил лыжи в училище. И уже через полгода первую получку принес. Мать, сидя под фотографическим портретом мужа, долго бумажки перебирала – зелененькие да красненькие. И глаза, распухшие от слез, платком вытирала:
– Дождались помочи, Господи, дождались…
Во флот Витьку призвали, когда он уже бригадирствовал. Самым молодым в городе. Его даже по телевизору показывали. Мужики тогда в деревне только об этом и судачили:
– Растет. Как на дрожжах. Уже обчежитие имеет. Женится – квартиру дадут. А чего бы тут делал? Быкам хвосты за спасибо крутил? Или на тракторе пылюкой давился? Не-а, молодец, паря…
Спустя три года, уже по зиме, Витька прямо с электрички заявился к нам, ученикам младших классов, в интернат. В черном бушлате и бескозырке, с раскрасневшимся от мороза лицом, пропахший морем и заиндевелым декабрем, он с порога улыбнулся всем нам:
– Привет, салажата. А ну налетай!
К Витьке с визгом бросились две его сестрички. Мы, мальчишки, торопились по-взрослому поздороваться с ним за руку. Ладонь его оказалась горячей и холодной одновременно. И еще – крепкой и твердой. Какими, наверное, и бывают корабельные якоря, ставшие символом флотской службы и надежности вообще.
– Налетай! – продолжал широко улыбаться Витька. И, едва освободившись от повисших на нем сестренок, шагнул в тесную интернатскую столовую, развязал рюкзак и горстями, как фокусник, стал извлекать его содержимое – шоколадные конфеты и апельсины.
Мы с криками хватали угощение, прыгали от восторга вокруг Витьки, словно вокруг Деда Мороза, а он заразительно смеялся:
– Гуляй, братва! Свобода!
С тех пор к нему накрепко приклеилась эта кличка – Витька-мореман.
Объявлялся он в деревне редко – все на стройке вкалывал. Повысили его то ли до мастера, то ли до прораба. Дальше – нельзя. Образования нет. Мозги есть, корочки отсутствуют. Начальство давило: подавай документы в институт, возьмут без экзаменов. Куда там! У Витьки другое обстоятельство – амурное. Удивительной красоты девку подцепил. Когда привез ее в деревню, взрослые, встречаясь с матерью, поздравляли:
– Видная какая! Просто загляденье.
Сухонькая тетя Нюра отвечала спокойно:
– Что правда, то правда: хоть икону с нее пиши. А жить-то с человеком надо. Посмотрим.
С тех пор я с Витькой больше не виделся. Повстречались как-то мельком, когда в отпуск приезжал, да только поговорить толком не получилось: торопился куда-то он, опухший, с запахом перегара, словно стесняясь своего вида и состояния, бросил лишь на ходу:
– Ха! Землячок! Ну, бывай. Авось свидимся.
И улыбнулся остатками хорошо знакомой улыбки, похожей в этот раз на обглоданную корку дыни.
Потом мне рассказали, что иконоподобная жена Витьки в девяностые познакомилась с итальянцем и уехала к нему вместе с дочкой. Витька бросил работу, перебрался в маленький домик матери и запил. С тех пор и не просыхает.
– Вот так встреча! – обрадовался Виктор. – И где? На кладбище!
– Вообще-то, не самое плохое место, – заметил я.
– Это точно. – Виктор отер верхом фуражки потное лицо. – Главное – тихое.
– Чего это ты косовицу на кладбище затеял? Вон за речкой – коси да коси. Никому не надо.
– Так и мне тоже, – хмыкнул он. – Я корову не держу.
– Не понял, – удивился я. – Чего ж отсюда траву чалишь?
Виктор посмотрел на меня снисходительно. Как на маленького. Тогда, в интернате.
– Так порядок, землячок, навожу. Вам же всем некогда. А сельсоветам – не на что. Вот и лежат наши родные, как на помойке.
Я оторопел.
– Как же тебе это в голову пришло? – только и сумел выдавить.
– Сам не знаю, – Виктор уже не улыбался. – Я же мать схоронил. Прогудишь лето, осенью придешь на могилку – она вся в траве. Так муторно на душе сделается – хоть в петлю лезь. Раз повыдергал, два. А кругом не лучше. Никому не надо. У всех – проблемы. Прикрываем ими свою бессовестность, как голый зад тазиком на проспекте. Только проблем, землячок, если разобраться, нет. А если и есть, то они вот тут начинаются, с того, как мы к своим предкам относимся. Это я точно теперь знаю.
Усталость с меня как рукой сняло. Такое случается, когда встречаешься с интересным собеседником, который с первых же минут завораживает тебя ходом своих рассуждений. Нечто подобное происходило со мной в процессе общения с некоторыми учеными, людьми в высшей степени эрудированными, не зацикленными на высказываниях классиков. Так-то – ученые, среди которых, к слову, полно профанов, сделавших кандидатские и докторские благодаря деньгам и связям и просто своей тупой настойчивости. А тут – по сути, простой забулдыга, на которого все давно махнули рукой. Но именно он возьми да и встряхни тебя, словно грязную тряпку. Пыль столбом!
Мы присели на старую скамеечку у могилки.
– Помнишь директора восьмилетки? – продолжил Виктор. – Уважаемый человек в поселке. Фронтовик. Две дочери у него. Обе отличницы. Уж как он ими гордился! Одна педагогический окончила, другая – медицинский. Но никто из них сюда глаз не кажет. Уж сколько лет. На могилах родителей – бурьян в человеческий рост. Это как понимать? Ты ж не только сам – детей своих обязан привезти, внуков, чтобы знали они, где предки упокоились. И чтобы не забывали сюда дорогу. Иначе какие мы люди?
– Может, случилось с ними что, – попробовал я возразить. – Всякое бывает. Жизнь есть жизнь.
– Во, землячок, – встрепенулся Виктор, хлопнув себя лопухами ладоней по жердочкам коленей, – и ты туда же! Жизнь такая, какие мы. А не наоборот. Как наловчились все на нее списывать. На судьбу, на Бога. Но лично сам – ни при чем. Удобно. Оттого и в стране у нас все с ног на голову. Который век. Эх ты. Ничего с этими девками директорскими не приключилось. Живее всех живых. Распрекрасно здравствуют. Я ж узнавал на станции у знакомых. Так, ради интереса. Не считают нужным приехать. Понимаешь? Плевать они хотели на то, что папаша с мамашей кормили их, одевали, учили, свадьбы справляли. Себя при этом в чем-то обделяя. Получили сполна – и вычеркнули из памяти. Ну, как так? Вот почти у каждой могилки могу рассказать о непорядочности людской. Знаешь, иногда мне кажется, что разум нам дан исключительно для того, чтобы обманывать друг друга. Учимся этому со школы: говорим то, что должно понравиться учителю, но сами при этом показываем ему фигу в кармане. То же самое – в университете, потом – на работе. Что, не так, скажешь? Не возражай. Кладбище мозги прочищает. Убедился в этом. Извини, но человек в высшей степени существо двуличное и эгоистичное. Неприятное. Мы лишь маскируем эту неприятность. С помощью словоблудия. Жизнь на это кладем. Чем выше взбираемся, тем больше с совестью поступаться приходится. А за место под солнцем с нею принято расставаться навсегда. Какой идиот придумал эту фразу: хороших людей – большинство. Он что, их каким-то рентгеном просвечивал? Нет, землячок, не надо пытаться казаться лучше, чем ты есть на самом деле. От этого напряга лишь больше уродство души выпирает.
Витькино откровение меня поразило. Аж дыхание перехватило. Еще бы! Живешь как все, вроде бы – правильно, во всяком случае, так убеждаешь себя сам, но находится кто-то, кого ты, возможно, считаешь выбившимся из общего строя, чуть ли не ущербным, лишним на земле, но вот именно он опускает тебя на нее с небес. Со всего маху. Хрясь об нее! Только искры из глаз. Понятно, кому понравится? Вот и я внутренне воспротивился тому, что сказал Виктор. Хотя чувствовал: завоевывает он мое расположение, как тогда, в детстве, явившись к нам в школьный интернат в морской форме.
– Сам-то как? – спросил я Виктора, заметив, как он дышит – тяжеловато, с хрипотцой.
– Ничего, землячок, держимся, – улыбнулся он все той же обезоруживающей улыбкой. – В прошлом году впервые после призыва врачей прошел. Бабенка одна заставила. Авторучка-то еще пишет, – бросил Виктор взгляд себе между ног. – Ну и выяснилось: анализы у меня как у космонавта. Кровь чистая, печенка – тоже. Смешно. У меня же водяра заместо хлеба была.
– И стоит этим гордиться? Других критикуешь, а сам вроде как пушистый. Так не бывает. Извини, конечно, но ты просто в бессилии расписался. Не так?
Виктор дернул головой. Словно от случайного удара током, скорчил гримасу.
– А чего тебя извинять? Твоя правда. Я ж не спорю, – уже добродушно улыбнулся он. – Понимаешь, на эмоции повелся. Жизнь без нее не жизнь и все такое. И что интересно: сколько раз околеть мог по зиме, под поезд попасть – все нипочем. И вот сижу как-то у окна. До пенсии – две недели, из жратвы – только чай. Сестры – в городе, при делах, всех поднял, а меня сторонятся, мать – на погосте. И тут озарило: если до сих пор не околел, значит, для чего-то меня Господь еще держит на этой земле? Взял грабли, косу, вилы и пошел в тот же день порядок наводить. А когда домой вернулся, такое облегчение испытал, будто душу мою кто-то ершиком, как бутылку из-под кефира раньше, прошуровал. Теперь хожу сюда как на работу.
Виктор достал помятую пачку дешевых сигарет, затянулся дымом, откинув назад голову, и с шумом выдохнул отраву.
Я смотрел на него и не понимал: то ли действительно человек преобразился, то ли крыша у него на почве пьянки поехала. Мы ведь как привыкли рассуждать: если кто-то чего-то просто так делает, до чего другим дела нет, значит, тронулся милый. А если наоборот?
– И что, оценили твое рвение? Что говорят?
– Разное. Мол, от сельсовета я, что ли? Никому невдомек, что я – от себя. А кто-то вообще не смотрит. Приедут, похоронят, разопьют несколько пузырей – и орут на всю округу, выясняют, где кто лежит. Смотрю на них и обалдеваю: себя со стороны вижу. Образованные люди встречаются, а такую хренотень вытворяют: то еду на могиле оставят, то бутылку вина с сигаретами. Это же не кладбище, а какой-то буфет на обочине. Я тут недавно вычитал: за границей даже выходные есть, когда все в государстве – начиная с президента и кончая дворником – посещают могилы близких. Все у них ухожено, благоустроено. А у нас? Бардак на бардаке. Всем некогда, все куда-то торопятся. Изображают из себя важных и нужных. Но просвети его кладбищенским рентгеном – ничего такого не обнаружится, так, пустота. Вот недавно старушку одну хоронили. Была среди родственников профессорша – преподаватель института. Мужики говорили, чуть ли не десять дипломов у нее. И вот подходит она потом ко мне, достает из сумки бутылку и просит, чтобы я присмотрел за могилкой. Спрашиваю ее: сами приезжать не собираетесь? Ой, что вы, отвечает, мне ведь некогда. С утра до ночи кручусь. А вы-то рядом, не откажите. И смеется как-то по-дурацки, ровно ненормальная.
Или вот еще. По осени уроженца соседнего села хоронили. В городе он у сына свой век доживал. Простой старичок. Не фронтовик. А сын – в полиции. Большую должность занимает. И вот он, значит, похороны устроил. КамАЗы два дня гравий к подъезду возили – тут не проехать после дождей, простые люди по километру на себе гробы несут, оркестр духовой на автобусе прикатил, и даже из автоматов постреляли. Думаешь, на свои деньги этот начальник в погонах фейерверк организовал? Позвонил одному, позвонил другому – дело сделано. А дороги как не было, так и нет. Никого не волнует. И все при медалях, при орденах, мать твою. Как будто три мировые отвоевали. А совесть где? Не видно ее. Заросла она, как могилка бурьяном, коростой наживы. Я вот иногда читаю о новых назначениях – по три-четыре вуза ребята осилили. Ради чего? Чтобы анкету себе оформить. Для продвижения. И ведь двигают! Чем больше корочек – тем ты умнее. Хотя тут естественный вопрос возникает. Если ты столько учился, когда же работал? Ведь чтобы специалистом стоящим стать, надо лет десять-пятнадцать повкалывать. Ну а если ты действительно работал, то когда же и как учился? Тоже благодаря связям? И потом удивляемся, чего у нас кадры такие бестолковые? До абсурда ситуацию довели. Кругом одни ученые. А дорог нет, поля в бурьяне. Форд вон высшего образования не имел, а какой автомобиль придумал и сборку. Человека по делам, по способностям его надо оценивать, а не по бумажке.
По прошествии какого-то времени, вспоминая эту встречу с Виктором, я искренне недоумевал: почему он вызывает в моей душе вполне определенные симпатии? Человек в данном случае, как принято говорить, не состоялся, расписался в собственном бессилии противостоять обстоятельствам, брать верх над ними, закаляя, таким образом, волю и характер. Словом, опустился ниже некуда. А теперь, видите ли, винит тех, кто чего-то достиг, в том, что они неправильно живут, не тем руководствуются в суетной повседневности, которая на поверку, в силу этих причин, оказывается лживой и уродливой, будто доисторический персонаж эпохи палеолита. Примерно так мы в подобных случаях рассуждаем. И считаем при этом себя абсолютно правыми. Не позволяя сознанию усомниться в собственной непогрешимости. Вот идет, к примеру, человек по жизни, как бульдозер по снегу, разметая по сторонам и калеча судьбы других. Ради личной выгоды, ради своего благополучия. Но никто при этом его не осудит, не встряхнет за шиворот, наоборот, умеющих расчищать себе дорогу всячески поощряют. Что это – несовершенство нашего государственного устройства или же банальная тысячелетняя привычка возвышаться за счет других, более слабых? Не об этом ли писали классики еще со времен античной литературы, высмеивая людские пороки? Но если классики сегодня актуальны, это их заслуга или наша вина?
Получается, в обществе сильны традиции затирать тех, кто бросает ему вызовы. Это как по привычке затереть брошенный окурок – он уже не нужен, а опасность определенную представляет. Может, в этом все дело?
Похоже, мы действительно живем в мире клишированных представлений о нем. Нам важен сиюминутный результат, мгновенная отдача, подразумевающая материальные блага, ради которых человек как раз и перестает критически относиться к самому себе, к тому, что делает, что, в конце концов, происходит вокруг него. Он принимает условия игры, придуманной задолго до его появления на свет. Она его устраивает. В силу своего комфортного существования. Все остальное – угрызения совести, нелогичность происходящего – его не волнуют. Интеллектуальные потуги, связанные с поиском смысла жизни, стали признаком дурного тона, атавизмом, они атрофировались, как хвост человека в процессе его эволюции. Кому, скажите, захочется в подобном признаваться?
Я взглянул на часы – надо было спешить на электричку. Виктор ухмыльнулся:
– Все торопимся. А куда? Не понимаем, что дело подчас здесь, на месте ждет. Смотри, сколько огородов брошенных, дома целые стоят. Селись, сажай картошку. С голоду не околеешь. Земля сама силы дает тем, кто на нее возвращается. Я это давно понял.
– Лирика, – я почувствовал, что почему-то начинаю раздражаться. Не от того ли, что меня самого действительно тянет в родные места, а я пытаюсь убедить себя в том, что все это – блажь, наваждение, которые надо пережить. А как жить, если засыпаешь и просыпаешься с одной и той же мыслью? Вот нарвался, подумал, на возмутителя спокойствия, как ротозей на мину – прибить не прибило, но жить, как прежде, уже вряд ли сможешь.
Ладно, решил я, поеду следующей электричкой. Когда еще и кто будет вправлять тебе мозги и врачевать душу? Не телевизор же.
– Да ты садись, садись, – пригласил Виктор.
Он сам уселся на траву и привалился к забору.
– Все беды у нас – от торжества несправедливости, – продолжил он. – Из-за этого все восстания происходили. А кто несправедливость творит? Тот, у кого деньги. Много денег. У совестливого человека их нет. Потому что воровать его Бог не сподобил. Тут у нас один тип поселился лет двадцать назад. На пенсию с бабой пошел, и вернулись в родительскую развалюху. А отец у него еще тот фрукт был – на фронте самострел в ногу зафигачил. Вся деревня об этом знала. Ты не слышал? Уж как он вывернулся – черт его разберет. Зато стал инвалидом войны. Пчел развел – больше, чем на колхозной пасеке. Ему мужики говорили: куда столько, жопа слипнется. А тот только сопит от злости да клюкой грозит. Вот сынок-то его квартиру в городе – на замок, а сам – сюда. Земли нахватал. Она вся в сорняках. Власть не штрафует, а пчелы мед таскают. Флягами продает. Спросил как-то: зачем тебе столько? Знаешь, что он ответил? Жадность, говорит, вперед человека народилась. Во как! Я возражаю: любовь, мол, правит миром. Какая еще жадность? Иди, толкает меня, со своей любовью, алкаш недоделанный. Вот уж правду говорят: яблоко от яблони недалеко падает. Такое зло меня взяло – прямо голова от возмущения загудела. Ты, говорю, хоть бы раз ведро меда в школу ученикам увез. Или в детдом. Что ты! Так взвился – будто лист осиновый на ветру. Не смотри, что восемьдесят ему. И баба его подскочила – нос острый, глазки крысиные. Вылитая шушера. Как они меня поперли – ты бы видел. С тех пор я для них – враг заклятый. Вскорости, по зиме, я забухал. Два месяца куролесил. Собачонка моя, бедолага, издохла. Уж как они меня потом склоняли – боже ты мой. Как хорьки налетели. Я им одно только заявил: если вы такие порядочные, чего дворняжку не подкормили? Еще чего, отвечают, свой хлеб на твою животину переводить! Суки они полные.
– А чего запил? Это же все от бессилия. Сам повод даешь.
– Вот это ты правильно заметил, – затянулся сигаретой Виктор, – от бессилия. Сил нет на этих жадюг смотреть. Знаешь, какой он хитрый. Его местный электрик за одно место схватил – тот печь дровами не топит, самопальные обогреватели понатыкал. А счетчик тормозит. Ну, пошла война, сам понимаешь. И что придумал, паскуда? Начал по ночам картинки малевать. Я не я, народный художник, талант-самородок. Телевидение приволок, выставки организовал в конторах. Остап Бендер, мать твою.
– И как картины?
– Да никак. Мазня. Школьник лучше нарисует. А этот без мыла везде лезет. Как уж. Добился в районе, чтобы его контролер в покое оставил. Сечешь? Продюсер, блин. И все везде просит, кланяется. Все ему мало. Вот как с такими рядом жить, одним воздухом дышать? Не могу-у, – простонал Виктор и поморщился, словно от зубной боли.
– Да выкини ты их из головы, – предложил я первое, что пришло на ум. – Оно тебе надо?
Виктор опять хмыкнул.
– У меня душа бурливая. Какой пробкой ее ни затыкай – все равно вышибет. Вон, видишь, дальше, в проходе, могилка без ограды, в бурьяне? Это же мать этого хмыря. Он за все лето не нашел времени, чтобы в порядок захоронение привести. Не говоря о том, чтобы хоть какой-нибудь памятник поставить. И могила отца у него такая же. Ему это не нужно. Эта падла по телевизору любит красоваться. И деньги в чулок складывать. Как таких земля носит? Знаешь, тяжело жить с осознанием правды. Ее, родимую, либо вытравливать из себя, как вшей из белья, либо загибаться вместе с нею. Так получается.
Надо было собираться на следующую электричку.
– Ты приезжай ко мне зимой, – неожиданно предложил Виктор. – Зимой здесь вообще тихо. Ни машин не слышно, ни музыки.
– А что ты зимой делаешь?
– Читаю. Лет пять назад, по осени, на станцию за пузырем пошел. Смотрю – на дороге, в грязи, гора книг, журналов. Похоже, самосвал вывалил. Почему, откуда – непонятно. Помнишь, в начале девяностых в посадках просроченную колбасу находили. Не продали – вывалили. А тут книги стали бросать. За ненадобностью, что ли. Взял одну, полистал, другую. Плеханов, Есенин. Кого там только не было! И тут у меня какой-то зуд в башке начался. Я даже про опохмелку забыл. Пошел обратно, взял мешки. До потолка писателей разместил. И начались мои бессонные ночи. Только уже по другой причине. Еще не все перечитал. Смакую. Через чтение, землячок, я и завязал. Потом уже за кладбище взялся. Ни о чем не жалею. Я доволен. А Господь рассудит, кто чего стоит.
Поздно осенью, когда землю прихватил первый морозец, я вспомнил о Викторе и его приглашении. Больше, конечно, хотелось взглянуть на родные места, ощутить чистоту их просторов. Эта потребность возникает периодически до сих пор, и я, признаюсь, не готов дать вразумительное объяснение подобному движению души, хоть и пытался сделать это не раз. Уезжают же люди из таких захиревших уголков раз и навсегда, радуясь такому повороту судьбы, и не заморачиваются никакими ностальгическими видениями. Почему? Может, дело и вправду в каком-то особенном складе характера человека? В его устремлении окружить себя комфортными изысками. Никаких иных целей при этом не преследуя. Другой же срывается с облюбованной им столицы и мчит на малую родину – чтобы уже никогда не покидать ее. В чем тут дело? В силе натяжения пуповины, связывающей тебя с краем детства? Кто-то ее режет, а у кого-то не поднимается рука. Но в любом случае, если судить по количеству брошенных деревень, стремящихся к легкой жизни у нас больше. А легкость – в любой форме существования человека – развращает его, лишает нравственного стержня. Это как бросить на воду пустую бутылку – наберется вода, накроет волна, и пошла посудина на дно. Пустое – оно и есть пустое.
Заглянул я первым делом на кладбище. Оно за эти месяцы стараниями Виктора действительно преобразилось – стало чище, могилки – опрятнее. Только некоторые черные мраморные изваяния неестественно больших размеров смотрелись на этом тихом фоне покоя и тишины как-то неестественно. Это другая крайность подобного рода. Не размерами надгробия измеряется память, а твоей потребностью следовать ей в жизни.
У оградки, при входе, я случайно бросил взгляд на свежую могилку. Черная земля была покрыта белесым инеем. Ни венка, ни цветов. Только самодельная табличка на кресте. С именем и фамилией Виктора. Обомлевший, я поспешил к первому дому, испускавшему из трубы сизый дым – значит, хозяева на месте. На лай собаки вышла хозяйка – приехавшая сюда несколько лет назад.
– Да, на днях схоронили, – вздохнула она. – Тут такая история с ним приключилась. Бывшая его своего итальянца тоже вроде как закопала, прости, Господи. И вернулась за Виктором. Представляете? Прослышала как-то, что пить перестал. Родственники-то остались. Ну и давай его выманивать с собой. Три раза за ним приезжала. На третий он и сдался. Было это в самом начале сентября. А в ноябре он и объявился. Пьяный. Не по мне, говорит, теплые да сытые края, не хочу, дескать, беспредельного самодовольства и безграничной сытости. Грязи, мол, хочу российской. И не просыхал две недели. А утром его на дороге нашли. Холодного уже. Возле кладбища. Мне кажется, если бы не эта Италия, так и жил бы спокойно. Стерва она.
– Кто? Италия?
– Баба эта евонная. Чего надо было мужика баламутить? Лучше бы сама перебралась.
Я попрощался и повернулся.
– Погодите, – окликнула хозяйка. – Вы это вот что. Мы тут решили летом всем собраться и продолжить то, что Виктор делал. Все ведь там будем. Так что, если сможете, приезжайте, поучаствуйте.
Я кивнул.
Я вернулся к могиле Виктора. Достал из сумки пару апельсинов и горсть шоколадных конфет. Специально прихватил для него, чтобы вспомнить, как угощал нас, интернатских, далеким морозным днем. Не везти же обратно. И вопреки христианской традиции положил гостинец на белесый холмик. Пусть будет так. Иногда приходится руководствоваться исключениями из правил. И это, говаривал классик, не самый худший вариант.
Что случилось с Виктором, что произошло? Я этого никогда не узнаю. Могу только предполагать. А озвучивать предположения, не подкрепленные доказательствами, бессмысленно.
Была ли наполнена смыслом жизнь Виктора – как и его смерть? Думаю, да. Я в этом просто уверен. Иначе бы он здесь не задержался. Ведь даже если один человек решает продолжить то, что ты делал, значит, жизнь уже прожита не зря. А в каких стенах ты ее прожил, что было у тебя на столе, – абсолютно не важно.
За оградой я оглянулся на могилку моего земляка. Спланировавшая ворона схватила одну из конфет и полетела с добычей. А два апельсина, как маленькие солнышки, отдавали желтизну тепла надвигающемуся предзимью. Так мне показалось. Дай Бог, чтобы не покрылись стылостью наши сердца. У Виктора, как я сейчас понимаю, это получилось.
