Все новости
Проза
16 Января 2019, 19:13
№12.2018. Алексей Чугунов. Декабрьский чтец. Рассказ
Алексей Чугунов родился 12 апреля в 1975 года в г. Уфе. Учился в полиграфическом училище. После срочной службы в армии работал на ТЭЦ-3, в частной фирме, на заводе УМПО. Первые публикации вышли в литературно-историческом журнале «Великороссъ» в сетевом варианте в 2009 и 2010 году. Публиковался в газете «Истоки» с 2016 года. Участник всероссийского литературного фестиваля «КоРифеи» в Уфе в 2018 году. С внутренней стороны ворот лежал мягкий пушок снега на профилях, сваренных крест-накрест, что нарос всего за несколько часов с тихого снегопада с метелицей. Я неторопливо снес белый налет рабочей перчаткой с пупырышками, размахивая ею словно носовым платком. Саму перчатку я еще не надел. Ибо на улице было нечто невероятное – мороз, что властвовал почти целую неделю, отступил, а сегодняшняя метель, кривляясь и паясничая на ветру, утихла, будто ее и не было.
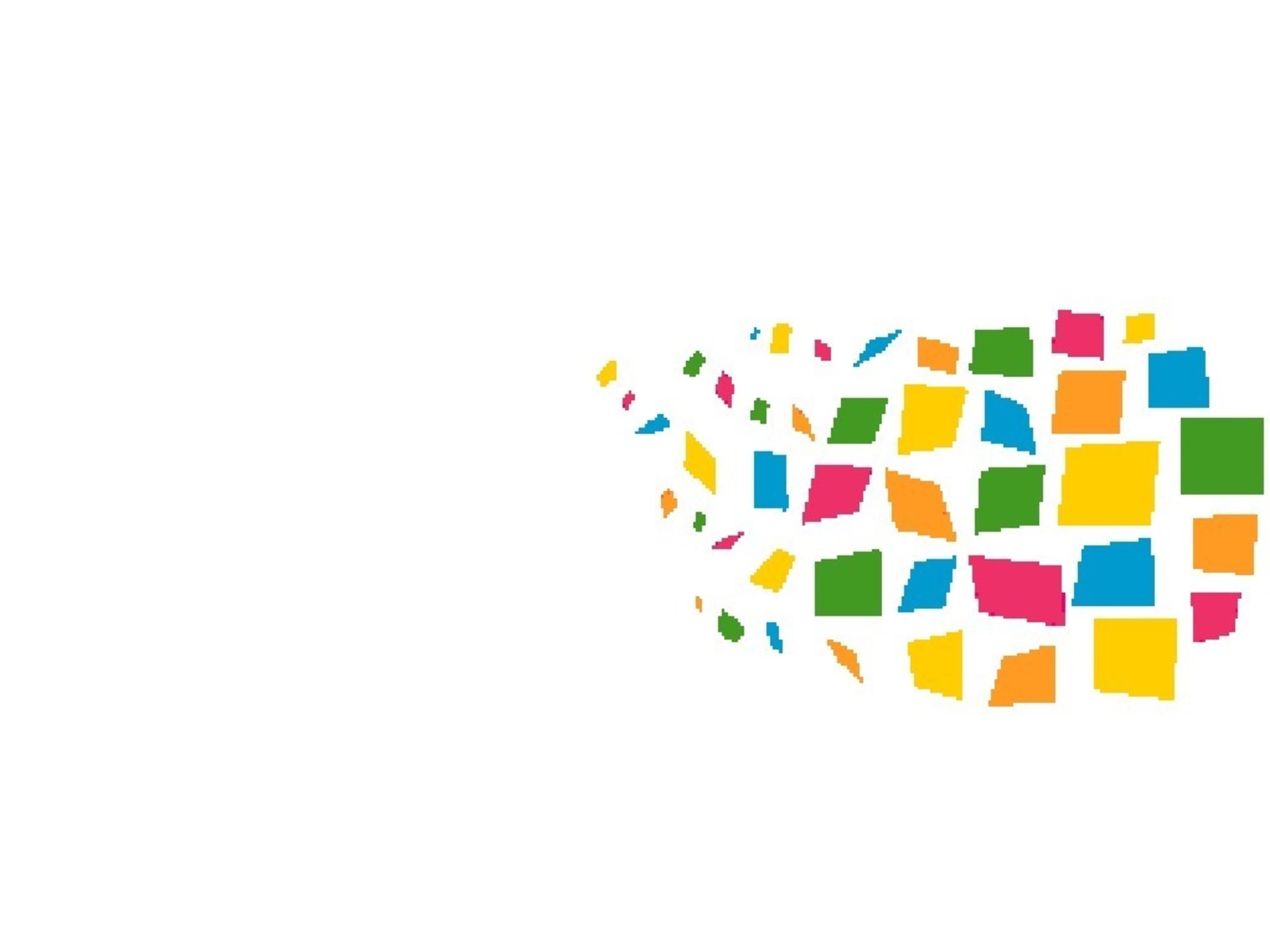
Алексей Чугунов родился 12 апреля в 1975 года в г. Уфе. Учился в полиграфическом училище. После срочной службы в армии работал на ТЭЦ-3, в частной фирме, на заводе УМПО. Первые публикации вышли в литературно-историческом журнале «Великороссъ» в сетевом варианте в 2009 и 2010 году. Публиковался в газете «Истоки» с 2016 года. Участник всероссийского литературного фестиваля «КоРифеи» в Уфе в 2018 году.
Алексей Чугунов
Декабрьский чтец
Рассказ
1
С внутренней стороны ворот лежал мягкий пушок снега на профилях, сваренных крест-накрест, что нарос всего за несколько часов с тихого снегопада с метелицей. Я неторопливо снес белый налет рабочей перчаткой с пупырышками, размахивая ею словно носовым платком. Саму перчатку я еще не надел. Ибо на улице было нечто невероятное – мороз, что властвовал почти целую неделю, отступил, а сегодняшняя метель, кривляясь и паясничая на ветру, утихла, будто ее и не было. И стояла сейчас погодка настолько умиротворенная, спокойная, что казалось – это вечность! Какое уж тут перчатки надевать, хотелось чуть прихолодить руки, коснуться свежака бархатистого нежного снега. Скрипнул металлом замок английский, щелкнул звонко шпингалет с толстым стержнем, и я вышел наружу в проулок, конец которого упирался в толстые бетонные стены, за ними выглядывал красавец торговый центр «Лопатино». Красавец – это, конечно, громко сказано, ибо в архитектурном исполнении это здание так себе, выполнено на троечку. Но, учитывая тот факт, что он стоит среди частных домов, где каждый пятый дом так и не изменился со времен советской эпохи, полуживой, покосившийся с облупившейся краской на бревенчатых стенах, то торговый центр среди всякой лепоты-старины будет, скорее, Аполлоном, Адонисом, Эндимионом и кем там еще?...
Находясь в проулке, я глубоко вдохнул. Невидимые кристаллики приятно остудили разгоряченное горло. Как-никак я из дома и недавно осушил чашку горячайшего чая. А вышел я во двор поздним вечером по простой надобности – вынести мусор в тонком полупрозрачном мешочке. От проулка сразу прошел к проезжей части. Тут меня покорила вечерняя позолоченная красота, что сверкала всюду. От горевших фонарей у дороги, что по форме словно пуговицы, лучился чистый желтый свет. Он как-то интересно рассеивался в вечерней мгле, как бы терялся. Но вовсе не пропадал, а сливался со снегом. Отчего сам снег после такой светоигры переливался золотом. Ну словно новогодняя красочная открытка! Я даже притормозил прямо на дороге, в руке болтался мешок с мусором. Мимо медленно волочилась вишневая легковая машина. Но я отчего-то проецировал мгновенно в голове другую картинку: машина-ретро, немецкий «жук» 1930-х годов, цвета мокрого асфальта...Volkswagen. Его фары – круглые глазища – меня даже ослепили на какой-то миг. Всюду кружились золотистые хлопья снега...
– Ты че! Чудила! Примерз, что ли? – раздался вдруг громкий хриплый голос, что вырвался из-за приоткрывшейся передней двери машины. Машина стояла почти в двух шагах от меня и не по-доброму тарахтела, будто тоже, как и водитель, была недовольна, что ей кто-то преграждает путь. Стоят там всякие человечки-столбы прямо посередине дороги.
– Да... я так... – и побрел к своему мусорному баку, что был недалеко.
2
Отряхнув от снега старые ботинки с расслабленной шнуровкой, – они как бы «дворовые», – я положил их на небольшой коврик возле батареи, пусть сушатся. Скинул телогрейку с высоким воротом, шапчонку-трубу – и на кухню, где тут же включил электрический чайник, наполовину наполненный водой. Приятная глазу синева от светодиода в чайнике брызнула на стену. А свет, как таковой, на кухне не стал зажигать, присел возле стола – ушел в свои вечерние мыли в полумгле. Иногда мой взгляд натыкался на запотевшее окно, что выходило на двор с заснеженными барханами, оттуда торчали две низкорослые яблони с голыми ветвями, похожие на растопыренные пальцы. А позади них чернела баня. Подняв глаза выше, я четко видел серые тени соседских домов. Особенно выделялся трехэтажный дом из красного кирпича, построенный по европейскому стандарту. Мне его всегда чуточку жаль. Столько усердия, денег было потрачено, а в конечном итоге в нем живут жильцы-квартиранты из Узбекистана. Я то и дело смотрел: то на очертания того дома, то возвращался своими потухшими серыми глазами к синеве от чайника... синь моря бушующего, волны вздымаются, словно великаны у берега. И бурлят, гудят как иерихонские трубы. Тут и чайник вскипел, автоматически выключился тумблер. Все стихло, и стало еще больше наступающей темноты, но какой-то непривычно согревающей. И будто тьма и есть тоже свет, только не каждый это разглядит, прочувствует «копчиком».
И в такой момент унификации тишины и тьмы незаметно подкрался ко мне Яков Васильевич. Он еще тот проныра и хитрец с длинными усищами. И ведь знает, когда нарисоваться, предстать передо мной. Его глаза – арбузные семечки – смотрели, не отрываясь. Еще этот мистический отблеск. Затем он начал тереться о мою ногу, то подойдет с одной стороны, то с другой, а хвостом изобразит круглую загогулину. Яков Васильевич – степенный кот с мягкой серо-черной шерсткой. Полосатик, одним словом. А назвали так потому, что до него был кот Васька, и при этом у них никаких родственных связок-увязок не было. Котенком был, конечно, Яшкой, Яшей, а уж когда он поумнел, осмелел и возмужал, то стал Яковом Васильевичем.
– Что есть хочешь? Опять свои фрикадельки рыбные! – спросил я его, включая на кухне свет. Яков Васильевич продолжал описывать круги возле моих ног. Тут я приметил, что его блюдце на полу возле газовой плиты не совсем пустое. И он недавно ел, следовательно, не голоден. А кот задирал свою мордочку с умасленными глазами вверх, прося еще чего-то.
– Ах, вот чего! – догадался я. – Сейчас тогда продолжим... там, где вчера остановились.
Через пару минут я принес книгу, взяв из книжного закутка в зале, что высился от пола до потолка. Таких «шкафостроений», книжного мира-закутка, уже и нет почти ни у кого.
Я уселся поудобнее за столом, раскрыл том Ивана Бунина. Обложка не то что твердая – она будто камень, шрифт расписан качественным золотым тиснением, не сотрется от долгого многократного чтения. А страницы плотные, белые-белые и приятно шуршат; когда такую книгу держишь в руках, ощущаешь некое дуновение маленького счастья. Раскрыв на нужной странице, – а это был небольшой рассказ «Антоновские яблоки», – я начал читать вслух. Кот забрался ко мне на колени, предварительно потоптался, лапками уминая себе лежачее место. Ушки его, лепесточки, постоянно шевелились.
Я шелестел словами – бунинскими, осенними, чуть тревожными. Раньше я поймал себя на мысли, что Бунина нельзя читать про себя, исчезает чудность, крученость едва подтаявшего волшебного слова. И любовь ко всему русскому, мужицкому пройдет мимо. И посему я пел, читал, чеканил каждое слово, а если от долгого чтения путался, кривил слово, ставил не туда ударение, то возвращался к той же строке и начинал снова. Будто за неправильное произношение меня ждало страшное наказание. Яков Васильевич – он внимательно слушал и мурлыкал тихо от непонятного для меня блаженства.
3
Краем уха я улавливал глухие звуки газового отопления в доме: ухнет автомат на АОГВ, чихнет электросчетчик на стене, чирикают непрестанно круглые часы в зале. И есть особое звучание у труб-радиаторов в зимнюю пору. Можно порой услышать, будто кто-то топает в доме, и невнятный человеческий говор где-то там за стеной в других комнатах. То еще какое-нибудь таинственное шебуршание. В пору усомниться в реальности, влезть наивной мыслью в метафизические явления – призраки бродят по дому или сам дом ожил, заскрипел своими «старыми косточками». Но, увы, нет такой у нас радости – все трубы отопления, и как бы по-своему в этом мире живут, дышат. Загадочный манускрипт звуков!
От экзотических домашних звуков полезли голову воспоминания. Помнится, когда я еще учился в школе, у нас в доме была обычная печка из кирпича, покрашенная известкой с мелом. После школы придя домой, я вынужден был затапливать печь ближе к вечеру, пока родители на работе. Если зима морозная, аж сопли мерзнут, – то и дважды в дневное время. Топить печь мне нравилось и не нравилось. Нравилось само начало: нарезать лучину с полена, нарвать стружек с березовой коры, скомкать в бумажные шарики вчерашние газеты и чиркнуть первой спичкой. И балдел от звучания, как поскрипывают горящие дровишки в печи. А уж танцы огня – вообще неописуемое действо! Пока топилась печь, брал несколько картофелин, сдирал ножом шкурку и разрезал на овальные дольки. Дольки-блинцы клал на чугунную плиту, которая нагревалась огнем снизу. Прожаривалась одна сторона, потом переворачивал на другую, затем обратно, пока весь картофельный блинчик не становился похожим на пятнистого жирафа. Сметана с солькой – и хрустел вкуснятиной от души.
А не нравилась печная возня оттого, что в какой-нибудь прекрасный день у меня возникали другие планы, которые вынуждали меня выйти из дома. И погулять, к примеру. Покататься на пластиковых коротышках.
Бунин все рвал и рвал своими страницами. И с Богом вел меня по своим тропам. Его описательный стиль, его живописность похожа на лоскуты бабушкиного одеяла, на пучок пшеницы, на извилистые в пыли дороги. Один из последних русских классиков. Лауреат Нобелевской премии 1933 года за «строгое мастерство», не уклонист от великой русской прозы. Получив 120 тысяч франков, он потратил их на литераторов и просто на эмигрантов в том числе.
Когда я дошел до того места на странице, где один из персонажей выстрелил из револьвера, как только вошел в большую залу усадьбы, и страшно спугнул черного борзого, что взобрался на стол и поедал с блюда остатки зайца под соусом. Стрелявший сожалел, что промахнулся. И на этой сценке кот мяукнул пару раз громко, будто таким образом высказал свое неудовольствие.
– И что вы, Яков Васильевич, так возмущаетесь? – обратился я к коту с улыбкой, и на вы.
В ответ кот опять мяукнул, но уже не так громко и волнительно.
– Вас, многоуважаемый, я прекрасно понимаю, но, видите ли, задумка автора на мой взгляд нисколько не вызывает сомнения. Охота, гончие борзые собаки, трубит рог. И в пылу, когда горит кровь от сего увлечения, мало ли чего не начудишь.
Яков Васильевич, разговорчивый товарищ, опять мяукнул в ответ.
4
Со стороны, конечно, это смотрится престранно – коту читают Ивана Бунина вдруг. Какого лешего?! И что тут такого, – хочется возразить. Вот захотелось и все! Но на самом деле случилось как-то неожиданно в декабре, когда мороз начал лютовать, накидывать серебристую бахрому на худые, как скелеты, деревья, на скамейки во дворе, на забор из профнастила. И рисовать на окнах настоящих свои елочные пейзажи. Снег на улице, во дворе покрывался тонкой светящейся коркой. А я принялся читать Бунина одним тихим вечером. Чувствую, что нить повествования иногда теряется, куда-то заваливается. И многие строки проходят мимо. Я одернул себя, что это не чтение, и никакого насыщения здесь не ощущаю в своей подкорке сознания. И сердце не трепыхается от густоты, изящности авторского стиля. И начал читать вслух и зазвучала наконец песнь со страниц. И тут пришел Яков Васильевич, уселся рядом, ест меня глазами и вроде как слушает. Остановился я, и кот – брык, и к блюдцу своему – принялся чавкать. Я продолжил читать, и он опять весь во внимании. Что ж, бывают и такие чудеса в декабре под Новый Год, подумалось мне тогда. И слушатель весьма достойный!
– Ох, как же я так! Про чай и забыл, – проговорил я сокрушенно, – Наверно, и чайник остыл.
Кот, будто предвидя, что я его сейчас сгоню со своих ног, тут же соскочил сам. А я повторно включил свое «синие сияние», полез в холодильник и выудил оттуда сыра колбасного половинку, колбаску-ветчину из птицы... ну птичья ерунда. Банку варенья апельсинового. Насчет варенья – апельсины эти с кабачками, а так как сами по себе кабачки безвкусные, то при варке вперемешку с кубиками апельсина они по вкусу стали сами апельсинками. Как-никак, экономия апельсинов, а кабачков у любого садовода-огородника в избытке. Люблю это дело – апельсиновое, как варить, так и есть, уж тем более в зимний разгуляй.
Якову Васильевичу налил водички. Молока бы, да у него с рождения плохая переносимость лактозы. Пьет молоко с удовольствием, но потом пробуждается рвота. Я за чай, а Яков Васильевич – водички! И пока мы лакали-ели, мне вспомнилась лошадь. Да, именно лошадь! Психически нездоровая лошадь.
5
Уже и не помню, какой именно это был год, но если округлить, то 80-е, до горбачевской эпохи. И «пьяная девятка» (многоэтажка) тогда не нависала над нами, похожая на горную гряду. Тогда на том месте тянулась широкая улица Дизельная, и где-то вдали у железнодорожной дороги журчала речка Шугуровка. И было лето обыкновенное, жаркое, комариное.
Я, будучи совсем крохотулькой-свитулькой, гулял утрецом возле дома своего. А вставал я довольно рано, раньше всех соседских друзей. Копошился с трехколесным велосипедом, туда-сюда выруливал, нарезая круги-восьмерки. И тут я увидел у центра ВАЗа у горки пасущуюся лошадь, трава росла там буйным цветом.
– Лошадка! – Я тут же «завел» свой транспорт и двинулся в ее сторону. Сам ВАЗ в двух шагах от нас. И было немножко обидно даже, что никто, кроме меня, не видит лошадку, и никто не услышал мой радостный вскрик.
Доехал до горки. Да, у ВАЗа у нас всегда была – горка! С нее мы зимой скатывались на санках, на мешках-сиденьицах. Я без боязни подошел к лошадке. Она, увидев меня, обнюхала, губами пошарилась возле моих рук. Сообразил сразу – нарвал ей несколько травинок и поднес к ее раздутым губам. Она их тут же съела, обслюнявив мои руки, и дальше побрела вдоль улицы Вологодской. Я же, радостный и счастливый, что не только видел живую лошадь, но покормил ее, быстро помчался домой, тренькая попутно в металлический звонок на правой ручке руля. Дальнейшие свои действия я плохо помню, а можно сказать, что вообще не помню. Но зато прекрасно в памяти засело то, как к нам во двор влетел такой же салажонок, как я – Вильдан. И он громко, как визжащий горн пионеров, сообщил, что по Лопатино бродит «психическая» лошадь, т.е. сумасшедшая. И эту психическую лошадь никак не могут поймать. И она страшно бьет копытами и может убить человека взрослого. Я грустно волчком что-то там проговорил. Но никому не рассказал про свою утреннюю встречу. А лошадь еще долго бродила сама по себе по Лопатино – несколько дней кряду.
6
После многовкусия чая чтение продолжилось. «Деревня» – чудная повесть. Про некоего Тихона Ильича. И бунт мужицкий, что на него накатил телегу, и увлечение молодой... И Кузьма. Хотя зачем всякие брызгающие подробности из книги. Разве это кому интересно, кроме меня и Якова Васильевича? Кто-нибудь такое читает?! Бунин забыт в одночасье, в одновременье. В начале двадцатого века он дважды получал пушкинскую премию. Во Вторую мировую войну не пошел на сотрудничество с немцами в отличие от Мережковского и Зинаиды Гиппиус. И пылал желанием после войны вернуться на Родину, но возраст уже не тот. И поздно, поздно! Что-то такое он сказал Константину Симонову во время встречи в Париже. Да и Франция стала для него вторым домом. И как же он звучен, колоритен и одновременно немногосложен в прочтении. И есть чему изумляться – писатель творил в двадцатом веке такое! Немыслимо.
Ближе к ночи, а я все с книгой в руках и Яков Васильевич наслаждается слогом на слух. За окном темень непроглядная, висит на небе полумесяц, похожий на банан и звезды – яркие гвоздочки, проткнули собой холод вселенной.
Зима, декабрь и чаяние. Крыши домов в белых пушистых шапках, и не думают их снимать. На вид будто важные напыщенные бароны, во рту у них курительные трубки, из которых валит клубами дым. Редкая пролетит птица, взмахивая черным крылом. В сенях в шкафу ждут своего часа: елка пушистик, на кончиках веток ее светится серебро. В газетных одежонках елочные игрушки сгрудились в кучу и хохмачи-дожди цветные всюду раскидали свои лохмы. Гирлянды в коробке между собой перешептываются, спрашивая друг друга, когда же они, наконец, возгорятся сердечками. Все чего-то ждут! Все на что-то надеются.
Выбор редакции
Новости партнеров
