№5.2023. Светлана Гафурова. Мой папа был романтиком и перфекционистом!
В год 90-летия писателя и переводчика Марселя Гафурова о нём вспоминает его дочь, а в летних номерах можно будет ознакомиться с обстоятельными, интересными и мудрыми размышлениями самого писателя.
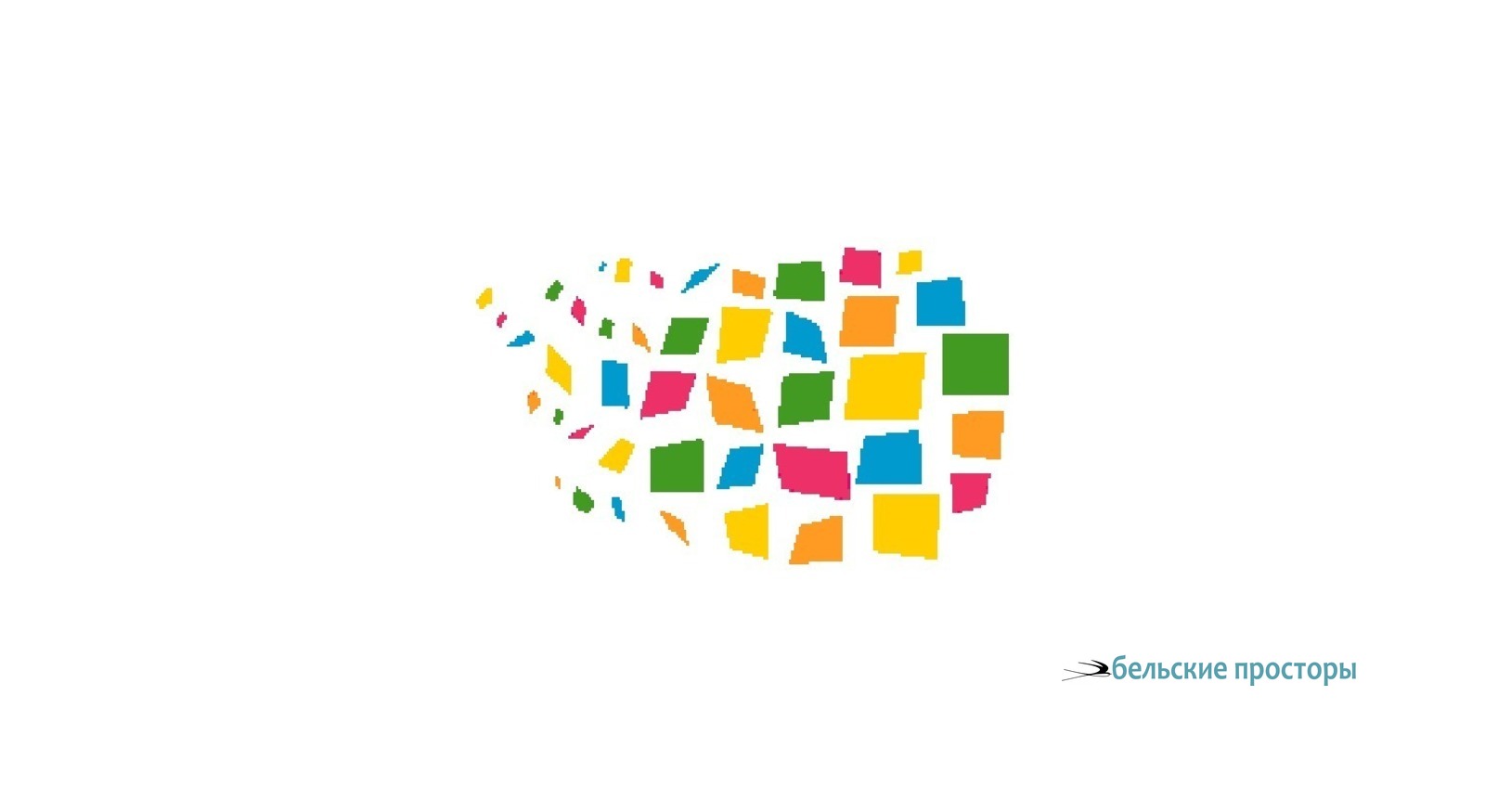
* * *
16 июня, в день смерти моего папы – Марселя Гафурова, сгорела баня, построенная его руками. Гигантским костром он отметил там, на небесах, пятую годовщину своего ухода из жизни. Кто говорит, что мертвым уже все равно? Эта история убедила меня, что все совсем не так, как кажется нам, живым. И между миром мертвых и живых существует некая таинственная, но явственная связь.
Собственно, то была даже не баня, а маленькая банешка, на дачном участке в четыре сотки в садовом товариществе «Журналист» недалеко от старинной деревни Дудкино, на правом берегу реки Уфы. Через деревню, основанную Антоном Дудкой в XVII веке, проходил Сибирский тракт мимо Уфы, в те времена маленького уездного городка.
Банешка почти сгнила. Она стояла прямо на земле без фундамента, и нижние венцы ее превратились в древесную труху. Несколько досок на потолке в парилке тоже прогнили и упали вместе с землей, которой был утеплен потолок. Мне пришлось затянуть дыру полиэтиленовой пленкой, чтобы теплый, нагретый воздух не уходил вверх мгновенно. Печь тоже проржавела до дыр, но еще хорошо грела небольшое пространство полтора на два метра, где умещался полок. В маленьком предбаннике не было даже пола. Прямо на землю вместо пола брошена старая клеенка. Зато красовался у оконца, пусть и перекошенный, но просторный, самодельный, сбитый из досок топчан, на котором я впадала в полусонную блаженную нирвану после парилки. Несмотря ни на что баня еще функционировала и даже давала пар раза на два-три, не больше. Так что в ней можно было не только помыться, но и как следует попариться.
Для меня и моего друга, переживавшего тогда не самые лучшие времена в своей жизни, оставшегося без крыши над головой, и маленький дачный дом, построенный тоже папиными руками при активной маминой помощи, и банька стали временным убежищем на несколько лет. Здесь мы даже как-то перекантовались одну зиму, пока электричество в садовом товариществе не перестали отключать на зиму. Благо в домике была печь, тоже сложенная папой. Остался и запас дров, заготовленный родителями в недалеком от дач лесу.
Участки под сады начали раздавать уфимским журналистам где-то в середине 60-х. Мне было тогда десять лет. И почти вся моя жизнь прошла на этой даче, рядом с деревней Дудкино, о которой папа написал самые свои проникновенные и самые, на мой взгляд, лучшие «Дудкинские рассказы», которые я порой перечитываю то плача, то смеясь… Он был писателем и переводил романы с башкирского языка на русский.
Конечно, это убежище не отличалось роскошью и комфортом, свойственным загородным дворцам современных нуворишей, да и совсем не отвечало папиному статусу – заслуженного работника культуры Российской Федерации, заместителя редактора главной официальной газеты республики «Советская Башкирия», публициста, а затем уже и писателя, переводчика. Но что поделать: он до последних дней оставался честным коммунистом. Партийный свой билет прилюдно не сжигал, а уж что-то где-то «скроить» – так это вообще не по его части, его порядочность и правильность иногда поражала меня на фоне современного разгула воровства и казалась порой просто аномальной. Единственное, пожалуй, исключение из его правил – небольшой дом на садовом участке, построенный из бревен, выброшенных на берег Уфимки во время молевого сплава, в те годы еще не запрещенного. Бревна, уже никому не нужные, отяжелевшие и набухшие от воды, валялись, выброшенные волной, повсюду по берегам реки. Мама с папой вдвоем баграми затаскивали мокрые тяжелые колонны на тележку и волокли на свой участок. Там сушили. Затем папа их обтесывал и готовил к строительству. Получился сруб из проморенных дубовых бревен. По сути вечный. Дом был крепко и ладно сложен и теперь давал нам с другом драгоценное и живительное тепло жизни. Мы с ним были счастливы в этом домике вдвоем, как много лет до нас были счастливы здесь мои родители.
Друг мой, в прошлом блестящий российский шоумен и продюсер, в одночасье остался ни с чем. По навету конкурентов силовики надели на него «браслеты» прямо в концертном зале «Россия» во время выступления очень популярного певца 90-х. Именно он из него вырастил «поп-звезду», чьи диски и кассеты опередили по продаваемости даже синглы Примадонны. «Звезда», ныне забытая, тогда собирала стадионы. Но блестящая карьера моего нынешнего друга – баловня судьбы и кумира женщин, московского бонвивана – закончилась потерей квартиры в Уфе. Подкосил и очередной кризис: концерты прекратились, гастроли – тоже. Деньги быстро закончились. А попытка заняться торгашеством окончилась потерей квартиры: влез в долги, которые пришлось отдавать, продав квартиру. На этом этапе судьба нас столкнула и «музыка нас связала, тайною нашей стала», как пели его бывшие подружки из группы «Мираж», знаменитые когда-то на всю страну, где он был концертным директором.
Взрослые мои сыновья поначалу не приняли моего сердечного увлечения, и нам с другом, который охмурил меня рассказами о необыкновенной своей московской жизни, долгие годы пришлось скитаться по городу, снимая углы, и выживать всяческими способами. Пришлось ему и побомжевать. Так что после ночевок в уфимских подъездах и в багажнике моего автомобиля домик этот дачный казался моему другу райским уголком. Своя кровать, пусть и с панцирной сеткой, старинная. Теплая печь, телевизор… Оно и на самом деле так, что все в жизни относительно и познается в сравнении. А в нашей действительности с ее бесконечными кризисами, дефолтами, путчами, перестройками, перестрелками, ускорениями, углублениями, обнулениями и пандемийными вирусами от тюрьмы и сумы никто вообще не застрахован. Об этом я когда-нибудь на досуге напишу роман.
Но сейчас речь идет о моем папе. Эта экспозиция дана лишь затем, чтобы читатель понял, как мы вдвоем оказались в этот летний день на маленьком дачном участке, где я с утра затопила баньку и зашла в родительский дом, чтобы позавтракать овсянкой…
Июньское утро. Солнечное, ясное. Розовые пионы выпустили на свободу свои нежные ароматные вырезные лепестки. Желтые и красные бабочки порхали с цветка на цветок. Благодать! Я прикорнула на диванчике в ожидании бани, закемарила… И приснился мне сон, будто стою я на берегу Уфимки. Мимо медленно и величаво проплывает длинная железная баржа, а на ней всего один человек. Приглядываюсь… Бог мой! Да это же папа! Живой! Стоит и машет мне рукой, словно что-то хочет сказать. Но почему-то молчит. Тут до меня во сне доходит, что папа умер, а мертвые с живыми просто так не разговаривают. Баржа уплывает, скрывается за плавным изгибом реки. Я бегу за ней, спотыкаюсь о корень дерева, падаю и вдруг слышу истошный крик:
– Что за дым идет из вашей бани?
Просыпаюсь. Кидаюсь к окну. Вижу, что кричит сосед Павел. А из бани действительно валит белый столб. Пожар! Бегу в надежде успеть потушить огонь. Рывком открываю дверь. Тугая волна горячего воздуха и едкого дыма буквально отбрасывает меня назад. Огонь вырвался из дырявой печи на свободу и перекинулся на подсыхающие рядом поленья. Открытая на минуту дверь подстегнула его, и он яростно и жадно бросился вверх, сладострастно облизывая своим красным языком закопченные стены и низкий потолок. Банька вспыхнула как спичка в мгновение ока. Как на замедленных кинокадрах я смотрела на разгорающийся гигантский костер и понимала, что сделать уже ничего нельзя. Папа! Папа! Не об этом ли ты хотел предупредить меня во сне?
Огонь перекинулся на соседскую баню, начал пожирать и ее, подбираясь уже и к дому соседей Архиповых. Я стояла остолбенелая, не зная, что делать, лишь завороженно глядя на пламя, совершающее свой разбойный набег. Но мой друг, закаленный жестким московским шоу-бизнесом, не растерялся. Он побежал по соседним садам, созывая мужиков на помощь. Откуда-то набежала их целая толпа с ведрами. Мужчины начали вычерпывать воду из двух полных ванн и плескать ее в огонь. Включили водяной насос, благо электрический провод остался цел, и вода тонкой, но сильной струей потекла из шланга. Этой струей мужикам удалось отсечь огонь от соседского дома, который стоял совсем близко к нашей бане. Но обе бани все же сгорели – и наша, и соседская. Пожарные подъехали, когда на земле осталась лишь груда догорающих черных обуглившихся бревен. Они залили пеной остатки усталого от своих бешеных плясок огня. Пошутили, что вовремя приехали, да еще и с водой, и убрались восвояси. Откуда-то взялся вездесущий репортер и снял на айфон видео о пожаре. Вечером репортаж появился в информационной хронике местного телевидения. Это была моя минута славы.
Ошеломленные, закопченные и чумазые, мы смотрели друг на друга молча, не в силах подобрать слова. Нам уже многое пришлось пережить вместе. Но такое произошло впервые… Единственная мысль сверлила мой мозг: что я скажу маме? Она не выдержит такого потрясения…
Прости, папа. Я не смогла в этот день помянуть тебя. И, видимо, ты обиделся за это беспамятство и решил напомнить о себе таким вот образом…
Хочу исправить непростительное упущение и сказать о тебе добрые слова, но уже в твой день рождения, 10 мая. В этот яркий звонкий майский день ты и родился. Теперь уже 90 лет назад. Самый драматический эпизод твоего детства – катание с горки на санках в селе Толбазы – закончился почти трагедией: ты въехал в лужу растаявшего снега, вылетел вперед с санок и воткнулся носом в острый осколок бутылочного стекла. Ты истекал кровью, а твой нос висел буквально на волоске. По крику мальчишек к тебе прибежал твой отец, Абдрахман, схватил тебя на руки и помчался бегом к больнице. Там нос пришили. Но на всю жизнь остался шрам, перерезающий все твое лицо пополам. Ты очень стеснялся его. Но когда поступил в пединститут в Уфе и познакомился со строгим комсоргом, голубоглазой, золотоволосой русской красавицей Тамарой, она сняла с тебя этот комплекс неуверенности в себе, заявив, что мужчин любят вовсе не за лицо…
Это была моя мама. Она поначалу смотрела лишь издали на тебя, не решаясь подойти и заговорить. Уже тогда на литфаке пединститута имени Тимирязева тебя окружал священный ореол поэта. Но заговорить со студентом, который регулярно пропускал лекции, комсоргу все же пришлось. Она вызвала его в комскомитет и сделала строгий выговор. Но поэт зыркнул на нее таким разбойничьим взглядом, что комсомольская активистка прикусила язык и подумала: «Да ну его! Еще зарежет!»
На самом деле я не знала человека бесконфликтней, выдержанней и спокойней тебя, папа. За всю жизнь ты умудрился ни с кем ни разу не подраться и не нажить себе ни одного врага. Ни разу я не слышала от тебя матерного слова. Как так можно – я не понимаю! Но вот таким ты был, суперскромным, суперстеснительным, суперпорядочным деревенским пареньком с нежной душою поэта всю жизнь. Голодное детство и нищая юность: отец Абдрахман пропал без вести на Невском пятачке, а за пропавших без вести пособий женам не платили. Все студенческие годы проходил в одном пальто. Как и чем жил – непонятно. Зато потом была и слава, и статус, и дорогие костюмы, и заграничные поездки. Поездил немало по миру: и в Брюсселе фотографировал знаменитого «Писающего мальчика», и в Югославии любовался ослепительно голубым небом, и из ГДР привозил мне чудесных гуттаперчевых кукол, и обедал в Лондоне с буржуями-капиталистами, один из которых оказался хозяином шоколадной фабрики Cadbury. Жестяную коробочку из-под шоколада этой фабрики я до сих пор храню!
Я только родилась, как тебя призвали в армию, где ты служил на военном аэродроме под Рязанью техником, обслуживающим самолеты, целых три года. Когда ты пришел из армии, я закричала: «А вот и второй мой папа!» Видимо, первым папой я считала твоего родного брата, моего дядюшку Мадриля. Он довольно часто приезжал к родителям, моим абикайке с бабакайкой (так я звала дедушку с бабушкой).
Папа вернулся из армии с первой и последней своей книгой стихов «Ранний снег», изданной в «Китапе». А потом пришлось наступить на горло своей песне, завязать узлом свою певчую душу и всю жизнь прослужить башкирской журналистике. Сначала редактором республиканской молодежной газеты «Ленинец», а затем замредактора в партийной газете.
До меня ли было тогда папе, вечно занятому важными делами? Утром он уходил на работу, когда я еще спала, приходил, когда я уже спала.
Но все же память хранит несколько драгоценных воспоминаний, свидетельствующих о том, что папа был романтиком. Однажды на Новый год он украсил ночью елку апельсинами. До сих пор помню восторг от вида оранжевого душистого чуда утром нового года. А в другой новогодний праздник подгадал так, что перед боем курантов у нас на окне расцвел удивительный белый цветок.
Вдоль стен нашей двухкомнатной квартиры в двухэтажном бараке, построенном, по легенде, пленными немцами, на улице Владивостокской напротив психиатрической больницы, стояли сколоченные папой стеллажи с книгами. Тома собраний сочинений. Сиреневые корешки Джека Лондона, коричневые – Льва Толстого, серые – Федора Достоевского и ярко-оранжевые – моих любимых с детства Ильфа с Петровым.
К нам часто приходили гости. Собирались шумные молодые компании уфимских журналистов и поэтов, среди которых я запомнила Рамиля Гарафовича Хакимова. Он был такой большой и важный.
Лепили пельмени, прятали в них записки, а потом хохотали, читая их. Мне было очень любопытно, что говорят взрослые, и я пряталась под столом, чтобы слышать их разговоры.
Запомнилось, как Виктор Иванович Хвостенко, директор института физики, читал стихи русских поэтов-классиков, а потом кричал, обращаясь к местным поэтам: «Не пьянейте от собственных помоев!» Эти слова мне запали в душу на всю жизнь и стали критерием оценки многих литературных произведений, в том числе и моих.
Папа с мамой почти не ругались. Но помню один эпизод их ссоры, когда мама разбила почему-то в прихожей чайный сервиз и груду тарелок. В это время к нам пришел Давид Самойлович Гальперин, председатель Союза журналистов республики. Они с папой писали вместе книгу для московского издательства «Молодая гвардия». Давид Самойлович как ни в чем ни бывало молча переступил через груду битого стекла и прошел в комнату. А мама взяла веник и совок и тоже молча убрала следы ссоры.
Но в целом у меня все-таки осталось ощущение, что в детстве папа меня не видел, не замечал, так ему было всегда некогда.
И потому, когда я в 1972 году выступала в уфимском Дворце спорта в одной команде с Ольгой Корбут, прославленной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике, известной всему миру, на матчевой встрече СССР – ГДР, папа сильно удивился. Мама рассказывает мне, что он был просто изумлен и шокирован, увидев меня на гимнастическом помосте в окружении звезд советской спортивной гимнастики. Видимо, до этого он особо и не догадывался, что я чем-то где-то занимаюсь.
Мне так нравилась папина профессия, профессия журналиста, такой романтической и суперинтересной она мне казалась, что я тоже твердо решила стать журналисткой, несмотря на папины уговоры ни в коем случае не делать этого. После 10-го класса я ушла из спорта, несмотря на то, что входила тогда в молодежную сборную команду России. Поступила в Башкирский государственный университет, на филфак. А после его окончания меня взяли корреспондентом на гонораре в ту же самую газету «Ленинец», где работал когда-то папа. И только через год перевели в штат на должность корреспондента отдела пропаганды.
Папа мне ничем не помогал абсолютно. Но в редакции все считали, что мои материалы за меня пишет он: разве может тупая спортсменка написать что-то стоящее?.. Я злилась и говорила своим недоброжелателям: «Посмотрите на мой корявый слог и на его совершенный стиль. Почувствуйте разницу, наконец! Я сама пишу свои статьи!»
Действительно, как редактор папа был перфекционистом и оттачивал каждую фразу, каждое предложение до совершенства, даже в газетной статье, которая живет всего несколько дней.
Но этот перфекционизм помог ему потом в работе над переводами, к которой он наконец-то смог приступить, перейдя из редакции партийной газеты на службу в Союз писателей республики и заняв там должность секретаря партийной организации.
Несколько последних десятилетий папа вместе с моей мамой трудились над переводами романов башкирских писателей. Папа переводил, а мама печатала тексты на пишущей машинке и редактировала их.
Часто работа шла в том самом домике в саду, возле деревни Дудкино, где родители жили и летом и зимой безо всяких удобств и излишеств. Ходили в город за хлебом, подымаясь в гору возле ВДНХ и ругая ее: папа уже задыхался от стенокардии. Топили печь дровами. Удобства на улице в виде большого жестяного ведра, огражденного кусками шифера. Быт совершенно не хитрый. Летом сажали картошку, выращивали помидоры и огурцы, держали в голодные перестроечные времена на даче кур и кроликов. Они же оба были из деревни и не боялись крестьянского труда. При этом кормили и мою семью, и семью брата Тимура экологически чистыми, натуральными продуктами. Папа еще увлекался мичуринскими экспериментами: прививал ветки разных сортов яблок на одно дерево. До сих пор эти яблони живы и плодоносят. Еще папа плел большие корзины из ивовых прутьев и «морды» для ловли рыба. У него был прикол на Уфимке возле бакена, где он ловил здоровенных лещей. А потом коптил, доводя до золотого свечения. Ах, какой же это был невероятно вкусный деликатес! Таким же деликатесом были маленькие маринованные опята, которые мама с папой собирали в лесу, неподалеку от дачи… А родительские помидоры и огурчики, которые они выращивали! Я в жизни ничего вкуснее не ела!
Прямо по Маяковскому получалось: «В полях крестьяне, каждый хитр: землю попашут, попишут стихи…»
И при всем при том папа с мамой постоянно работали над литературными текстами. И не только перфекционизм позволил моему отцу стать одним из лучших переводчиков в республике. В его биографии удачно совпало глубокое знание башкирского языка, башкирского быта и культуры и высокое мастерство литературного стилиста. Так между житейскими прозаическими делами он и перевел более двух десятков романов самых известных башкирских писателей. Среди них Кирей Мэрген, Нугуман Мусин, Булат Рафиков, Джалиль Киекбаев, Амир Аминев, Тансулпан Гарипова с ее знаменитым романом «Буренушка», ставшим бестселлером. К слову сказать, этот роман папе пришлось переписать, так что это был скорее художественный авторизованный перевод, чем прямой. Потому к папе и вставали в очередь на переводы, что он мог улучшить авторский текст. Это я помню хорошо. Тогда мы стали больше общаться. Родителям уже требовалась моя помощь.
Когда мы праздновали папин 80-летний юбилей, из типографии пришла его последняя книга «Что было, то было», название которой придумала мама. Это была книга мемуаров, воспоминаний, коротких эссе, еще совсем свеженькая, пахнувшая типографской краской. Он подержал ее в руках и порадовался. Но буквально через 36 дней после этого папа ушел из жизни. Тихо, спокойно, несуетно, ночью, когда мы с мамой, усталые, забылись недолгим сном. Ушел, как и жил, не выпячивая себя, не кичась своими заслугами ни перед кем, никогда не вешая свои медали и награды на грудь…
Когда в начале июня 2013 года я забирала его из 6-й уфимской городской больницы, запомнила его взгляд в окно, на реку Белую, такой невыразимо печальный и пронзительно прощальный, что захотелось заплакать. Но я сдержалась как-то, чтобы не расстраивать папу: врач уже сказала мне о подозрении на смертельный диагноз: рак желудка, который через несколько дней подтвердился.
Так между житейскими заботами, радостями и горестями и прошла его жизнь, наполненная огромным, упорным и постоянным трудом на благо башкирской литературы.
Книги, переведенные Марселем Гафуровым, изданы миллионным тиражом. Именно благодаря его усилиям и кропотливому труду Россия узнала о многих наших замечательных башкирских писателях. И, наверное, надо как-то воздать должное этому труду. Может быть, объявить литературную премию имени Марселя Гафурова для молодых переводчиков, может быть, назвать улицу в Уфе его именем или просто повесить мемориальную доску на дом, где он жил…
