Виктор Хрулев. «Пирамида» Л. Леонова как непрочитанный роман ХХ века
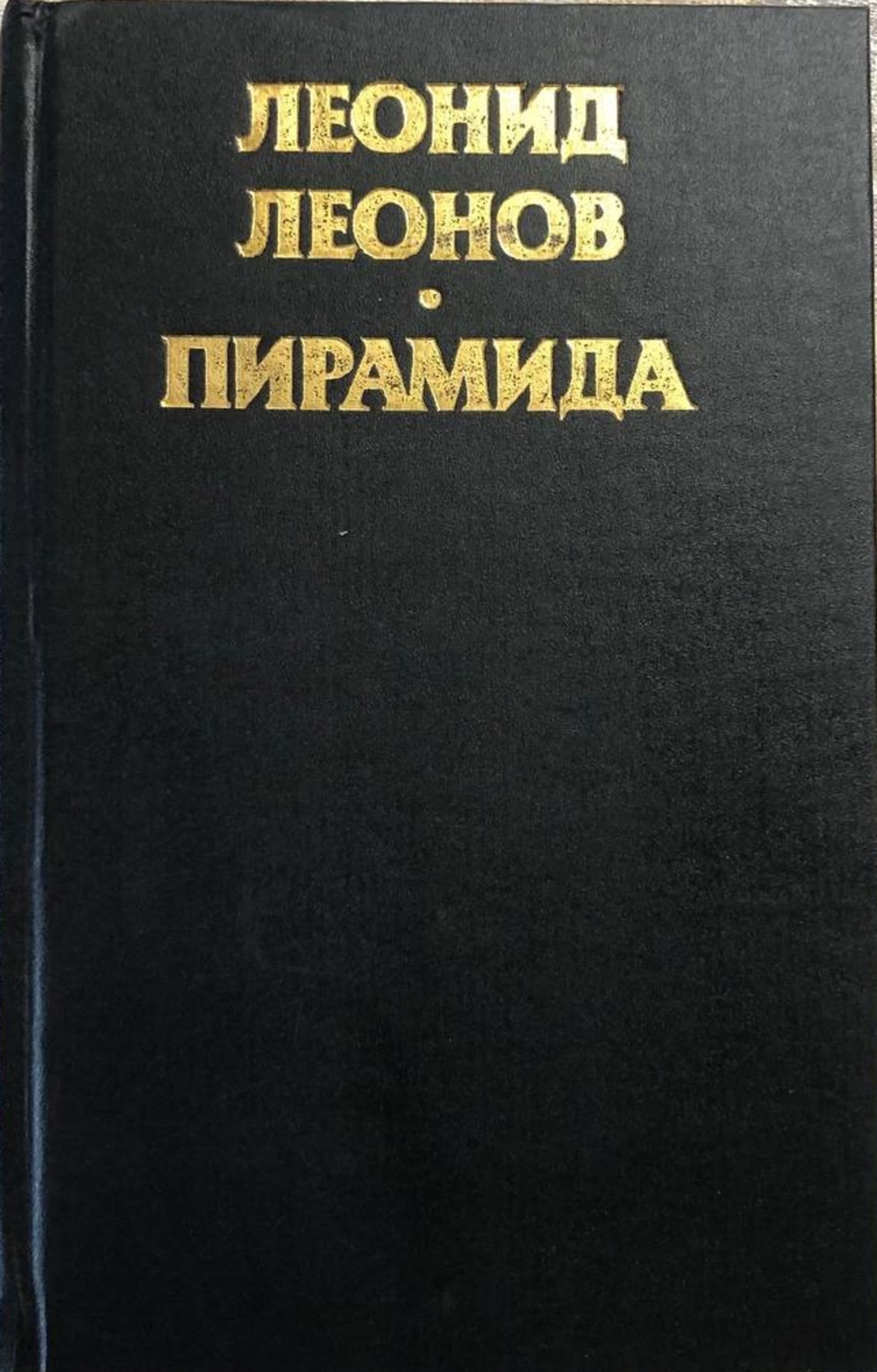
Удивленья достойны поступки творца! Переполнены горечью наши сердца, Мы уходим из этого мира, не зная Ни начала, ни смысла его, ни конца.
Омар Хайям. Рубайат
… заблуждается и тот, кто поставил на Бога, и тот, кто поставил против него: единственно правильное – не рассуждать об этом.
– Да, но не играть нельзя; хотите вы или не хотите, вас уже втянули в эту историю.
Блез Паскаль. Мысли
I. Парадокс «Пирамиды»
15 лет прошло с момента выхода в свет двухтомного романа Л. Леонова «Пирамида». Опубликованы десятки литературоведческих книг: монографии, сборники статей, материалы семинаров и конференций. Но надо признать, что роман классика ХХ века остается невостребованным явлением нашей литературы. Он не вошел в общественное сознание, не вызвал той реакции, на которую мог рассчитывать автор. Более того, он стал предметом серьезных расхождений исследователей, что отражено лишь частично в коллективной монографии «Духовное завещание Леонида Леонова. Роман «Пирамида» с разных точек зрения» (Ульяновск, 2005). К спорам о нем подключились церковные деятели, и это определило дополнительную линию разногласий. Однако роман и его обсуждение заинтересовали ограниченную аудиторию: специалистов и почитателей таланта Л. Леонова. Возникает естественный вопрос: в чем причина сложившейся ситуации? Почему «Пирамида» не привлекла внимание современников, которые обращаются сегодня к И. Бунину и В. Набокову, М. Булгакову и А. Платонову, М. Шолохову и А. Солженицыну?
Объяснять это сложностью произведения или утратой интереса к серьезной литературе явно недостаточно. Если есть зерно, оно прорастет. Значит, в этом романе имеется и то, что п р е п я т с т в у е т его движению к читателю, что создает трудности восприятия и постижения его содержания. И специалистам предстоит понять и объяснить это, чтобы помочь преодолеть возникающий барьер.
Восприятие художественного произведения читателем, его запросы и предпочтения – тема отдельная. И мы не рассматриваем ее здесь. Заметим лишь, что популярность того или иного романа не всегда и не прямо связаны с глубиной и масштабом осмысления темы, с эпической полнотой и даром прозрения. Подчас другие достоинства привлекают внимание: острота сюжета, смелость воображения, близость характеров, легкость прочтения. Здесь многое зависит от стечения обстоятельств. Применительно к «Пирамиде» речь идет не о субъективных факторах, а о том, что объективно, в самом тексте произведения, создает трудности его восприятия.
О достоинствах произведения, его месте в творческой эволюции писателя и литературном процессе говорилось обстоятельно, в том числе и нами в монографии и статьях. Цель данной публикации обратить внимание на проблему творческих решений автора и их художественной результативности.
Целостность и завершенность художественного произведения характеризуется рядом параметров, среди которых наиболее значимы три: а) полнота и исчерпанность замысла, б) стройность сюжетно-композиционной основы, в) определенность и выдержанность авторского отношения к изображаемому. Если замысел растворен и исчерпан в произведении, материал сжат в емкий динамичный сюжет, создается впечатление слитности всех компонентов, ясности авторского решения. Примерами такой целостности могут служить «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Котлован» А. Платонова, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Evgenia Ivanovna» Л. Леонова. В них повествование пронизано одним чувством, выдержано в единой тональности. В «Пирамиде» же изначально заложена двойственность, охватывающая жанр, творческие принципы и художественные решения автора.
II. Обозначение жанра
Итоговое произведение Л.Леонова определено емко и четко: «роман-наваждение в трех частях» (1,1). Это обозначение вызывает две ассоциации. Одну – с традицией трехчастного построения романа в виде своеобразного треугольника (пирамиды). Другую – с практикой писателей ХХ века вводить уточнения в жанровое определение произведения: роман-притча (эссе, сказка, трагедия) и т.д. Специфика леоновского уточнения в том, что оно указывает на состояние автора (наваждение) и его отношение к содержанию произведения.
Л. Леонов сознательно использует в романе «миражность» изображения и объясняет это неуловимостью реальной жизни. В нашей беседе в 1991 году он заметил: «…материал сегодня расплывчат, неопределенен… Нет слов, которыми можно охватить действительность. Чтобы передать ее, нужны условные формы, близкие не то чтобы драматургии абсурда, но допускающие вторые планы, когда можно предположить разные истолкования». Признание писателя существенно. Однако в обстоятельствах текучести жизни чувство меры и вкуса особенно важно. Оно должно уберечь автора от нарушений допустимых границ, чтобы прием не стал ловушкой для читателя, не видящего четкого отношения к изображаемому.
В «Пирамиде» перед нами не просто наваждение, которое мучает и преследует писателя, но и роман-наваждение, т.е. художественно оформленное, введенное в жанр романа навязчивое видение. Авторское обозначение содержит несколько смысловых оттенков. Во-первых, Л. Леонов указал на поэтическую условность произведения, снял упреки в пристрастии к таинственным явлениям жизни, к области, недоступной нашему сознанию, определил свой интерес к ним как к навязчивой картине, за которую он, автор, как бы не несет ответственность. Одновременно избранный жанр предоставил внутреннюю свободу в изображении таинственного, возможность полета фантазии, право на поэтическую условность.
Во-вторых, понятие «наваждение» дало возможность установить дистанцию между автором и изображенными событиями, критически отнестись к происходящему, подвергнуть его анализу и сомнению. Оно обеспечило свободу мысли на всем пространстве романа, позволило поставить сложнейшие проблемы и дать их многомерное истолкование.
В-третьих, понятие «наваждение» создало дистанцию между автором и идеями, которые утверждаются в романе, между автором и мыслью о катастрофичности современной цивилизации. Л. Леонов как бы отстраняется от ее навязчивости и неумолимости. Он позволяет читателю отнести ее за счет того же наваждения, которое диктует художнику эту версию. Иначе говоря, Л. Леонов отводит тиранию созданного наваждения, предоставляя читателю право самому решать, как воспринимать его.
В романе художественный вкус мастера вступает в противоречие с потребностью в «кинжальном» выпаде, в использовании «шоковой терапии». Объективность осмысления сталкивается с пристрастностью, поэтическая условность – с предельной серьезностью. В самом названии жанра автор снимает абсолютизацию изображенного и предлагает отнестись к нему как к художественному явлению, не претендующему на действительное пророчество.
В то же время жанровое обозначение романа должно быть рассмотрено в контексте с авторским предисловием и самим произведением. Предисловие ужесточает жанровое название и служит прямым обращением писателя к потомкам. Это жесткое вступление является публицистическим ключом к роману, свидетельствует о заключительной позиции автора, утверждаемой уже п о с л е написания произведения. В нем автор предупреждает о катастрофических последствиях нынешнего развития: «…наблюдаемая сегодня территориальная междоусобица среди вчерашних добрососедей может вылиться в скоростной вариант, когда обезумевшие от собственного кромешного множества люди атомной метлой в запале самоистребления смахнут себя в небытие – только чудо на пару столетий может отсрочить агонию» (1, 6).
Эта сквозная мысль пронизывает все обращение. Однако предисловие отражает личный взгляд писателя и не может служить наиболее значимым аргументом; оно лишь своеобразное приложение к роману. Соотношение трех компонентов: обозначения жанра, авторского предисловия, романа, позволяет выявить разные грани авторского восприятия и оценки происходящего, многоверсионности изображаемого. В пределах трех этих возможностей писатель варьирует оттенки и балансирует на грани эпической образности и публицистичности, психологического изображения и философской дидактичности.
Иначе говоря, жанровое определение и предисловие автора двойственны и амбивалентны, что позволяет удержать изображенное на грани реальности и наваждения, яви и миража. Это балансирование между двумя мирами, это «качание» смысловых оттенков является п р и н ц и п о м повествования романа, который определяет и несомненные достоинства «Пирамиды», и спорность ряда творческих решений автора.
По своему содержанию «Пирамида» – философско-психологический роман, включающий три основных пласта. Социально-психологический предстает в изображении семьи Лоскутовых, отца и дочери Бамбалски, Сорокина и др. Философский образуется размышлениями, диалогами героев и повествователя, стремящихся понять смысл того, что происходит в России и мире. Философский ракурс пронизывает все изображенное в романе, выводит конкретно-исторические события на уровень бытийных вопросов. Мифопоэтический пласт (апокриф Еноха, ангел Дымков, резидент дьявола на Руси Шатаницкий) служит неким сводом, который венчает роман, объемлет сюжетные линии и судьбы героев.
Соотнесенность трех пластов достигается фигурой автора-повествователя, который служит соглядатаем событий, ироническим комментатором и мыслительным центром, связующим все происходящее. Его сознание позволяет с высоты завершающегося ХХ века осмыслить то, что недоступно персонажам, формально прикрепленным к конкретному времени – 1940 году.
«Пирамида» вобрала в себя характерные черты литературы ХХ века: миражность изображения, «интеллектуальную» игру с читателем, поэтическую условность и фантастику. И это позволило исследователям соотносить произведение с традициями Серебряного века, с «магическим» романом, с апокрифом и антиутопией. При характеристике жанра «Пирамиды» исследователи используют дополнительные обозначения, призванные уточнить специфику повествовательной манеры автора: роман–откровение (-апокриф, вестник, антиутопия, наследие, трактат, самоопределение и др.). Жанровая многогранность и объемность произведения вызывают у леоноведов предположение о сверхлитературности романа, о готовности писателя поступиться своими художественными требованиями ради того, чтобы успеть дописать и быть услышанным современниками. В то же время близость романа к жанру философско-психологической прозы не вызывает принципиальных возражений. Это объединяет леоноведов и позволяет им не только понимать друг друга, но и достигать реальных успехов в осмыслении романа и его значения для литературы.
III. «Незавершенность» книги
Сложность «Пирамиды» проявляется уже в том, что замысел романа оказался н е з а в е р ш е н н ы м в той степени, как это виделось и хотелось автору. «…Тема размером в небо и емкостью эпилога к Апокалипсису» (1,11) оказалась непомерной даже для такого опытного мастера эпической прозы, умелого сюжетчика и стилиста, каким был Л.Леонов. Взыскательность писателя не позволила снизить планку требований и закрыть глаза на просчеты. Но и выдержать поставленные требования становилось все труднее. Образно это противоречие выражено в ряде признаний: «Раньше я знал меньше, но был талантливее. Сейчас знаю больше, но сил не хватает»5. В 80 лет писалось не так, как в 70, а в 90 каждая страница давалась тяжким трудом.
Чувство неудовлетворенности не утихало по мере завершения рукописи и вызвало в конце открытое обращение к читателю, написанное в момент, когда роман уже был отдан в печать. В нем существенна каждая строчка и прежде всего признание в незавершенности публикуемой книги. «Не рассчитывая в оставшиеся сроки завершить свою последнюю книгу, автор принял совет друзей печатать ее в нынешнем состоянии» (I, 6; подчеркнуто здесь и далее в цитатах нами. – В.Х.). «Спешность решенья» писатель объясняет «близостью самого грозного из всех когда-либо пережитых нами потрясений <…> и уже заключительного для землян вообще» (1, 6). Потребность предостеречь современников, побудить их задуматься над поведением человека на планете оказывается для автора важнее художественной завершенности книги.
Это, наверное, единственный случай в практике Л. Леонова, когда он поступается неумолимыми требованиями к себе. Писатель спешит на помощь своим художественным словом и надеется на понимание этой спешности. Данное обращение достойно благодарности за искренность и накал переживаний. В нем прорываются отчаяние автора от беспомощности перед грядущими событиями и ощущение неотвратимости происходящего: «Стареют и звезды» (1, 6).
Обращение призвано объяснить ситуацию с публикацией романа. Но в чем автор видит незавершенность своей книги? В философской концепции? В сюжетно-композиционной основе? В авторском отношении к происходящему? Этого он не уточняет, оставляя расшифровку данного признания исследователям. Писатель не обязан раскрывать читателям секреты своей творческой работы. А его неудовлетворенность необязательно свидетельствует о действительных просчетах произведения. Нам предстоит понять, что не устраивало Л.Леонова, и решить, прав ли он в своей оценке, насколько существенна эта незавершенность на фоне того, что создано художником и что воспринимается как несомненное и завершенное в романе.
Реализация замысла осложнялась тем, что профессиональная работа растянулась на долгие десятилетия. Это препятствовало интенсивности творческого процесса. Он проходил неровно, то вспыхивая, то угасая. Периоды уверенности в себе сменялись депрессией и отчаянием. Писатель становился не только властителем произведения, но и его заложником. «Я вбит в этот роман, как гвоздь по самую шляпку», – признавался он. Роман был его жизнью, а сам автор – его пленником и мучеником. «Я, как раб на галере: прикован и обречен»6, – шутя говорил Л.Леонов. Понятно, что такая ситуация не способствовала динамичному написанию книги.
Работа над завершением романа сопровождалась значительным обновлением и изменением уже законченных глав, что создавало свои трудности в сохранении общего тона и стиля. Этот процесс перерастал в д о п о л н и т е л ь н у ю проблему и требовал разрешения. И это была непростая проблема.
Неоднократные переделки произведений на протяжении нескольких десятилетий, внесение в них корректив, связанных с новым уровнем сознания, позволяют автору достичь новых результатов. Однако данная ситуация относится к разряду спорных. Целесообразность подобной переделки и результативность ее в мировоззренческом, эстетическом и этическом планах могут быть определены в каждом конкретном случае индивидуально. В то же время подобная практика вызывает критику и принципиально отвергается рядом писателей. И на это есть свои основания, связанные с природой творчества, его этики и норм.
Угнаться за современностью ХХ века на протяжении 40 – 50 лет творчества не под силу даже очень талантливому художнику, а стремление всегда оставаться на гребне общественного движения и с этой целью своевременно корректировать произведение – путь уязвимый. Общественные взгляды и оценки на протяжении десятилетий существенно меняются. В погоне за современностью писатель может оказаться во власти пристрастных, преходящих представлений, которые со временем сами сменяются более совершенными, а предыдущие, в свою очередь, подвергаются общественной обструкции. Опасность опрометчивости, возникающей из-за излишнего доверия к тому, что сегодня воспринимается как подлинное знание, реальна. «Ирония истории» способна посмеяться над каждым.
Более того, неоднократные вторжения в текст «размывают» прежнюю цельность и авторскую позицию, делают его «вневременным» произведением, по которому уже невозможно определить ни особенностей авторского миропонимания в этот период, ни его эволюции.
Конечно, Л.Леонов исправлял свои произведения не из конъюнктурных соображений, а из потребности досказать то, что не открылось ранее, что потенциально содержалось в них, но высветилось позднее, в новых исторических условиях. Другое дело, насколько органично новые мысли и представления совмещались с уже готовым текстом произведения, насколько соответствовали духу и возможностям персонажей, насколько чувство меры и вкуса сохранялось в ситуации переделки. Чтобы ответить на эти вопросы, требуются тщательное сопоставление всех редакций произведения и определение того, насколько и в чем оно выиграло или проиграло от вмешательства автора.
«Незавершенность» книги виделась писателю не в сюжетном плане; он был определен и выстроен задолго до издания романа. Уже в 1990 году на столе в объемных папках лежал основной массив текста, около 1500 страниц машинописи. Имелся и общий план романа с названиями глав. Но требовалось продумать и дописать несколько ключевых эпизодов, «выговорить» многочисленные вставки, сделать ряд дополнительных сцен. Л.Леонов был профессиональным сюжетником и продумывал схемы произведений досконально, даже делал графические эскизы их.
Тревогу писателя вызывала скорее незавершенность самих д у х о в н ы х исканий, сомнения по поводу допустимости представленной версии в романе, своего права ставить ее и выносить на публичное обсуждение. Его беспокоили этическая сторона авторского замысла, дерзость проблем, поставленных в романе, и правомерность позиции автора в их осмыслении. «Я замахнулся на атеистов, а ударил по Богу» – так образно сформулировал писатель смысл своего опасения. Оно жило в нем и требовало уточнения, внутреннего убеждения в том, что это не так, что он не преступил запрет, налагаемый верой и внутренним чувством того, что можно, а что нельзя делать художнику. Сомнения побуждали его консультироваться с учеными и служителями церкви.
Беспокоило и другое: стыковка ряда эпизодов, сцен и фрагментов, выбор того или иного варианта, общая стилистическая правка текста. Здесь из-за болезни глаз автор зависел от тех, кто готовил рукопись к изданию, от их ответственности и тщательности прочтения. Тревога за возможную небрежность и невнимательность не только мучила, но и доводила до отчаяния, до готовности наложить запрет на подготовку текста к печати.
Л.Леонов не мог позволить себе, чтобы итоговый роман был менее совершенен, чем прежние книги. Значение, которое он придавал «Пирамиде», масштаб проблем, поставленных в ней, требовали предельной точности. Однако в процессе новых переделок и насыщения романа дополнительными материалами возникали и внутренние противоречия, которые писатель не допустил бы ранее. Речь идет не о сложности и противоречивости процесса осмысления материала. Они неизбежны для настоящего художника, стремящегося постичь смысл истории, сокрытый за внешними событиями. И даже не о сложности и противоречивости самого материала изображения, который, как лава, горит и меняется на глазах. Отчаяние от немыслимого напряжения и невозможности охватить ускользающую реальность естественно и понятно. В данном случае речь идет о другом: о невыдержанности избранной позиции, о д р а м е художественных исканий и решений автора.
IV. Двойственность авторского отношения
В сюжетно-композиционном плане роман состоит из крупных частей («Загадка», «Забава», «Западня») и блоков, связь между которыми осуществляется через сквозных героев (ангел Дымков, автор-повествователь, Матвей Лоскутов, его дочь Дуня и др.). Однако блоки эти не во всем образуют связность и необходимую соотнесенность. Ряд сюжетных линий (Дюрсо и судьба его дочери, рассказ о Сорокине, монолог вождя) образуют самостоятельные звенья, прямо не связанные с другими сюжетными линиями. В романе есть сцены, которые носят эпизодический характер и служат вставными новеллами (рассказ об Аблаеве, сцена с цыплятами, эпизод с каруселью, рассказ о чете Филуметьевых). Более того, есть обширные главы, которые представляют сюжетные ответвления и имеют замкнутое значение (изображение стройки статуи вождя, описание подземелья).
Все это утяжеляет сюжетное развитие романа, создает значительные паузы и разрывы между событийными рядами, а значит, и о с л а б л я е т читательский интерес к происходящему. Роман насыщен философско-публицистическими рассуждениями, монологами, имеющими подчас самоценное значение, поэтому общая динамичность развития событий ослабевает и читатель как бы вязнет в тексте. В результате вдумчивое прочтение «Пирамиды» растягивается на длительный срок и провоцирует недовольство читателя. Если рассматривать «Пирамиду» как элитарный роман, как «лакомство ума», рассчитанное на избранного читателя, то говорить о его общественном воздействии станет еще проблематичнее.
Спорным в концепции романа и его организации является экстраполяция истории с ее войнами, жестокостью, национальными и религиозными распрями на судьбу отдельного человека. История как бы нависает над героями, угнетает своим несовершенством, подавляет их. Но здесь возникает вольное или невольное отождествление вины частной жизни и цивилизации. Отдельный человек не может нести ответственность за все прошлое. «Век вывихнулся, но я не костоправ», – говорит Гамлет в трагедии Шекспира. Человек живет один раз, и он хочет пройти свой круг, испытав все, что отпущено природой. Превращать его жизнь в покаяние – значит совершать насилие над правом каждого выстраивать свой путь.
Миссия художника не в том, чтобы быть прокурором истории, а в том, чтобы проявить милосердие и сострадание к человеку, ставшему жертвой обстоятельств, помочь ему совершенствовать себя. Когда писатель вершит суд над провинившейся культурой и природой человека, он берет на себя функцию, не свойственную ему. Он встает над людьми. Это моральное возвышение над человеком, это гордыня сочинителя вызывает сопротивление читателя. В «Пирамиде» виден кризис гуманистической позиции автора. Сочувствие человеку вытесняется обвинением и отчуждением от него.
В повести «Evgenia Ivanovna» Л. Леонову удалось совместить интерес к конкретному человеку и его судьбе с надличным ракурсом на цивилизацию. Взгляд сверху органично соединен с взглядом изнутри. В «Пирамиде» это единство неустойчиво и зыбко. Подчас общее обесценивает частное и оттесняет его. Поэтому мастерство изображения судьбы Матвея Лоскутова и его семьи вступает в противоречие с тенденциозностью автора, с навязчивостью представления о надвигающейся катастрофе человечества.
В «Пирамиде» использован принцип м н о г о в е р с и о н н о с т и изображаемого. Л. Леонов создает атмосферу миражности, неопределенности происходящего, внимательно следит за тем, чтобы у читателя не возникло окончательного решения. Если возможность его становится реальной, он вносит в повествование дополнительные сведения, отклоняющие его достоверность. Подчас в пределах одной-двух страниц встречаются многочисленные оговорки и уточнения, исключающие однозначное восприятие событий: «Из сказанного следовало…» (2, 564), «Между прочим…» (2, 565), «Со стороны получалось…» (2, 565), «На деле же…» (2, 565), «И все же удивления нашего заслуживает…» (2, 565). Новыми сведениями о героях и их отношениях автор озадачивает читателя, расширяет диапазон возможного истолкования.
Л.Леонов вводит в сюжет и в повествование романа «интеллектуальную» игру. Смысл ее состоит в том, чтобы вначале заинтересовать читателя смелыми размышлениями, глубокими откровениями, масштабностью картин, а затем «смазать» изображенное, представить его как «наваждение», за которое художник не несет ответственность. Этот прием позволяет передоверить персонажам крамольные идеи и в то же время лишить их статуса истинности.
В сюжетном плане он освобождает автора от давления изображенного материала, возвращает внутреннюю свободу и возможность дальнейшего рассмотрения проблемы в новом ракурсе, чтобы затем поставить под сомнение и этот подход, отвести его в сторону и пойти дальше в развитии темы. В подобном способе изображения проявилась диалектичность мышления Л.Леонова, его потребность увидеть любое явление на возможно большем количестве координат.
В интеллектуальном плане этот путь позволяет создать полилог (или его имитацию), с помощью которого выявляются разные грани явления и выверяется их истинность. Так, описание гигантского строительства скульптуры вождя, разговора с гидом и дискуссии перед утверждением проекта заканчивается снижением изображенного на уровень миража или больного воображения. Автор замечает, что «вероятней всего эпопея о фантомном колоссе нашего времени объясняется спецификой лагерных кошмаров рассказчика, которого тоже не было в действительности. Мнимая же беседа с ним, навеянная тревогой юного поклонника <…> могла лишь причудиться Вадиму в простудной бредовой горячке» (2, 179 — 180).
Однако вслед за отрицанием реальности происходящего автор задается вопросом, который возвращает читателя к изображенным картинам: «Тогда что иное, кроме как <…> упоминанье о пирамиде, навело будущего автора повести о фараоне на ассоциативное <…> сближение личности вождя с тщеславным властителем дремучей старины?» (2, 180). Автор указывает на точность передачи гидом вкрадчивой манеры великого искусителя, на то, что Вадим «сразу опознал в анониме причудливо мерцающий фантом» (2, 180). Недоверие к изображенному одновременно поддерживается и размывается.
Эта игра с дискредитацией изображенной сцены создает впечатление нереальности происходящего, миражности, в которой дьявол играет с персонажами, устраивает ловушки, забавляется и превращает людей в инструмент собственных манипуляций. Миражность изображения усиливается и ссылкой на «искусителя, снабдившего юношу в ту ночь политической каверзной темкой сомнительной эрудиции» (2, 186) и интерпретацией эпизода на Арбате: «Всему здесь рассказанному предшествовал фантастический и тоже неизвестно в жарком ли беспамятстве Вадима или наяву <…> эпизод посещения одного глухого тупичка на Арбате» (2, 186).
Балансирование на грани реальности и вымысла, яви и сна позволяет автору вводить острые суждения, менять ракурсы и каждый раз отводить их в сторону. Так, исповедальный разговор гида и журналиста провоцирует Вадима Лоскутова на откровенные признания, которые озвучиваются спутниками как бы от его имени. Размышления о мнимом равнодушии русских к собственной судьбе, о руинизации любого развития серьезны по сути. Однако затем они дискредитируются автором как дьявольские уловки: «Во исполнение чьих-то предначертаний к нему ключик подбирали, ловили в два ума и четыре руки на ими же подброшенные щекотливые идейки» (2,195).
Двойственность авторского отношения к изображаемому подчас оборачивается расплывчатостью и невнятностью. Прием амбивалентности достигает своей цели лишь в том случае, если автор выдерживает необходимую корректность в его использовании, не выходит за определенные границы и не позволяет «размагнитить» повествование, придать ему избыточную двусмысленность и неопределенность. Данный прием должен быть отчетлив в своем проявлении и восприниматься как норма художника, как органическая часть его эстетики. Но если он превращен в затяжную игру с читателем, его эффект гасится, а правила игры разрушаются. В результате читатель теряет ориентировку в действиях автора и утрачивает доверие к нему. Этот процесс, к сожалению, происходит в «Пирамиде», где Л.Леонов создает избыточную неопределенность происходящего, «затягивает» и смазывает эффект многоверсионности.
В качестве примера обратимся к одной из важнейших сцен романа: обширному монологу Сталина и его авторской интерпретации.
Монолог вождя – попытка изнутри понять логику властителя страны, его намерения использовать потусторонние силы для удержания своей власти и достижения конечной цели. После завершения монолога писатель делает иронические уточнения, снижающие суть исповеди и ставящие под сомнение впечатление, которое он произвел на ангела. Так, вначале дается указание на ограниченность понимания Николая Шамина и неполноту его сведений об ангеле, полученных от Дуни. Затем изображенное увязывается с субъективностью Николая Шамина, его склонностью к преувеличениям и домысливанию: «Надо оставить на совести студента живописные подробности о ночной встрече великого вождя с Дымковым – вроде скандала на концерте или кремлевских подземелий, в частности причину тогдашнего дымковского испуга» (2, 621).
Установив дистанцию между собой и исповедью Хозяина, писатель приступает к критической оценке ее. Он замечает, что «монолог кремлевского диктатора нельзя считать достоверным документом эпохи» (2, 621). Далее комментарий переносится на сам образ вождя – «незамысловатый его портрет, изготовленный как бы с бытовой изнанки» (2, 621), который предоставляется автору «всего лишь рукоделием пылкого и не бесталанного… почитателя из <…> толпы, на коленях аплодирующей своему кумиру, только что осознавшему жуткий апофеоз доктрины» (2, 621).
Затем, вставая на позицию современников 90-х годов, автор предлагает осуществить «судебно-патологический анализ его мертвящей деятельности – на основе <…> причудливого разнообразия казней» (2, 621). Но заканчивается эта охранительная критика указанием на то, что, может быть, еще значительнее оказался бы «мистический аспект этой незаурядной личности, как она представится однажды прозревшему потомку» (2, 622).
Иначе говоря, Л.Леонов поэтапно снижает значение, которое приобретает исповедь вождя в понимании т р а г и з м а исторического пути России и современности. И не только снижает, но и вообще ставит под сомнение реальность этой исповеди. До 623 страницы мы наблюдаем неустойчивость и размытость авторской позиции. Но эта ситуация усиливается и дальше, когда автор как бы по второму кругу, в другом варианте, осмысливает происходящее.
Он ставит под сомнение суть и детали изображенной встречи, прямо увязывает их с неосведомленностью рассказчика. Далее он еще раз указывает на нереальность изображаемого: «представляется непостижимой такая осведомленность молодых людей о секретнейших мероприятиях эпохи, вроде вышеописанного <…> а то и вовсе несостоявшихся» (2, 625 — 626).
В следующей главе (XV) метаморфоза с монологом вождя продолжается в новых событиях. Ангел Дымков, случайно встретившись с Никанором, под великим секретом рассказывает ему о тайне разговора с вождем. Автор, ставший четвертым человеком, знающим об этом, констатирует, что «все рассказанное в нем сущая неправда, которую и не стоит далее скрывать» (2, 628). В дальнейшем повествовании монолог вождя будет оттеснен на второй план и внимание автора переключится на другие события. Но неопределенность статуса монолога останется. С одной стороны, он будет фигурировать как реальность, вызывающая дальнейшие комментарии и действия, с другой – настойчиво ставиться под сомнение.
Д в о й с т в е н н о с т ь позиции художника с колебаниями то в сторону реальности монолога, то в сторону вымышленности его вызывает озадаченность творческой игривостью автора. Уязвимость подобного положения подтверждается и опытом русских писателей ХХ века (А. Грин, В. Маяковский, М.Булгаков, А.Платонов), которые, используя пограничную ситуацию с условностью, не допускали раздвоения созданной картины, запутывания читателя, а тем более невнятности авторского отношения.
Л.Леонов создал виртуозную форму завуалирования авторской позиции, которая в течение многих десятилетий позволяла ему находиться в интеллектуальной оппозиции официальной идеологии, сохранить определенную независимость, творческую свободу и быть неуязвимым от упреков в политической неблагонадежности. Но в 80−90-е годы все труднее было удерживать прежний уровень художественности в границах созданной им манеры.
Многослойность и орнаментальность поэтического мышления в «Пирамиде» обнаружили громоздкость и тяжеловесность построений, затянутость авторского повествования, искусственность ряда ситуаций, неполную органичность условного и реального мира. Нужно отдать должное воле художника. Он пытался удержать прежнюю высоту, обогатить свою палитру масштабными размышлениями последних десятилетий, экспериментальными новациями. Но наполнить испытанную форму новым содержанием, способным сохранить ее виртуозность, не удавалось. Писатель становился заложником собственной поэтической манеры. Отойти от нее он уже не мог, но и удержать ее как прежде был не в состоянии.
V. Условность и реальность
Немыслимая задача – постичь судьбу России и человечества – решалась Л.Леоновым в условиях сложившегося художественного метода и готовности решительно о б н о в и т ь свой поэтический арсенал. По сути, он использовал те внутренние ресурсы, которые были заложены в его палитре еще в 20-е годы, но в процессе освоения философско-психологического романа как бы отошли на второй план. «Пирамида» вобрала в себя и достижения прозы второй половины ХХ века: мифологизм, культурно-исторические связи, широкую палитру иронии, анализ творческого процесса, «интеллектуальную» игру и др. Однако не все они оказались органичными для нее. Так, образ автора-повествователя – участника происходящих событий – проведен мастерски от первой до последней страницы романа. Анализ творческого процесса дан обстоятельно и многопланово. Но насыщение текста культурно-историческими знаками, образами и символами подчас избыточно.
Смешение реального мира с условным оказалось не вполне органичным социально-философскому и психологическому изображению конкретного материала, не везде получило убедительное воплощение. Образы ангела Дымкова и резидента дьявола на Руси Шатаницкого обладают живостью и несомненностью. Они воспринимаются на равных с реалистическими персонажами (Дюрсо, Матвей Лоскутов, Дуня).
В то же время ряд эпизодов с условными ситуациями оставляет впечатление искусственности (описание строительства фигуры вождя, приход Вадима-фантома в родительский дом, подземелье с картинной галереей). Причина невыдержанности стилевой манеры видится в неорганичности романтических приемов в реалистической поэтике Л.Леонова, в неумелости использования условности, в оглядке на то, как будут восприняты эти новации.
Сопряжение выверенных путей и новаторства в конце ХХ века усугублялось грузом внутренних противоречий, вызванных пересечением истории и личности автора, советской эпохи и опыта творческого выживания в ней. В романе многое соединяется и живет по законам притяжения и отталкивания: великое и смешное, крупное и мелкое, высокие прозрения и перестраховка, бесстрашие мысли и лукавая осторожность. Писатель был лишен возможности пройтись по тексту романа с пером, сократить длинноты, вычеркнуть повторы, снять отвлечения, которые мешают основной идее, освободиться от сомнительных или фальшивых мест.
Осторожность и оглядка на господствующие правила (пусть и в ироническом ракурсе) привели в ряде глав к эклектичности стиля повествования. Бесстрашный реализм изображения сочетается с дозированной условностью, со стремлением рационалистически обосновать возможность параллельного мира, скрытых тайн природы. В желании сделать роман более современным, отвечающим потребностям общества 90-х годов, писатель интенсивно насыщал его научными и философскими представлениями, проливающими свет на природу жизни, создавал рискованные коллизии, углублял представление о пути человечества и России.
В «Пирамиде» есть сюжетные линии, которые не обрели жизнеспособность, оказались надуманными, не образующими е д и н с т в а в пределах своего развития и романа в целом. Линия отношений Сорокина и Юлии, в основу которой положен социально-психологический комплекс ущемленности бедного мальчика при дворе Бамбалски, представляется искусственной, перегруженной тяжеловесными спорами с претензией на элитарность. Писателю не удалось достичь непосредственности и живости этих отношений, не удалось сделать их интересными и близкими читателю.
История с подземельем и летающим автомобилем выглядит прямолинейной бутафорией; она могла бы восприняться как указание на мистические грани жизни, если бы автор так детально и настойчиво не убеждал читателей в достоверности происходящего.
Реалистическая обстоятельность, с которой переданы все изменения в состоянии Вадима-фантома за три дня пребывания в доме родителей, производит отталкивающее впечатление. Избыточность деталей на всех этапах наблюдения за мертвецом и привязанность автора к этой теме плохо сообразуются с условностью сцены. Писатель, словно завороженный, фиксирует все этапы состояния героя и объяснения их родителями, воспринимающими происходящее словно под гипнозом собственной интерпретации и не желающих взглянуть на события реально. Эта дисгармоничность условной сцены и реалистичной тщательности изображения, изощренное, почти болезненное внимание к физиологическим признакам мертвеца-Вадима разрушают цельность художественного замысла, вносят диссонанс в общую атмосферу авторского повествования.
К сожалению, на романе лежит печать некоторой умозрительности и сконструированности; он не обретает необходимой легкости, естественности, жизненной силы, способной завуалировать или сгладить рационалистические схемы. Творческое воображение художника не справляется с грандиозным планом, не везде оказывается достаточным для поэтического воплощения авторского замысла. В ряде случаев следы надуманности становятся непреодоленными и создают в романе «мертвые зоны» из сюжетных линий, эпизодов и отношений.
Писателю не удалось добиться единства и слитности философско-публицистического и изобразительного материала. Чем крупнее и масштабнее становились размышления автора о механике Вселенной или природе человека, чем полнее насыщались они научными знаниями и современными понятиями, тем больше эти главы отдалялись от общей тональности произведения и основной формы повествования. Разрыв между философско-публицистическим материалом, интенсивно наполняемым в 90-е годы интеллектуальным содержанием, и живописными, легко написанными главами 70-х годов увеличивался, в результате чего первые кажутся теперь излишне рационалистичными, а вторые на их фоне выглядят несколько облегченными и подчас затянутыми.
Вполне возможно, что читатель середины XXI века, оценивающий роман со стороны и не связанный с реалиями 90-х годов, которые совершались на глазах нынешних современников, не станет придавать значения разностильности произведения и воспримет ее как две формы художественного мышления. Точно так же и многочисленные филиппики в адрес социализма будут приняты позднее иначе, чем сейчас, и предстанут как историческая оценка прошлого с высоты пережитого. Но в настоящее время бросается в глаза, что они опрощают текст, не соответствуют его уровню, этически неуместны. В них проглядывает некое злорадство по адресу поверженного и осмеянного социалистического прошлого. Вряд ли это достойно большого писателя, тем более что прошлое не способно отреагировать на его выпады.
Если же исходить из эстетических критериев, то придется признать, что чувство меры и вкуса в подобных выпадах изменяет автору. Многочисленные вкрапления их в текст романа портят уже готовое, художественно выстроенное повествование.
В интеллектуальном плане роман представляет м и с т и ф и к а ц и ю, розыгрыш читателя, вовлеченного в сложные противоречивые искания автора. «Пирамида» становится экраном, отражающим нравственные, исторические и духовные проблемы ХХ века, к которым читатель приобщается как собеседник и соучастник авторской мысли. Мистификация заключена и в том, что многие важные эпизоды предстают как нереальные, переводятся в разряд наваждения. Так, диалог Вадима Лоскутова с Никанором о национальном вопросе и судьбе России оказывается ловушкой Шатаницкого. Гигантское строительство скульптуры вождя – мистификация корифея, который скопировал технические параметры подобных строек и довел их до «видения апокалиптического цикла» (1, 170).
Экскурсия Вадима в рукотворный ад призвана показать технологию создания культа личности, рассказать то, как совершалось идолопоклонничество в ХХ веке, до какого вдохновенного богоборчества может дойти человек, утративший веру в творца. Цель Шатаницкого состоит в том, чтобы дискредитировать человека, показать его отступничество от Создателя. Коварство дьявольской козни осуществляется и с помощью мистификации с лагерем Гулаг.
В сюжетном плане ситуация с котлованом и гигантской стройкой – это обман, совершаемый для ознакомления Вадима с его будущим. По сути же, под видом ловушки автор развертывает философию рабства, порожденную унижением заключенных. Попытка писателя реконструировать атмосферу насилия опосредованным способом через признания гида стройки несет на себе печать искусственности. Перед нами вроде бы и некий образ лагеря Гулаг и одновременно имитация его; воображаемая автором стройка века и одновременно декоративная туфта дьявола, натуральный обман Вадима Лоскутова.
Л.Леонову посчастливилось избежать тех испытаний, через которые прошли А.Солженицын, В.Шаламов, А.Лосев, Д.Лихачев и другие, и это наложило отпечаток на заданность изображенного материала. Не имея личного опыта, писатель вынужден был придать картинам двусмысленность мистификации, созданной Шатаницким. Отчасти это объясняло и оправдывало художественную придуманность картины: автор как бы «прикрылся» «адским господином» (2,150). Но при этой двусмысленности изображенные картины теряют социальную силу и определенность; трагическая тема смазывается игровым характером происходящего.
Авторская уклончивость и нежелание выходить из границ миража, балансирование на грани яви и вымысла, воображаемого и действительного превращаются из средства самозащиты в игривость, скрывающую нежелание вести разговор на полном накале чувств. Ум и глубина мышления художника не обретают здесь адекватной решимости. Автор стремится прикрыть еретичность высказанных размышлений изощренностью формы и одновременно восполнить неготовность к защите своих представлений более открытым способом.
Писатель достиг совершенства в искусстве завуалирования своих позиций, создал многослойную систему защиты, с тем чтобы самый въедливый цензор не смог приписать ему крамольных мыслей, не смог обвинить в неблагонадежности. Однако обретение этой неуязвимости оплачено дорогой ценой. Горячий темперамент и трезвый ум, страстная защита интересов народа, склонность к философской публицистике оказались зажатыми, скованными жесткими требованиями маскировки. Постоянная оглядка на то, как может быть истолковано его слово, желание обеспечить свою неуязвимость и в то же время донести до читателя смысл оппозиционности порождали закрытость авторской мысли, усложняли образность выражения и технику повествования. В результате – пафос художника терял остроту и силу воздействия на читателя.
VI. Искушение читателя
В «Пирамиде» пересеклись и соединились две тенденции. Одна – смелость мыслителя, взявшего на себя труд обобщить исторический путь России и человечества и отдавшего пятьдесят лет выполнению этой задачи. Другая – дерзость писателя, обратившегося к области православного богословия, Священных сюжетов и использующего их в качестве литературных апокрифов. Если первое не вызвало принципиальных возражений, то второе стало предметом пристального внимания и неоднозначных оценок.
Наиболее строгие критики даже поставили под сомнение право писателя отклоняться от церковной догматики при обращении к Священным Текстам. Но «Пирамида» – это художественное произведение, а не богословский трактат. И требовать абсолютной точности используемых источников неправомерно и недальновидно. Писатель творит по законам искусства, и в пределах этих законов он наделен свободой и ответственностью за сказанное слово. И «апокриф Еноха*, который объясняет ущербность человеческой природы слиянием обоюдо-несовместимых сущностей – духа и глины» (1,6), использован Л. Леоновым с поэтической целью. Он служит емким средством обобщения человеческой истории с высоты ХХ века. Видения Еноха о расплате человеческого рода за грехи стали источником наваждения в «Пирамиде», отправным пунктом Л. Леонова в создании «своей, земной версии о том же самом на страницах предлагаемой книги» (1,6).
В романе впервые обнажены п о т а е н н ы е, «крамольные», размышления о человеке, откристализованные в сознании писателя за полвека, но сдерживаемые условиями советской идеологии и цензуры. Конечно, Л. Леонов и раньше осторожно передоверял их под благовидным предлогом «отрицательным» персонажам, но они сглаживались или нейтрализовались соответствующими контрдоводами и комментариями автора. Раньше эти откровения героев имели скорее провоцирующее назначение: они испытывали на прочность официальные представления и дискредитировали их.
В «Пирамиде» «подпольный» человек получил возможность быть равноправным и представлять свои взгляды развернуто и объемно. При этом виртуозность их выражения стала более изощренной. Писатель создал свою «технологию» завуалирования суждений персонажей и авторского отношения к ним. Однако реванш за прежнее умолчание и компромисс не вызвал тот результат, который предполагался изначально. Он обнажил не только стойкость позиции писателя, сформированную неблагополучием времени и его оппозиционностью, но и смятение души и ума, внутренний разлад, нечеткость ориентиров, прикрытых всепоглощающей иронией. Долгожданная свобода, открывшая возможность сказать сокровенное выстраданное слово, оказалась обезоруживающей для творческой манеры Л. Леонова. Сказанное слово получилось несоразмерным тому, что можно было ожидать, и неадекватным тому, что готовы были услышать от него читатели.
Более того, искушение автора «еретическими» идеями, соблазн заглянуть за черту, отведенную человеку в его земной жизни, а также скрытое намерение испытать веру разумом не проходят бесследно. Они ведут к размыванию ясности веры и сознания, к лукавству ума, поднявшегося над охранительным неведением человека. Это путь к игре бунтующего сознания. Гордыня мысли и заглядывание в бездну невольно проецируются на читателя, который беззащитен в своем доверии автору, невольно вовлекается в игру и может запутаться в ее хитросплетениях. Поэтому амбивалентность авторской позиции оказывается и с к у ш е н и е м и для самого читателя, который надеется на ответственность автора и определенность результатов путешествия в глубь его сознания. Но, становясь участником исканий писателя, их противоречий и драм, он подчас ощущает не только незащищенность, но и пренебрежение к себе. М. Пришвин как-то заметил, что можно играть, но важно не заиграться. Л. Леонов, видимо, не удержался на той спасительной черте, за которой «интеллектуальная» игра переходит в рискованный эксперимент. Да, читателю дана возможность распутывать ходы мысли художника, испытать удовольствие от смены оттенков и вариантов ее развития. Но этого, в конечном счете, недостаточно, так как требуется главное – нравственная оценка изображаемого. И если она нечетка и условна, как и само изображение, то воспринимается как незавершенность авторских поисков и пренебрежение к читателю.
«Пирамида» – это не только исповедь, самопознание, но и искушение, через которое должен пройти читатель. Роман позволяет увидеть трагические последствия деятельности человека, задуматься о будущем, стать умнее и тверже в защите своего права на жизнь. Но для этого необходимо почувствовать, что автор укрепляет нас в этой вере и надежде. И только тогда читатель становится его единомышленником.
Характерно, что там, где писатель отходил от излишней завуалированности и умозрительности, где открывался в искренности чувства и драматизме мысли, он достигал большего эффекта. В этих ситуациях он располагал к себе несомненностью изображенного, вызывал благодарный отклик в душе читателя. Пример тому – сильный и безупречно написанный финал романа. Это своеобразная вершина авторской раскованности и сокровенности. Ангел Дымков, оказавшийся в земном плену, теряет божественный дар, но находит возможность покинуть планету. Сцена отлета в космос выписана мощно и захватывающе, на одном дыхании. Художественный дар Л. Леонова предстает здесь в лаконичной и яркой живописности. Величие и таинство происходящего переданы через ощущения Дуни и ее освобождение от неуверенности в себе. Сцена эта словно поднимает читателя и открывает новый ракурс взгляда на героев и происходящее. Земная эпопея Лоскутовых соотнесена с космическими процессами, а сама героиня – с актом чудотворения небесного посланника. Писатель находит простые, но отрадные приметы действительности, таящие прелесть земной жизни (полусорная трава «кошачьи лапки», косяк журавлей), утверждающие невозможность утраты даже самой «м и л о й м а л о с т и» (2, 676), дорогой человеку.
Пожалуй, впервые за весь роман открыто прорывается не боль, не отчаяние за земную судьбу, а лирическая проникновенность, чувство привязанности к дому, обострившееся на фоне грозных космических процессов. В этой сцене автор как бы отстраняет сложную многослойную манеру повествования и делает нас равноправными свидетелями происходящего.
Однако если событийный ряд произведения венчается сценой отлета ангела, то сам роман заканчивается исповедью автора, емкой по содержанию и сложной по форме. Л. Леонов остается верен себе и на последних страницах демонстрирует искусство тонкого виртуозного мышления. Предыдущая (XVIII) глава заканчивалась уверенностью Дуни в том, что ангел, растворяющийся в небытие, «все еще видит ее, земную девчушку, исчезающую в щепотке пространства на ладони» (2, 681). «В кромешной темноте небес» появляется хоть какая-то надежда на живую связь. Но в финальной главе автор возвращается к горькому чувству, пронизывающему произведение. В ней указывается на астрологическое состояние, которое знаменует «гибель цезаря и великой державы» (2, 683). Более того, завершение романа и наваждения, так долго томившего автора, не приносит успокоения: «...Вместо ожидаемого облегченья овладевал мною непонятный, с примесью отчаянья, страх неизвестности, каким сопровождаются все эпохальные выздоровленья – от мечты, от прошлого, от самого себя в том числе» (2, 684).
Последняя сцена романа полна сдержанного, но скорбного признания, в котором заключена и неизбежность примирения с происходящим, и непринятие его. Костры, в которых горят мусор и поверженное наземь Старо-Федосеево, пепел, падающий на подставленную ладонь, вызывают горькое чувство. Обозначение автора погорельцем, потерявшим свою обитель и возможность духовного очищения, возвращает ощущение обездоленности и сиротства.
Поэтический смысл этой сцены многозначен. В финале автор как бы смягчает тяжкое впечатление и переносит внимание на элегическую тональность расставания с дорогим для него поэтическим миром. Но все же прощальное переживание не в состоянии сгладить горечь, которой пронизано произведение.
***
Вполне возможно, что время внесет свои коррективы в нынешнее восприятие «Пирамиды». И то, что сегодня бросается в глаза и расценивается как противоречия авторского отношения, позднее, через 30 – 40 лет, может быть оценено иначе, мягче, как особенности авторского видения мира и стиля повествования. По мере отдаления от ХХ века могут по-другому предстать и другие грани романа, вызывающие сегодня сомнения: нерешительность автора в изображении условного мира, избыточные пояснения и оглядки на то, как будут приняты его поэтические новации. И, возможно, больший интерес вызовет не только мыслительная наполненность романа, но и обстоятельность и виртуозность авторского описания, богатство русского литературного языка, искусство иронического слова.
Нам еще предстоит по достоинству оценить заботу писателя о будущем, приобщиться к тому, что мучает и не дает покоя его душе, проникнуться пугающими картинами-наваждениями, ощутить холод бездны, в которую он заглянул. «Человек, который все понимает, очень несчастный человек, у него непременно должна быть болезненная трещина в сердце…» – заметил М. Горький. И надо быть благодарным тому, кто берет на себя участь быть «чувствилищем эпохи» и ее мучеником независимо от того, насколько совершенно и законченно его итоговое исповедальное слово.
* По преданию, Енох являет седьмое колено после Адама. За свою праведную жизнь он был удостоен чести стать небожителем, «писцом правды». Енох был известен как историк, ученый, тайновидец, способный видеть прошлое и прозревать будущее. В «Книге Еноха» изложена история мира и тайны грядущего, открывшиеся во время его странствий по космосу. Видения Еноха представлены в ней живописно и обстоятельно. Церковь отнесла «Книгу Еноха» к разряду апокрифов, то есть неканонических, неофициальных источников, однако воспринимала ее терпимо. См. об этом: Книга Еноха: Апокрифы. СПб.: Азбука, 2000. 336 с. Составление, вступительная статья и комментарий В. Рохмистрова.
