№10.2022. Виктор Хрулёв. ПерепискаА.П.Чехова и О.Л.Книппер: исповедь души или мистификация? Окончание. Начало в № 8–9
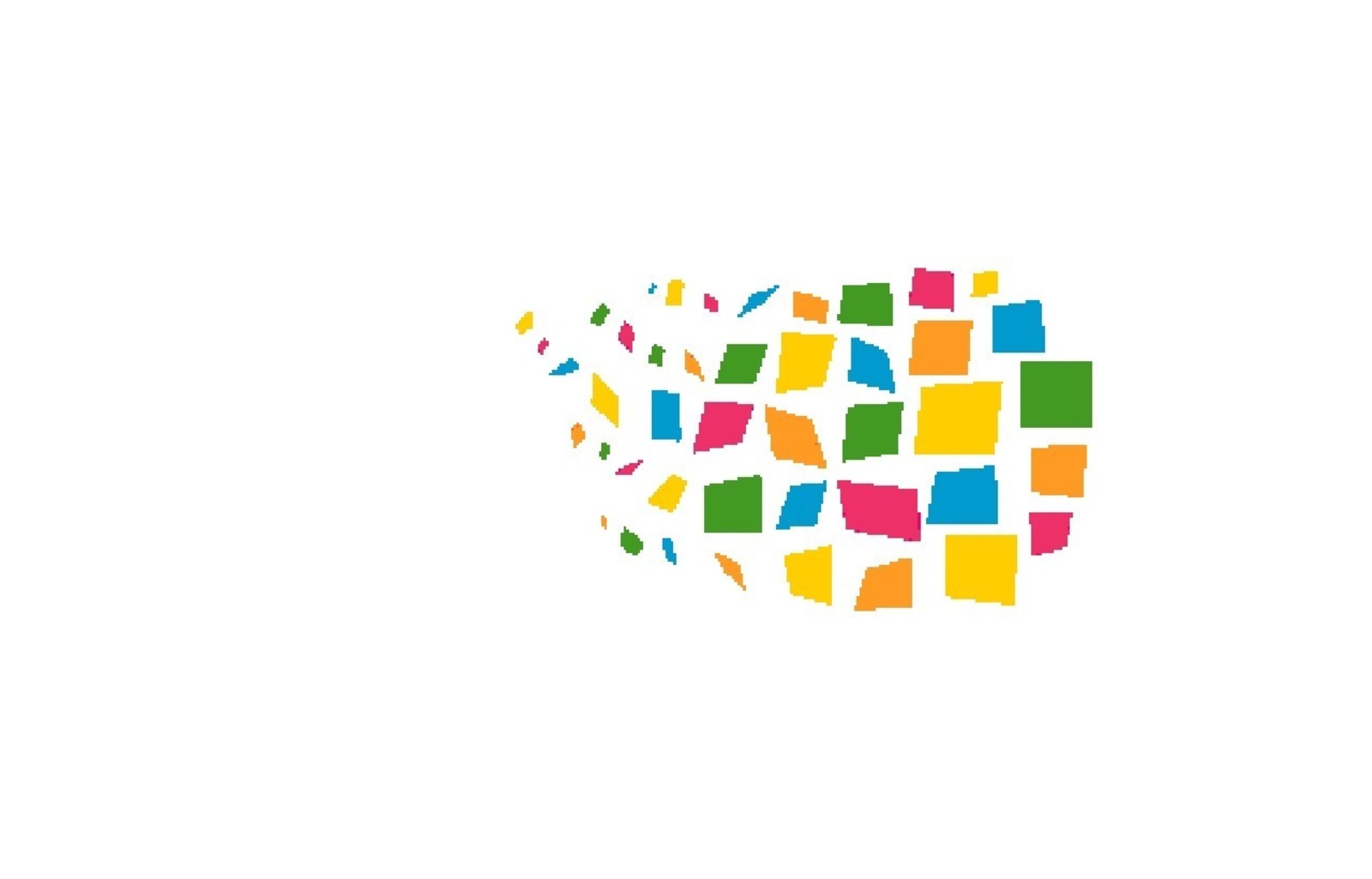
Виктор Хрулев
Переписка А. П. Чехова и О. Л. Книппер: исповедь души или мистификация?
(Окончание)
- Одиночество Чехова
- Намерения и реальность
Можно привести свидетельства самого писателя и современников о его одиночестве, особенно в последний период жизни. М. Горький, который был в гостях у Чехова в марте 1899 года писал Е. Пешковой из Ялты: «Какой одинокий человек Чехов и как его плохо понимают. Около него всегда огромное количество поклонников и поклонниц, а на печати у него вырезано: “Одинокому – везде пустыня”, и это не рисовка»29. В записной книжке Чехова есть признание: «Как я буду лежать в могиле один, так в сущности я и живу одиноким (Соч. XVII, 86). И. Бунин, М. Лавров, Л. Авилова и другие отмечали это состояние писателя и задумывались над его судьбой.
А причин для одиночества могло быть несколько. Прежде всего – это свойство характера. По природе Чехов – индивидуалист; он закрыт и сдержан с юности. Склонность начинающего беллетриста к юмору и комическому не отменяла сосредоточенность на себе и дистанцию от окружающих. Далее, это и неизбежность творчества, умение сосредоточиться, уйти в себя, независимо от того, где и среди кого ты находишься. Эту особенность Чехова отмечали его близкие и современники.
Необходимо учесть и редкую отзывчивость писателя. Он брал на себя непомерную нагрузку на протяжении всей жизни. С 18 лет взял ответственность за судьбу большой семьи, спас ее от нищеты и распада. Затем была непрерывная литературная работа, обустройство в Мелихово, строительство дачи в Ялте, участие в общественных мероприятиях: строительство трех школ, помощь голодающим крестьянам и др. Все это требовало сил, времени и здоровья. А когда ему самому после женитьбы потребовалась реальная помощь и забота, рядом не оказалось близкого человека, готового поступиться своими планами.
Далее Чехова угнетало его одиночество среди читателей. Он уже при жизни стал известным и признанным писателем. Его популярность росла. Пьесы открыли новую страницу драматургии, вызвали обновление сценического искусства. Но писатель не видел того отклика, который ждал от читателей и зрителей. Он надеялся, что после того, как покажет правду реальности, люди задумаются и попытаются изменить свою жизнь. Но этого не происходило. Читатели с удовольствием знакомились с новыми произведениями Чехова, были благодарны ему за милосердие, признавали справедливость его побуждений и надежд. Но ничего не менялось. А консерватизм зрителей и читателей, медленность естественной эволюции обесценивали усилие писателя. Обновление России Чехов связывал с отдаленными временами (через 200–300 лет). И это только усиливало ощущение невостребованности.
Ситуацию усугубляло и личное одиночество Чехова. Большая любовь в его жизни так и не случилась. Были увлечения, флирты, легкие романы, но сильной привязанности испытать не довелось. В 40 лет его увлечение О. Л. Книппер стало попыткой обрести близкого человека. На первом этапе Чехов привязался к молодой женщине, надеялся создать семью. Но надежды писателя были порушены. Их письменное общение стало отчасти семейным театром, где искренность и непосредственность сочетались с мистификацией.
Одиночество обострилось в последние два года. Болезнь нарастала, силы гасли. Приезды в Москву к жене оставляли горький осадок. Т. Щепкина-Куперник в воспоминаниях рассказывает о посещении Чехова осенью 1902 года: «Я изумилась происшедшей с ним перемене. Бледный, землистый, с ввалившимися щеками – он совсем не похож был на прежнего А.П. Как-то стал точно ниже ростом и меньше… Он горбился, зябко кутался в какой-то плед и то и дело подносил к губам баночку для сплевывания мокроты… В тот вечер Ольга Леонардовна участвовала в каком-то концерте. За ней приехал корректный Вл. Ив. Немирович, во фраке с безупречным пластроном. Ольга Леонардовна вышла в нарядном туалете, повеяло женскими духами. Ласково и нежно простилась с Антоном Павловичем, сказала ему какую-то шутливую фразу, чтобы он не скучал и был умником, и исчезла.
Антон Павлович поглядел ей вслед, сильно закашлялся и долго кашлял, и когда прошел приступ кашля, сказал без всякой видимой связи с нашим предыдущим разговором, весело вертевшимся около воспоминаний Мелихова, прошлого, общих знакомых и проч.
– Да, кума... помирать пора…»30.
И это признание сделано через год с небольшим после женитьбы. Можно заподозрить, что в описании этого эпизода сказалась боль Т. Щепкиной-Куперник за дорогого ей человека. Признание Чехова является, по сути, приговором своему положению.
А вот воспоминание И. Бунина, который проводил ночи с Чеховым, когда актрисы не было дома: «Ежедневно по вечерам я заходил к Чехову, оставался иногда у него до трех трех-четырех часов утра, то есть до возвращения Ольги Леонардовны домой.
Чаще всего она уезжала в театр, но иногда отправлялась на какой-нибудь благотворительный концерт. За ней заезжал Немирович во фраке, пахнущий сигарами и дорогим одеколоном, а она в вечернем туалете, надушенная, красивая, молодая, подходила к мужу со словами:
– Не скучай без меня, Дусик, впрочем с Букишончиком тебе всегда хорошо... До свиданья, милый, – обращалась она ко мне. Я целовал ее руку, и они уходили. Чехов меня не отпускал до ее возвращения. И эти бдения мне особенно дороги»31.
Эти воспоминания подтверждают театрально-покровительственное отношение О.Л. Книппер к больному мужу. Но обмануть Чехова было невозможно. Он хорошо знал природу человека, тонко чувствовал оттенки, скрываемые за показной нежностью. Чехов сознавал, что становится обузой для жены, которая жаждала признания и поклонения окружающих. На этом фоне понятно одиночество писателя, усугубившееся в последние два года, его отзывчивость на внимание и обеспокоенность тех, кому он был дорог. Эта признательность проявляется и в последних письмах к Л. Авиловой.
- В плену эксперимента
И тем не менее Чехов хотел чувствовать себя здоровым и жить полноценной жизнью. Он отказывался принимать болезнь как реальность, замечать сочувствие окружающих, видеть тревогу в глазах родных. Писатель стал опорой своим близким и не смог ставить под сомнение прочность своего положения. Он поступал как должно, жертвуя здоровьем. И это был акт мужества, а не малодушие или самообман. Как врач, он трезво понимал, чем все это может закончиться. И не случайно говорил, что читать его будут еще лет семь, а жить ему осталось лет пять. Но, как любой человек, он надеялся на лучшее.
Может быть, в этом поведении сказалась вера в то, что если болезнь не замечать, она ослабнет, и ты преодолеешь ее? Не потому ли скрывал свое реальное состояние даже от лечащего врача? Как бы то ни было, эта тактика была принята им. Она позволила уверять близких, что вспышки болезни естественны и привычны. И надо жить спокойно, с уверенностью в будущем.
В последние два года физическое состояние Чехова резко ухудшилось. Он нуждался в постоянной поддержке и каждодневной заботе. Но жена не бросала сцену и не планировала быть с мужем постоянно. Более того, она настойчиво побуждала его писать новую пьесу, чтобы закрепить свою артистическую карьеру. Близкие люди осуждали отношение актрисы к больному мужу. Л. Сулержицкий – литератор и художник, тесно связанный с МХТ, переживал за одиночество Чехова и его тяжелое состояние. В конце января 1902 года он писал из Ялты О. Л. Книппер, напоминая о ее долге перед мужем: «Приезжайте, Ольга Леонардовна, приезжайте непременно, я знаю, Антон Павлович втайне от нас и даже от самого себя, ждет уже Вас. Не забывайте, что он не только муж Ваш, но и великий писатель, к которому Вы имеете право приехать не только по этой причине, но просто как человек, могущий поддержать его бодрость, а, следовательно, и здоровье, которое необходимо всем, всей русской литературе, России» (См.: П.X, 394).
Более откровенно он делился своим недоумением в письме жене: «Я часто бываю у Чехова, он очень меня любит и обижается, если долго не прихожу. Мы оба в одинаковом положении. Жены нас не любят, играют себе на сцене, на рояле, а мы, бедные, тут тоскуем без них и оправдываем друг перед другом каждый свою… Деточка, не подумай, что я серьезно это пишу <…>. Хотя нельзя сравнить наших положений. Я очень обвиняю Книппер, что она не приедет, хотя бы на неделю. Ты другое дело <…>. Да и потом я здоров, а ведь Чехов совсем болен. И его не следовало бы покидать. Да и потом это – Чехов…» (П.X, 451-452).
Безотрадность настроения Чехова Л. Сулержицкий передал О.Л. Книппер в письме от 38 января 1902 года через свое состояние во время пребывания в доме писателя «Мы же все здесь такие же узники, как и он. Что мы ему можем дать, при всем нашем искреннем желании? Наши клетки только шире, потому что можем выходить. А что мы видим такое, о чем могли бы ему рассказать? Толчется бестолково между глупыми камнями холодное море, торчат нелепые безжизненные кипарисы, темное тяжелое небо точно набухло и вот-вот расплачется, а унылый ветер он слышит из дому так же хорошо, как и мы. Жутко, холодно, неуютно. А главное пусто (П.X, 452).
А. Гольденвейзер, посетивший вместе с Ф. Шаляпиным и М. Горьким Чехова в Ялте весной 1902 года, констатировал резкое ухудшение состояние писателя: «Мы недолго побыли у Чехова и ушли с тяжелым сердцем, тем более, что доктор Альтшуллер сказал нам, что приезжавший недавно ко Льву Николаевичу из Москвы доктор Шуровский осматривал и выслушивал Чехова и нашел его положение чрезвычайно серьезным…» (См.: П.X, 451).
Однако напоминания об обязанностях жены, как и хлопоты перед руководством МХТ, мало что могли изменить. Театр жил по своим законам. А поступиться работой и карьерой Ольга Леонардовна была не готова.
Поведение актрисы таило в себе твердый эгоизм. Она могла мучить себя упреками в жестокости по отношению к мужу, предлагать ему осудить ее. Но ни на шаг не позволяла себе выпасть из театральной жизни и даже не допускала это в мыслях.
Нечуткость ее по отношению к Чехову сопровождала пять лет их общения. Вот только несколько примеров из разных периодов. 17 мая 1900 года Чехов уехал из Москвы в Ялту совершенно расстроенный, а О. Книппер даже не заметила, что он болен. Через три дня Чехов бодро сообщал подруге: «Милая, восхитительная актриса, здравствуйте! Как живете? Как себя чувствуете? Я, пока ехал в Ялту, был очень нездоров. У меня в Москве уже сильно болела голова, был жар – это я скрывал от Вас, грешным делом, теперь ничего» (20 мая 1900 г. П. IX, 86).
Ситуация, когда писатель болел, а актриса не догадывалась о его состоянии, становилась типичной. И не потому, что Чехов умел скрыть свое состояние, но и от отсутствия заботы его здоровье. Сосредоточенность О. Л. Книппер на своем состоянии и своих впечатлениях перекрывала все остальное.
Ольга Леонардовна не воспринимала серьезно болезнь Чехова, когда выходила за него замуж. Не придавала ей значения и в течение супружеской жизни. Через два года жена могла, не подумав, упрекнуть мужа в том, что он не выполнил свое обещание. В ответ Чехов разъяснял ей то, о чем она могла и сама догадаться: «В своем последнем письме ты упрекаешь меня за то, что я обманул тебя, остался в Ялте. Но разве я мог приехать? Ведь я кашлял неистово, зверски, всего меня ломало, я злился и скрипел как старый воз с неподмазанными колесами» (12 сентября 1902 г. Переписка. 2, 500).
В 1903 году, когда Чехов уже тяжело болел, Ольга Леонардовна была озабочена больше тем, чтобы он написал новую пьесу, чем срочным лечением мужа. И даже в 1904 году, когда Чехов угасал на ее глазах и она переживала за его состояние, все равно успокаивала себя тем, что, дай бог, все обойдется.
Эгоцентризм жены наглядно проявился и в следующем эпизоде. 14 февраля 1904 года супруги поехали из Москвы осматривать усадьбу в Царицыно. Обратно пришлось возвращаться на лошадях. Для больного писателя эта поездка оказалась очень рискованной, хотя был солнечный морозный день. В воспоминаниях Ольга Леонардовна передает свои восторженные впечатления, автоматически перенося их и на Чехова: «Несмотря на довольно сильный мороз, как наслаждался Антон Павлович видом белой, горевшей на солнце равнины и скрипом полозьев по крепкому, укатанному снегу! Точно судьба решила побаловать его и дала ему в последний год жизни все те радости, которыми он дорожил: и Москву, и зиму, и постановку “Вишневого сада”, и людей, которых он так любил» (П.XII, 278).
Однако эта оценка расходится с тем, что испытывал Чехов. Это видно из письма, которое он отправил в тот же вечер Л. Авиловой. В нем, в частности, говорилось: «Простите, я замерз, только что вернулся из Царицына (ехал на извозчике, так как не идут поезда, что-то там сошло с рельсов), руки плохо пишут, да и укладываться нужно. Всего Вам хорошего, главное – будьте веселы, смотрите на жизнь не так замысловато; вероятно, на самом деле она гораздо проще. Да и заслуживает ли она, жизнь, которую мы не знаем, всех мучительных размышлений, на которых изнашиваются наши российские умы, – это еще вопрос» (14 февраля 1904 года. П. XII, 34–35).
Л. Авилова чутко уловила горькое признание Чехова. В ее комментарии сказано: «Сотни раз я перечитывала это письмо. Откуда это новое настроение Антона Павловича? “Жизнь проще, не стоит мучительных размышлений…” И мне казалось, что он горько, презрительно улыбается, оглядываясь в прошлом на себя»32.
В своих воспоминаниях лечащий врач И. Альтшуллер эту поездку оценивает совсем иначе. Он напоминает, что еще месяц назад чествование юбилея Чехова отдавало похоронами и суждения О. Л. Книппер «являются несколько неожиданными»: «В середине февраля Антон Павлович вернулся в Ялту в значительно худшем состоянии, чем уехал <…> Он пробыл в Ялте до конца апреля; здоровье, если и стало чуть лучше, то во всяком случае внушало мало надежды»33.
Писатель и актриса стали заложниками собственного эксперимента. В результате Чехов был брошен и обречен на волю судьбы.
- «Вишневый сад» как итог
Творческим прорывом Чехова на последнем этапе стало создание пьесы «Вишневый сад» (1903). Комедия по форме и трагикомедия по содержанию она отразила бесстрашие правды художника. Крушение помещичьего гнезда показано изнутри. Неустроенность персонажей, расплата за праздное существование, их беспомощность перед требованиями реальности производят гнетущее впечатление. Чехов остается верен себе. Он пытается удержать баланс жизни и смерти, молодости и старости, красоты и безобразия, проявляет жизнелюбие, оставляет слабую надежду. Но горечь его обобщений несомненна. Финальная сцена с «забытым» слугой Фирсом в заколоченном на зиму доме – это и приговор равнодушию прошлых хозяев. А оценка Фирсом пролетевшей жизни обнажает одиночество человека.
Рождалась пьеса медленно и трудно. Это был мучительный процесс. И дело не только в том, что долго не вырисовывался жанр и общий тон произведения. Чехов не мог допустить, чтобы новая вещь была хуже прежних. А профессиональные требования к себе только возрастали. Кроме того, сказывались ухудшение здоровья и неустроенный быт.
Летом 1903 года на отдыхе Ольга Леонардовна обеспечивала Чехову благоприятные условия для написания пьесы: незваных гостей отваживала, контакты с окружающими ограничила. Ей даже продлили отпуск до середины сентября, чтобы она продолжила контроль за писателем. 19 сентября актриса выехала в Москву. Она сожалела, что на долгие месяцы оставляла мужа одного. В письме К. Станиславскому признавалась: «Все-таки я немного цербер около Антона Павловича, а он наладился на работу теперь <…> Безжалостно вообще с моей стороны бросать его так на тяжелую зиму. Не пойму я своей жизни и своей “точки”» (Цит. по ПССП. П. XI, 547).
В последний месяц работы из-за слабости Чехов не выходил со двора. Нарастала неудовлетворенность сделанным. Но стимулом развития было желание одарить Художественный театр новым произведением. Его ждали все актеры и прежде всего жена. Письма режиссеров и Ольги Леонардовны в сентябре-октябре 1903 года полны нетерпения; один вопрос волнует всех: «Когда же?».
Но даже подготовленную пьесу Чехов правит при переписывании текста; он превращает техническую процедуру в творческую переработку материала. 29 сентября 1903 года сообщает жене: «Пьеса уже окончена, но переписываю медленно, так как приходится переделывать, передумывать; два-три места я так и пришлю недоделанными, откладываю их на после – уж ты извини…» (П. XI, 258-259). 3 октября он обнадеживает жену: и эта переделка неизбежна, но вскоре он завершит ее: «За пьесу не сердись, дусик мой, медленно переписываю, потому что не могу писать скорее. Некоторые места мне очень не нравятся, я пишу их снова и опять переписываю» (П. XI, 258–259).
Сомнения и неуверенность в себе отягощают работу, рождают опасения, что пьеса не станет такой, как ему видится в замысле: «Тяну, тяну, тяну, и оттого, что тяну, мне кажется, что пьеса неизмеримо громадна, колоссальна, я ужасаюсь и потерял к ней всякий аппетит» (О. Книппер-Чеховой 7 октября 1903 г. П. XI, 265). Переписывание растянулось еще на неделю. Наконец, 14 октября пьеса была послана. Но процесс работы над ней на этом не завершился.
Когда писатель уведомил об этом жену телеграммой, она была в восторге. В ответном письме ликовала: «Уррааа!... “Вишневый сад” едет!!! Кому ни скажу – все ликуют, все лица озаряются. Милый, дорогой мой, у тебя верно, точно бремя с души свалилось, правда? С каким безумным волнением я буду читать пьесу! И сейчас при одной мысли сердце бьется. Если бы ты видел, как в труппе все оживились, заволновались, расспрашивали! Милый ты мой! <…> (См.: П. XI, 585).
О. Л. Книппер была не просто обрадована, но и восхищена пьесой. И чем больше погружалась в нее, тем полнее открывала талант писателя. После обстоятельной телеграммы Вл. Немировича-Данченко в 180 слов она добавляла в письме: «Что 1-й акт удивительно грациозен и легок – верно. А вообще ты такой писатель, что сразу никогда всего не охватишь, так все глубоко и сильно» (19 октября 1903 г. П. XI,591).
К. Станиславский был ошеломлен пьесой и не скрывал своих эмоций. В телеграмме Чехову 20 октября 1903 года он сообщал: «Потрясен. Не могу опомниться. Нахожусь в небывалом восторге. Считаю пьесу лучшей из всего прекрасного Вами написанного. Сердечно поздравляю гениального автора» (П. XI, 593).
Радость от ожидаемого прорыва заслоняла то, что касалось положения Чехова. В каком состоянии он находился? И какой ценой ему досталась пьеса? Это отходило на второй план. Важно, что писатель дал шанс театру, обеспечил его развитие, предопределил успех сезона.
Вскоре начался этап осмысления пьесы и ее постановки. Для Чехова все было важно: сценическое воплощение, распределение ролей, обсуждение интерьера, уточнение деталей с режиссерами. Чтобы помочь актерам, он решил прибыть в Москву, присутствовать на репетициях и даже внести необходимые поправки. Приехал совершенно больным. Но это не помешало ему следить за постановкой пьесы.
В отношениях с режиссерами Чехов соблюдает политес, говорит им комплименты, делает вид, что он всецело в их распоряжении, как автор пьесы только следит за ее сценическим воплощением: «Дорогой Константин Сергеевич, конечно, для III и VI актов можно одну декорацию, именно с передней и лестницей. Вообще, пожалуйста, насчет декораций не стесняйтесь, я подчиняюсь Вам, изумляюсь и обыкновенно сижу у Вас в театре разинув рот. Тут и разговоров быть не может; что Вы ни сделаете, все будет прекрасно, в сто раз лучше всего того, что я мог бы придумать» (10 ноября 1903 г. П. XI, 302).
Но эти лестные признания не отменяют и другое: внимательное и критичное отношение к интерпретации пьесы и ее постановке. Ненавязчиво, но целенаправленно писатель дает советы по воплощению его персонажей актерам: «Дуня и Епиходов при Лопахине стоят, но не сидят. Лопахин ведь держится свободно, барином, говорит прислуге ты, а она ему – вы» (Там же. С. 302).
Чехов делает емкие и значимые уточнения о персонажах, составляет список того, как можно распределить роли между актерами, указывает на индивидуальные особенности действующих лиц. В письме Вл. И. Немировичу-Данченко от 2 ноября 1903 года он дает 11 подробных советов, которые необходимо учесть при постановке пьесы. Из этой подготовительной работы видно, насколько четко, в деталях, писатель представлял своих героев и как важно для него сохранить особенности каждого из них. Мысли о постановке пьесы не покидают Чехова на протяжении всего подготовительного периода.
В переписке с К. Станиславским о декорациях спектакля «Вишневый сад» Чехов стремился перевести реалистическую достоверность интерьера в другой регистр, в условный, намекающий на подлинность, но сохраняющий недосказанность. Режиссер подробно описывал Чехову интерьер сцены, силуэт моста, вид на речку и усадьбу на пригорке, на авансцене – сенокос и маленькая копна, лягушачий концерт и коростель в самом конце… А Чехов деликатно уточнял и вносил коррективы в эту избыточно подробную картину: «Дорогой Константин Сергеевич, сенокос бывает обыкновенно 20–25 июня, а в это время коростель, кажется, уже не кричит, лягушки тоже уже умолкают к этому времени. Кричит только иволга. Кладбища нет, оно было очень давно. Две-три плиты, лежащие беспорядочно, – вот и все, что осталось. Мост – это очень хорошо. Если поезд можно показать без шума, без единого звука, то – валяйте. Я не против того, чтобы в III–IV акт<ах> была одна декорация; было бы только удобно в IV акте выходить и входить» (23 ноября 1903 г. П. XI, 312).
Чехов стремился не раздробить сцену на бытовые подробности, создать общий фон из ограниченного числа декораций. Он даже допускает предложение режиссера «в одну паузу пропустить поезд с дымочком». Он соглашается с тем, что «общий тон декорация – левитановский». Но, одновременно, внимательно следит за тем, как предлагают оформить сцену. Его цель – передать очарование провинциальной усадьбы в конце лета. Ощущение грусти и поэзии, разрушение привычного уклада и неустроенность судеб, мечта о лучшей жизни и неспособность к действию…
Главной проблемой стало определение жанра. К. Станиславский и многие актеры считали, что пьеса – тяжелая драма русской жизни. Чехов решительно отказывался это принять и считал пьесу веселой комедией. Потребовались горячие разъяснения автора, чтобы актеры прониклись его истолкованием пьесы и пришли к некоему компромиссу. У Чехова возникло расхождение авторского намерения и объективного результата. Талант внес коррективы в желание писателя. Драматическое потеснило комическое. И важно было соблюсти их реальную соотнесенность, не испортить тональность произведения. В итоге это было достигнуто, хотя и не все устраивало автора. В письме жене он с недоумением спрашивал: «Почему на афишах и в газетных объявлениях моя пьеса так упорно называется драмой? Немирович и Алексеев в моей пьесе видят положительно не то, что я написал, и я готов дать какое угодно слово, что оба они ни разу не прочли внимательно моей пьесы. Прости, но я уверяю тебя» (10 апреля 1904 г. П.XII, 81).
Позднее В. Немирович-Данченко признает грех театра – недопонимание тонкого письма Чехова: «театр брал его слишком грубыми руками…» (См.: П. XII, 328).
- Триумф и угасание
Премьера спектакля была назначена на 17 января 1904 года, в день рождения Чехова. Формально она была приурочена к 25-летию его литературной деятельности. Планировалось чествование писателя. Чтобы избежать отказа юбиляра участвовать в этом мероприятии, устроители скрыли его цель. Чехов приехал к концу третьего действия. Его пригласили на сцену и встретили бурными аплодисментами. Чествование прошло торжественно, сопровождалось долгими овациями. Чтение адресов, подарки, венки, гирлянды цветов. Чехов был ошеломлен и тронут знаками внимания. Он выдержал это испытание, но был измучен и сознавал, что этот триумф – его последняя радость.
Физическое состояние Чехова вызывало все большую тревогу. Нежелание его говорить о том, как он себя чувствует, уже не могло скрыть серьезности положения. Наиболее открыто об этом написал К. Станиславский в воспоминаниях: «Когда после третьего акта он, мертвенно-бледный и худой, стоя на авансцене, не мог унять кашля, пока его приветствовали с адресами и подарками, у нас болезненно сжалось сердце. Из зрительного зала ему крикнули, чтобы он сел. Но Чехов нахмурился и простоял все длинное и тягучее торжество юбилея <…> Юбилей вышел торжественным, но он оставил тяжелое впечатление. От него отдавало похоронами. Было тоскливо на душе»34.
Несмотря на болезнь, Чехова не оставляют в покое. В Москве писателя одолевают посетители; он терпеливо выносит визиты, вежливо разговаривает с теми, кого видит в первый раз и кто не очень считается с его временем и силами. Через неделю такое общение начинает тяготить, и он подумывает сменить обстановку, съездить в Петербург или вернуться в Ялту. В письме к Н.П. Богданову от 26 января 1904 г. Чехов как всегда скрывает свое состояние: «Здоровье мое недурно сравнительно с прошлогодним; меньше кашляю и чувствую себя бодрее, хочется работать, и если я не работаю, то виноваты в этом мои двери, пропускающие сквозь себя бесчисленное множество посетителей. Около 10 февраля я уеду, по всей вероятности, в милую Ялту. Собирался за границу, но не поехал и не скоро поеду, так как нет денег…» (П. XII, 24).
Чехов намеревался летом поехать с женой в Швецию, но уточнял: «По крайней мере мечтаю об этом, а для этой поездки нужно приберечь и деньги, и силы» (П. XII, 24). Конечно, странно видеть, что и в последний год жизни, находясь на вершине славы и известности, Чехов, как всегда, в стесненном материальном положении.
15 февраля писатель уехал в Ялту, где планировал пробыть до начала мая, хотя планы на будущее были обширные. В письмах жене его интересовали подробности постановки «Вишневого сада», просчеты, которые допускали режиссер и артисты. Советовал, как исправить ошибки, вел деловую переписку. Но состояние здоровья не позволяло трудиться как хотелось бы. Чехов посылал бодрые письма, напоминал о своем нраве: «Господь с тобой, не забывай о своем муже, как-никак, а он все-таки любит тебя, пожалуй, больше, чем все вместе взятые остальные» (21 февраля 1904 г. П. XII, 41). Писатель обсуждает возможность покупки дачи в Царицыно, признается в любви жене и призывает ее к верности:
- «Обнимаю тебя, роднуля, и целую, господь с тобой. Не изменяй мне, не забывай» (25 марта 1904 г. П. XII, 71).
- «Помни, помни, что я тебя люблю, не изменяй мне» (11 апреля 1904 г. П. XII, 83).
Чехов строил планы на следующий год, намеревался будущую зиму прожить в Москве, участвовать в общественных мероприятиях. В начале января 1904 года он надеялся, что через месяц поедет в Ниццу. Но состояние здоровья не позволяло уезжать далеко (См. П. XII, 257).
Еще в конце марта 1904 года Чехов не признавал себя опасно больным. Он намеревался работать еще лет пять по накопленным материалам в записной книжке. Но в середине апреля 1904 года скрыть свое положение от жены было уже невозможно: «У нас в Ялте такое расстройство кишечника, которое я ничем не могу остановить, ни лекарствами, ни диетой» (17 апреля 1904 г. П. XII, 89). Писатель вынужден признать и ухудшение общего состояния: «Какая у меня одышка!» (Там же).
Тем не менее он решает отправиться в Москву. Приезжать к нему жена не планировала: «В Ялту мне ужасно не хочется, откровенно говорю, там такая тяжкая атмосфера» (См. П. XII, 337).
А. Бесчинский в «Воспоминаниях об А.П. Чехове» писал о впечатлении, которое производил писатель в это время в Ялте: «В последний раз я видел Чехова в апреле 1904 года перед его отъездом в Москву. Вид у него был самый безотрадный. Он глухо кашлял, жаловался на общее недомогание и, как всегда, на кишечник. Он собирался в Москву, намереваясь провести лето на одной из подмосковных дач» (См.: П. XII, 344).
Жена, не зная реального положения мужа, предлагала ему приехать в Петербург, где шли гастроли МХТ, но Чехову это было уже не по силам. В начале мая по дороге в Москву писатель серьезно простудился. В конце мая он сообщает доктору Л. Средину о своем состоянии и необходимости ехать на лечение: «…я, как приехал в Москву, с той минуты залег в постель и лежу до сих пор. У меня жестокий катар кишок и плеврит. К счастью, попался хороший доктор, некий Таубе, немец, который, не мудрствуя лукаво, запретил мне кофе, яйца, посадил на диету, и желудок мой теперь почти исправился. 2 июня уезжаю за границу, по предписанию Таубе, в Шварцвальд, буду лечиться там у какого-то немца» (XII, 102)
Чехов сетует на лечащих его врачей и дает совет: «…лечитесь у немцев! В России вздор, а не медицина, одно только вздорное словотолчение, начиная с согревающих компрессов, которые вызвали во мне плеврит и которые, как оказывается теперь, вредны, заменены спиртовыми компрессами. Меня мучили 20 лет!!» (П. XII, 102).
В конце письма он с благодарностью отзывается о заботе, которую проявляет Ольга Леонардовна: «Моя жена при больном муже – это золото, никогда еще не видел таких сиделок. Значит, хорошо, что я женился, очень хорошо, иначе не знаю, что бы я теперь и делал» (Там же. XII, 102). Только на последнем этапе Чехов обрел заботу жены и был тронут.
- Надежда на чудо
Письма Чехова, отправленные в мае-июне 1904 года, свидетельствуют о его стойкости и расхождении оценок своего состояния с реальным положением дел. Содержание их сдержанно, деловито, включает обнадеживающие признания. Их цель – успокоить близких. Ольга Леонардовна была встревожена состоянием мужа. В письме дяде сообщала: «Сейчас у меня лично очень нерадостно: Ан. Павл. хворает весь май <…>. Очень мне тяжело это время, рисуются страшные картины. Ну, бог милостив, поправится Ант. Павл. за границей» (28 мая 1904 г. П. XII, 107).
31 мая Чехов пишет письмо сестре, в котором откровенно говорит о своем состоянии и отъезде в Германию на лечение: «Милая Маша, представь, сегодня я только в первый раз надевал сапоги и сюртук, все же время до этого лежал или бродил в халате и туфлях и сегодня в первый раз я выехал на улицу. Со мной что-то произошло: было расстройство желудка, а потом вдруг я перестал спать ночи от тянущих болей в ногах и руках; не спать было мучительно, казалось даже, что начинается у меня спинная сухотка. И все это благодаря омерзительной погоде, дождям и снегам. Только сегодня я уже хожу. Третьего июня уезжаем за границу» (31 мая 1904 г. П. XII, 111).
Н. Телешов с горечью вспоминал свою встречу с Чеховым перед отъездом: «Хотя я и был подготовлен к тому, что увижу, но то, что я увидел, превосходило все мои ожидания, самые мрачные. На диване, обложенный подушками, не то в пальто, не то в халате, с пледом на ногах, сидел тоненький, как будто маленький человек с узкими плечами, с узким бескровным лицом – до того был худ, изнурен и неузнаваем Антон Павлович. Никогда не поверил бы, что возможно так измениться.
А он протягивает слабую восковую руку, на которую страшно взглянуть, смотрит своими ласковыми, но уже не улыбающимися глазами и говорит:
– Завтра уезжаю. Прощайте. Еду умирать.
Он сказал другое, не это слово, более жесткое, чем “умирать”, которое не хотелось бы сейчас повторять <…>»35.
Можно только поразиться жизнелюбию писателя, его способности радоваться любым позитивным изменениям в жизни. Достаточно было появиться незначительным подвижкам в его состоянии, чтобы Чехов воспрял духом и увидел в них признаки грядущего выздоровления. Уже через три дня после отъезда он сообщает из Берлина: «<…> в настоящее время Ваш покорный слуга ест за десятерых, спит чудесно и вообще живет недурно. Здоровье с каждым днем все лучше и лучше, и сегодня ездили в Tiergarten, а это далеко <…> Желаю Вам чудесного, превосходного лета» (А.Л. Вишневскому 6/19 июня 1904 г. П. XII, 113).
Как объяснить эту реакцию Чехова? Как врач, он вряд ли мог довериться первым, еще слабым знакам улучшения. Возможно, сказалась жажда жизни и возвращения в полноценное существование? Или желание успокоить тех, кто переживал за него и ждал весточки о том, что ему стало лучше. В тот же день он пишет подробное письмо сестре, где говорит о переменах, которые происходят с ним после мучительного месяца в столице: «В Москве <…> я простудился, началась у меня ломота в ногах и руках, я не спал ночей, сильно похудел, впрыскивал морфий, принимал тысячи всяких лекарств и с благодарностью вспоминаю только об одном героине, прописанном мне когда-то Альтшуллером <…>. Здесь в Берлине заняли уютный номер в лучшей гостинице, живу я тут с большим удовольствием и давно уже не ел так хорошо, с таким аппетитом, как здесь <…> Итак, стало быть, скажи мамаше и всем, кому это интересно, что я выздоравливаю, или даже уже выздоровел, ноги уже не болят, поносов нет, начинаю полнеть и уже целый день на ногах, не лежу» (6 (19 июня) 1904 г. П. XII, 114).
Поспешность, с какой Чехов отстраняется от болезни – это реакция на пережитые муки и забота о близких. Писатель успокаивает их, обещает приехать в Ялту в августе. В Берлине Чехов обращает внимание на безвкусицу местных дам, восхищается пунктуальностью немцев, вкусностью хлеба, хвалит медиков. И одновременно сетует на одышку. Пребывание в Баденвейлере оказалось благотворным на первом этапе. Свежий воздух и солнце до 7 вечера, чистая вода и хорошо подобранный курс лечения ослабили муки, которые Чехов терпел в Москве. «Здоровье входит не золотниками, а пудами», – отмечает писатель (П.И. Куркину 12 (25) июня 1904 г. П. XII, 120).
Эту радужную информацию Чехов передает сестре и близким. Он уже подумывает о том, что можно вернуться обратно через 3-4 недели морем через Триест или какую-нибудь другую гавань, отпускает на день жену в Швейцарию, в Базель, лечить зубы. Писатель рад, что его курирует «хороший врач, умный и знающий». Это д-р Schwoеrer, женатый на московской Живаго (См.: П. XII, 121).
Как только Чехову становилось легче, он строил планы на будущее и делился в письмах: «<…> я уже выздоровел, остались только одышка и сильная, вероятно, неизлечимая лень. Очень похудел и отощал. Боли в ногах и руках прошли еще до Варшавы. Здесь я пробуду еще 3-4 недели, потом поеду в сев<ерную> Италию, потом к себе в Ялту» (Г.И. Россолимо 17 (30) июня 1904 г. П. XII, 126).
Д. Рейфилд в книге «Жизнь Антона Чехова» констатирует следующее: «В письмах в Ялту Антон продолжал успокаивать мать и сестру, а с Ольгой и доктором Таубе вступил в тайный сговор. Теперь для поддержания присутствия духа он принимал три разных наркотика: морфий снимал боли, опий успокаивал кишечные расстройства, а героин заглушал вновь возникающие обострения» (С. 772). Назначенное лечение снимало боль, вызывало надежду, возбуждало воображение. Письма Чехова в этот период становились бодрее. В них чувствовалась эйфория, не соответствующая его положению. Письма О. Книппер М. Чеховой и Вл. Немировичу-Данченко открывают отчаяние жены: писателю становилось все хуже, но он не воспринимал это как должно.
Отношение Чехова к своей болезни и раньше вызывало недоумение врачей и окружающих. С 24 лет, когда появились первые тревожные признаки, Чехов решительно отказывался признавать свою болезнь, до последнего периода не воспринимал ее всерьез. Как врач, он знал течение туберкулеза легких, возможные осложнения и их последствия. Но это не мешало ему игнорировать опасные симптомы. Г. Россолимо – невропатолог, профессор Московского университета, писал в своих воспоминаниях: «Как известно, он более 10 лет страдал туберкулезом легких, позднее поразившим и его кишечник; известно также, что туберкулезные больные крайне оптимистически относятся к своей болезни, то игнорируя симптомы ее, то стараясь объяснить явление чем-либо иным, но не туберкулезом, и нередко даже накануне смерти считают себя совершенно здоровыми. Чехов, образованный врач, крайне чуткий человек, обладавший способностью глубокого анализа и самоанализа, хотя не отрицал существования болезни, но относился к ней крайне легкомысленно, чтобы не сказать больше, и различные проявления ее старался объяснить по-своему»36.
Г. Россолимо приводит ссылки из писем Чехова к нему, подтверждающие его суждение, и обескуражено констатирует: «Еще более разительно то место его письма, – написанного мне за три дня до смерти (28/VI 1904), – где он жалуется на свои страдания, заставляющие его мечтать о морском путешествии обратно в Россию Средиземным и Черным морем… “У меня все дни была повышена температура, а сегодня все благополучно, чувствую себя здоровым, особенно когда не хожу, т.е. не чувствую одышки. Одышка тяжелая, просто хоть караул кричи, даже минутами падаю духом” <…>.
Тут и одышка, и ощущения, сопровождающие повышенную температуру, и слабость (почерк, стиль и пр.), а между тем оценка состояния неверная, раз он, расстававшийся с жизнью, в чем для окружающих не могло уже быть никакого сомнения, готовился к долгой поездке морем, чтобы вернуться в Ялту»37.
- Ужас А. Блока
Состояние Чехова остро почувствовал А. Блок. В дневнике поэта за 1915 год есть следующая запись: «Предсмертные письма Чехова – вот что внушило мне на днях действительный ночной ужас. Это больше действует, чем уход Толстого. “Ольга поехала в Базель лечить зубы”, “теперь все коренные – золотые, на всю жизнь”»38.
Что так поразило Блока? Несовместимость положения писателя и действий его жены? Чехов угасает, осталась неделя жизни, а Ольга Леонардовна находит время заняться собой, уезжает на целый день? Но на эту ситуацию можно взглянуть и в житейском ракурсе. Писатель и актриса, естественно, лечили зубы. И даже перед отъездом в Германию обращались к дантисту. Актриса должна быть в форме. Поэтому в практическом плане все естественно. И все же в этой ситуации есть нечто, что ужасало А. Блока: прагматичность актрисы, ее душевная глухота.
Блок увидел в признании Чехова главное: одиночество и предчувствие конца. А далее следует суждение поэта в этой же записи: «Сначала – восхищение от немцев, потом чувство тоски и безвкусия (до чего знакомое в немецком курорте).
И вдруг – такое же письмо, но – последнее. Непоправимость, необходимость.
Все “уходы” и героизмы только – закрывание глаз, желание “забыться” … кроме одного пути, на котором глаза открываются и который я забыл (и он меня)»39.
Что за путь? О чем говорит Блок? О невозможности преодолеть одиночество художника? Или о бесстрашии перед приближающейся смертью, которая обесценивает все и рождает отчаяние?
Ужас, который почувствовал Блок в предсмертных письмах Чехова, – это не переживания поэта, перенесенные на состояние классика. Нет, это ужас самого состояния Чехова, невольно сказавшийся в его письмах, при всей их сдержанности и закрытости. Он умирал в чужой стране, в одиночестве. Его единственная помощница – жена, торопилась исправить зубы и успела это сделать. Чехов мог порадоваться ее предусмотрительности. Но он лишь допускает в письме простую констатацию происходящего с тонким уточнением: теперь все коренные – золотые, на всю жизнь. Жизнь без него. Блок улавливает горечь этой информации и представляет себе, что мог испытывать Чехов в этой ситуации.
Через четыре года Блок окажется в положении медленного угасания. В одной из последних записей в его книжке возникнет страшное слово, вызванное Чеховым: «Когда-нибудь сойду с ума во сне. Какие ужасы снились ночью. Описать нельзя. Кричал. Такой ужас, что не страшно уже, но чувствую, что сознание сладко путается» 22 апреля <1919 г.> (Там же. С. 204). Блок передал свое состояние через слово «ужас», повторенное несколько раз. Его отчаяние дополняет, а может быть, и расшифровывает то, о чем умолчал Чехов.
- Дар
- Притяжение человечности
Пять лет общения Чехова с О.Л. Книппер, из которых три года он был ее мужем – срок небольшой. Но он значим для них, хотя и по-разному. Для актрисы – это время творческого взлета, самоутверждения, обретения нового статуса. Для писателя – завершающий период, когда были созданы знаковые произведения: «Дама с собачкой», «Архиерей», «Три сестры», «Вишневый сад». Это время взлета и угасания, надежд и разочарований. Этот период стал испытанием на преданность, на способность увидеть в другом свою судьбу и принять ее. Смогли ли писатель и актриса стать близкими людьми? И что открыл в Чехове его брак с О.Л. Книппер? И чем Чехов стал в жизни его жены? Эти вопросы будут неизбежно вставать перед новыми поколениями читателей. И ответы на них могут быть неоднозначны. Но притяжение к писателю, интерес к нему как личности неизбежны.
Чехов един в творчестве и частной жизни. В нем нет расхождения художника и человека. То, что он утверждал в произведениях, было основой его собственного поведения. Стержнем его личности, таланта и поведения является человечность. Она определяет все остальное: взгляды на мир, представление о литературе, нравственные принципы. Она наполняет его понимание людей, их неустроенности, проблем, смятение души. Она вызывает ключевые ценности писателя: труд, терпение, справедливость, честность. Человечность – внутренняя сила, которая притягивает к нему читателей независимо от расы, национальности и социального положения.
Стоицизм Чехова в критических ситуациях поражал современников. К. Станиславский как-то заметил: «Чехов – человек-кремень». При неизменной выдержке и доброжелательности писатель мог быть твердым и непреклонным в решениях. И окружающие знали это. А. Суворин писал в очерке «О Чехове» после смерти писателя: «Лечивший его врач, доктор Швȅрер, телеграфировавший нам о последних днях его жизни, говорит, что он переносил свою болезнь как герой и с изумительным хладнокровием ожидал смерти. Он страстно хотел жить, но не боялся и смерти: он жил тем русским простым, не кричащим героизмом, который хорошо понимает всякая благородная русская душа, и умереть он мог только как герой, смело смотря в глаза надвигающейся неизбежности и шепча умирающими устами: “Здравствуй, смерть!”…» (См.: П. XII, 374).
Чехов считал, что после его ухода читать его будут лет семь, максимум семь с половиной. Он скромно оценивал свое положение среди тех, кто представлял старшее поколение собратьев по перу (Ф. Достоевский, М. Салтыков-Щедрин, Л. Толстой). Они воспринимались им как недосягаемые вершины. И не замечал, как сам становился знаковой фигурой в сознании российской интеллигенции. Вл. Немирович-Данченко в письме К. Станиславскому отмечал: «Смерть Чехова обнаружила такую любовь к нему русского общества, о какой мы и не подозревали. Никогда при жизни его не ставили наряду с Пушкиным, Толстым и выше Тургенева, а теперь это почти единодушно»40.
Человечность писателя притягивала к нему молодежь и в начале XX века. Журналист В. Поссе, читавший в 1904 году публичные лекции о Толстом и Достоевском, вспоминал, как в Грозном к нему явились гимназистки старшего класса и попросили прочитать лекцию о Чехове. «Но я отказался, откровенно заявив, что Чехова я читал, но не изучал. Они очень огорчились и, уходя, добродушно сказали:
– Вы уж, пожалуйста, Чехова хорошо изучите: он нам гораздо ближе Достоевского и Толстого.
Я послушался гимназисток и, вернувшись в Петербург, стал серьезно изучать Чехова. Я понял тогда, что он не комик, а трагик обыденной жизни»41, – отмечает В. Поссе. И в качестве подтверждения своей мысли делает сравнение судеб персонажей Чехова и Шекспира: «Трагедия Мисаила в “Моей жизни”, художника в “Доме с мезонином”, доктора в “Палате № 6”, Кати и профессора в “Скучной истории”, Липы в “Овраге”, Якова в “Скрипке Ротшильда” и многих других не менее значительны и гораздо понятнее нам, чем трагедии героев Шекспира»42. А вот признание писателя XX века С. Довлатова, который свою литературную генеалогию вел от Чехова: «Можно благоговеть перед умом Толстого. Восхищаться изяществом Пушкина. Ценить нравственные поиски Достоевского. Юмор Гоголя. И так далее. Однако похожим быть хочется только на Чехова»43.
- Взгляд сверху
Смерть Чехова стала большой утратой для близких и почитателей его таланта. Возможно, только тогда Ольга Леонардовна осознала значимость потери, попыталась понять их отношения и свою роль в них. Это отразилось в ее дневнике 1904 года и в воспоминаниях, созданных в 1920–1930-х годах. Дневник в форме шести небольших писем с 19 августа по 11 сентября 1904 года – это попытка объяснить себе и окружающим то, чем было вызвано предпочтение театра мужу44. Это желание оправдаться перед Чеховым и его близкими. Но изменить свою натуру она не могла.
В центре дневника не писатель, а актриса со своим чувством некомфортности и смятения, потребностью снять конфликтные отношения с Марией Павловной и упреки общественности. Благостные воспоминания Ольги Леонардовны о том, как им было хорошо в Баденвейлере, ее умиление немецким порядком, ухоженностью деревенек и садиков на фоне «нашей бедной России» выглядят пристрастно. О. Л. Книппер знала о неоднозначности суждений Чехова о немецкой реальности, о том, как скоро писатель начинал скучать по России и думать о возвращении. Даже в своем безотрадном состоянии он испытывал скуку от механического рационального порядка. Чехов писал сестре: «Я живу среди немцев, уже привык и к комнате своей, и к режиму, но никак не могу привыкнуть к немецкой тишине и спокойствию. В доме и вне дома ни звука, только в 7 час. утра и в полдень играет в саду музыка, дорогая, но очень бездарная. Не чувствуется ни одной капли таланта ни в чём, ни одной капли вкуса, но зато порядок и честность, хоть отбавляй. Наша русская жизнь гораздо талантливее…» (М.П. Чеховой 16 июня 1904 г. П. XII, 123–124).
Сожаление о ребенке, который должен был у нее родиться, если бы не случилось роковое происшествие на сцене, подтверждает лукавство актрисы. А может быть, это и сознательное обыгрывание темы, чтобы скрыть правду о случившемся. Вряд ли молодая, амбиционная женщина жаждала родить ребенка от больного стареющего мужа. Это осложнило бы ее положение и порушило карьеру. А перспектива остаться одной с ребенком не могла не пугать. Поэтому Ольга Леонардовна предпочла поддерживать эту тему, зная, что надежда неосуществима.
Дневник заканчивается характерным признанием: «Все эти три года были сплошной борьбой для меня. Я жила с вечным упреком себе. Оттого я такая неспокойная была, нервная, нигде устроиться не могла, свить себе гнездо. Точно все против совести поступала. А впрочем, кто знает, – если бы я бросила сцену…» (Дневник. С. 402). Ольга Леонардовна не договаривает, потому что не допускает этот вариант даже в воображении. Она не представляет себя в положении реальной, а не «мифической» жены. Вариант совместной жизни без театра для нее немыслим. И это можно понять, но только не в ситуации с писателем.
Воспоминания Ольги Леонардовны о Чехове написаны в период 1921–1933 годов в зрелом возрасте после 50–60 лет45. На фоне писем из дневника они выглядят крупнее и продуманнее. Это итоговые суждения. Воспоминания призваны создать впечатление прочного союза писателя и актрисы. Они сконцентрированы на поэтических эпизодах их знакомства и театрального общения.
О. Л. Книппер делит свою жизнь в 1898–1904 годы на внешнюю и внутреннюю. Внешняя – это вехи их общения и события за 6 лет знакомства: – «все метания и мечты». Здесь Ольга Леонардовна определяет главное: «Я решила соединить мою жизнь с жизнью Антона Павловича, несмотря на его слабое здоровье и мою любовь к сцене» (Воспоминания. С. 627). Заметим, не Чехов предложил ей брачный союз, не они взаимно пришли к идее соединить свои судьбы. Нет, это решила актриса и начала действовать. «Жизнь с таким человеком мне казалась нестрашной и нетрудной; он так умел отбрасывать всю тину, все мелочи жизненные и все ненужное, что затемняет и засоряет самую сущность и прелесть жизни» (Воспоминания. С. 627).
«Жизнь внутренняя прошла до чрезвычайности полно, насыщенно, интересно и сложно, так что внешняя неустроенность и неудобства теряли свою остроту» (Там же. С. 616–617). Это честное и значимое признание: творческая и личная жизнь актрисы перекрывали ненормальность «гостевого брака» и обязанности перед мужем. Эти «неудобства» мешали ее удовлетворенности успехами. В результате их отношения складывались «из цепи мучительных разлук и радостных свиданий» (Там же. С. 617).
Ольга Леонардовна пытается объяснить, почему она не бросила театр и не находилась рядом с мужем, когда он нуждался в поддержке. Но ее объяснения сводятся к самооправданию, к перекладыванию решения на Чехова: «Я чуяла в нем человека-одиночку, который, может быть, тяготился бы ломкой жизни своей и чужой. И он так дорожил связью через меня с театром, возбудившим его живейший интерес» (Там же. С. 628). В то же время она признает, что Антон Павлович «воздерживался от окончательного решения» (Там же. С. 628). Да, писатель хотел, чтобы это решение приняла сама жена. Но этого не было. И как следствие – сдержанность и закрытость Чехова перед женой.
О трех годах пребывания в браке говорится бегло, обходятся драматические события отношений. Не сказано о травме, которую нанесла мужу «вольность» актрисы, о том, как была порушена его надежда на семью. Чем был в ее жизни Антон Павлович? Что открылось актрисе позднее в Чехове из того, что она не увидела при его жизни? И как с высоты зрелости О. Л. Книппер оценивает свое отношение к мужу? Ответов на эти вопросы в очерке нет.
Последняя страница рассказа о смерти Чехова поэтична и театральна: огромная черная бабочка, ворвавшаяся в комнату, пробка из недопитой бутылки шампанского, выскочившая со страшным шумом, восходящее солнце и пробуждение природы, видимые с балкона… Эти памятные детали перебивают главное: невосполнимость утраты и завершение ее жизни с Чеховым.
Воспоминания О. Л. Книппер хорошо продуманы и взвешены. Они соотнесены с тем образом Чехова, который начинал складываться в советский период. Воспоминания призваны создать впечатление гармоничных отношений писателя и актрисы, несмотря на «гостевой брак» и вытекающие отсюда сложности.
В 1946 году в письме племяннице Ольга Леонардовна дала итоговую оценку ее отношений с Чеховым. Годы знакомства с писателем «были мучительны, полны надрыва из-за сложившейся так жизни. И все же эти годы были полны такого интереса, такого значения, такой насыщенности, что казались красотой жизни. Ведь я не девочкой шла за него, это не был для меня мужчина, – я поражена была им как необыкновенным человеком, всей его личностью, его внутренним миром <…>» (Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Ч 2. С. 213).
«Казались красотой жизни» или реально были таковыми? И для кого: для актрисы только или и для ее мужа? Но о какой красоте жизни может идти речь, когда Чехов угасал, а она не хотела пожертвовать ничем ради поддержки и помощи ему? Или у О. Л. Книппер была своя жизнь, которая не соотносилась с жизнью Чехова? И в этой жизни ей было комфортно и интересно? И почему Чехов был для нее не мужчина, а прежде всего личность? В этом уточнении есть некая небрежность и даже двусмысленность.
Далеко не все так спокойно было на душе О.Л. Книппер. Многое мучило ее и требовало ответа. И потому она признается: «Ох, трудно писать все это…» (Там же. С. 214).
А вот другое воспоминание, приоткрывающее внутренние переживания О. Л. Книппер. М. Андреева-Ольчева – актриса Художественного театра в 1904–1908 гг., отмечает полную отдачу О. Л. Книппер данному моменту, силу и искренность ее переживания. В качестве примера приводится ситуация, когда Бунин приехал к актрисе читать свои воспоминания о Чехове: «Она сидела на своем диване. Он перед ней на стуле. Вначале Ольга Леонардовна реагировала вслух на его чтение, потом все реже, тише и, наконец, смолкла совсем. Озабоченный Бунин приподнялся, взглянул пристально на нее – она была без сознания» (См.: Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Ч. 2. С. 290).
Что могло так поразить Ольгу Леонардовну? Проницательность Бунина, понимание, что брак столь разных людей окажется для Чехова разрушительным? Его внутреннее признание, что «это самоубийство! Хуже Сахалина»? Или, может быть, сцена того, как по вечерам Ольга Леонардовна уезжала с Вл. Немировичем-Данченко на концерты и ночные мероприятия, а Чехов ждал ее до утра? Через описание Бунина актриса получала возможность увидеть себя со стороны и почувствовать неприглядность происходящего.
В воспоминаниях об эпизоде с обмороком нет пояснений, что вызвало подобную реакцию Ольги Леонардовны. Но ясно, что восприятие Буниным действий актрисы стало для нее обескураживающим открытием. Позднее Бунин изобразит напряженные отношения Чехова и жены в косвенном виде в рассказе «Алупка» (1949).
- Под покровом тайны
В признаниях и письмах после 1904 года О. Л. Книппер представляла себя любимой женщиной писателя. А была ли любовь в реальности? Или Чехов согласился на брак в силу сложившихся обстоятельств? А может быть, в нем проснулось желание иметь ребенка и создать семью? Эти вопросы стали загадкой для современников. И. Бунин, отличающийся редкой наблюдательностью, в воспоминаниях о Чехове задавался вопросом: «Была ли в его жизни хоть одна большая любовь?» И отвечал: «Думаю, что нет». А далее ссылался на суждения Чехова: «Любовь, – писал он в своей записной книжке, – это или остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь»46.
Некоторые из поклонниц Чехова считали, что писатель слишком тонко анализирует все и вся, чтобы быть ослепленным этим чувством хотя бы на время. Л. Авилова записала признание первых исследователей переписки Чехова и О. Л. Книппер (А. Р. Эйгес и А. Б. Дерман). «Вообразите, – сказал мне Эйгес, – сколько мы не роемся, но не находим женщины в жизни Ан[тона] Павл[овича]. Нет любви. Серьезной любви нет». «Он был сух, черств. Он не мог любить», – сказал Дерман»47.
Заметим, что писатель никогда и никому не признавался в любви, кроме О. Л. Книппер. И не только постоянно говорил ей об этом, но и заботой подтверждал неизменность своего чувства. Чехов шел на самопожертвование ради ее здоровья и благополучия. И это свидетельствует о серьезности его намерений при женитьбе. Но осуществились ли его надежды на ребенка и создание семьи? И как сказались на переписке крах его планов и разочарование?
Те, кто близко знали писателя и актрису, свидетельствуют об искренности его чувств. Хотя и отмечают своеобразие их отношений. Ялтинский врач И. Альтшуллер утверждает: «Я никогда не сомневался и не сомневаюсь в настоящей глубокой любви Ольги Леонардовны к Чехову, как убежден, что и Антон Павлович переживал первое в жизни серьезное чувство по-своему, по-чеховски, и здесь, как увидим, сохраняя барьер между собой и, казалось бы, самым близким человеком»48.
Эти осмотрительные уточнения («по-чеховски», «казалось бы») выражают не сомнение в чувствах писателя, а специфику их проявления. И. Альтшуллер высказывает недоумение закрытостью писателя в общении с женой: «Письма Чехова к жене стоят совершенно особняком в его богатом эпистолярном наследстве. Насколько вообще письма его исключительно интересны по содержанию, блещут умом, стилем, остроумием, настолько они бесцветны, и, за исключением всего, относящегося к театру и постановкам, серы и неинтересны <…>»49.
Врач отмечает, что письма Чехова значительно уступают в интересе письмам Ольги Леонардовны, «дающим не только богатый материал по истории Художественного театра первых лет его существования, но и касающихся часто разных сторон московской и петербургской жизни. В одном из писем ей он замечает: «”жене своей пишу только о касторке, пусть она простит своего старого мужа”. И это почти верно» (Там же. С. 695).
И. Альтшуллер задается вопросом: почему писатель в них «так скучен, так неинтересен, явно и упорно избегая касаться вопросов общих, даже литературных. Это особенно непонятно потому, что его корреспонденткой являлась женщина умная, с многообразными интересами, исключительно занимательная собеседница» (Там же. С. 695). Врач признается, что для него «так и осталось непонятным и неразрешенным, почему барьер как раз в этом случае оказался особенно высоким и непроницаемым» (Там же. С. 695).
И, действительно, почему?
Может быть, это вызвано нежеланием писателя исповедоваться после 40 лет в своих чувствах? Хотя он видел, что жена обожала его любовные признания и постоянно ждала их. Или сказалась закрытость как неотъемлемое свойство Чехова? Об этом писали те, кто близко его знал: И. Потапенко, И. Бунин, А. Куприн, И. Альтшуллер и др. Сдержанность писателя отмечали и специалисты, готовившие эти письма к изданию. Может быть, Чехов не хотел доверять жене сокровенные переживания и ограничивался внешней стороной?
А может быть, замкнутость Чехова вызвана его охлаждением после конфликтных отношений в семье? Ольга Леонардовна, приехав в Ялту, повела себя слишком решительно, как новая хозяйка. И это вызвало конфликты в семье. Писателю пришлось стать миротворцем, чтобы восстановить дружественные отношения трех женщин.
Закрытость Чехова могла быть следствием «вольности» жены, крушением надежд на полноценную семью в 1902 году. Великодушие не означало вседозволенность. Во всяком случае, И. Альтшуллер чувствовал скрытность Чехова в общении с женой. И эта тайна осталась для него неразрешенной.
Отечественные исследователи XX века предпочитали обходить драматические ситуации отношений писателя и актрисы. Или ограничивались общими суждениями. Более откровенны зарубежные биографы. Впрочем, некоторые высказывались достаточно прямо и резко. Ю. Нагибин в книге «Дневник» в суждениях о Чехове ставит под сомнение искренность его переписки и отношений с женой.: «Как неостроумен, почти пошл великий и остроумнейший русский писатель, когда в письмах называет жену “собакой”, а себя “селадоном Тото”. Его письма к Книппер невыносимо фальшивы. Он ненавидел ее за измены, прекрасно зная о ее нечистой связи с дураком Вишневским, с Немировичем-Данченко и др. (Недаром Андрей Белый вывел ее в своем романе под фамилией «Яволь», что означает немедленное согласие»50.), но продолжал играть свою светлую, благородную роль. А небось про изменившую жену, что похожа на большую холодную котлету, он о Книппер придумал?»
Возникает вопрос: что побуждало Чехова делать вид, что он ничего не знает? Сильное влечение к подруге? Желание не уронить честь своей семьи и ее родственников? Великодушие писателя? Как бы то ни было, Чехов счел более достойным не замечать того, что посягало на созданный им образ жены. Писатель должен был до конца доиграть роль преданного любящего мужа. И это подтверждает мистификацию переписки, в которой каждый помимо искренности играет свою роль.
Режиссер Р. Десницкий, поставивший в 2021 году в МХАТе спектакль «Мифический муж и его собака» по материалам переписки Чехова и О. Л. Книппер, считает, что «Вишневый сад» написан потому, что автор любил актрису. В интервью «Литературной газете» он признается: «Когда я начал писать пьесу, думал: ух, и врежу этой даме, Ольге Леонардовне, по первое число. А потом зарылся в письма своих героев, и наступил момент, когда я перестал быть хозяином того, что задумал. Сам материал уже диктовал мне, что надо сделать. И я понял: с предубеждением к Книппер относиться нельзя. Да, конечно, если бы не этот брак, Чехов еще, может быть, прожил год, полтора, два – не знаю сколько. Но именно благодаря ей мировой театр имеет «Три сестры» и «Вишневый сад»51.
Да, предубеждений не должно быть. Но и доверяться тому, как Ольга Леонардовна хитрила с мужем и создавала образ несчастной жертвы, не стоит. Все складывалось сложнее и драматичнее.
Обе пьесы Чехова С. Десницкий связывает с любовным романом писателя и актрисы: «Первая пьеса написана в момент их необыкновенной любви, она действительно была, эта любовь, а вторая была написана после того, как он увидел ее умирающей и понял, что, если не исполнит ее желание, конец может быть весьма трагичным. И тогда он взялся за “Вишневый сад”» (Там же).
Заметим, что творческий процесс не связан явно с личными отношениями. И Чехов независим от текущих обстоятельств. Так, рассказ «Архиерей» (1902) можно соотнести с состоянием больного писателя, с его горькими мыслями. Но Чехов отмечал, что эта тема вызревала в нем лет пятнадцать. То есть еще тогда, когда ему было 27 лет.
Неправомерно ставить в заслугу О. Л. Книппер создание пьес «Вишневый сад» и «Три сестры». Сюжет пьесы «Три сестры» оформился к осени 1899 года, но замысел ее возник раньше и вобрал в себя впечатления, накопленные за годы. Пьеса была привезена в Москву в октябре 1900 года. Влияние актрисы здесь минимально. Вклад О. Книппер в создание «Вишневого сада» ограничен тем, что она курировала написание пьесы, «подстегивала» автора, когда он был серьезно болен, требовала от него результата работы. К творческому процессу Чехова она не имела никакого отношения.
Другой вопрос: какой ценой досталась писателю эта пьеса? Ценой потерянных 1,5–2 лет жизни? А почему не 4–5, как предполагал Чехов? А ведь это время можно было использовать для серьезного лечения писателя. Творческий успех драматурга был достигнут благодаря самопожертвованию и беспощадной позиции театральных деятелей. В том числе и жены.
Трагикомичность отношений писателя и актрисы была гранью их романа. Чехов знал о лукавстве жены, но изменить ситуацию не мог. Он видел в ее вольностях и свою вину. И потому принимал все, как неизбежность, не стал ломать то, что связывало их. Но переписка перешла в театральную игру, в которой смешались любовь и охлаждение, искренность и ложь, радость и боль. Она создавала впечатление взаимной привязанности, гармонии отношений. В реальности писатель был брошен и одинок. Он угасал, и оба понимали, чем это может закончиться.
Между Чеховым и О.Л. Книппер пролегала дистанция, которую невозможно было преодолеть ни любовью, ни великодушием. Она вызывалась не только разной социальной средой, из которой они вышли, и сложившимися предпочтениями, не только их национальными корнями, но и тем, что Чехов был наделен даром чувствовать и понимать любого человека. Актрисе по молодости это было недоступно. О. Л. Книппер во многом не знала сущность Чехова-писателя и человека. Для нее он был вначале современным драматургом и перспективным женихом. Но душевную суть Чехова она не чувствовала.
Это ее тревожило, вызывало вопросы. Однако актриса не делала усилий, чтобы стать ближе и роднее писателю. И Чехов принимал это как данность и не стал обременять своими тревогами и раздумьями. «Жена есть жена». Он говорил с ней на том языке, который ей был близок и интересен. А себя ограничил той ролью, которая была ей доступна. Отсюда – существенная разница его переписки с женой и с деятелями культуры, с близкими.
В природе Чехова совместились два устремления. Одно – трезвость взгляда на окружающее, воспитанная средой, борьбой за выживание и опытом врача. Отсюда его бесстрашный реализм, сдержанность по отношению к изображаемому. Отсюда бесстрастность аналитика и суждений о всех гранях реальности. Чехов был трезв и в своей личной жизни, не строил иллюзий об отношениях мужчины и женщины. Все это сказалось на разумности его общественной и благотворительной деятельности, твердости воли и принципов.
Другое – потребность в красоте, культуре, свободе от материальной зависимости, желание испытать высшее проявление человеческой души. Стремление к духовной свободе проявилось в его интересе к неизведанному, в жажде любви, в милосердии к человеку. Совмещение трезвости и мечты, обыденности и воображения сказалось на атмосфере сокровенных рассказов Чехова («О любви», «Дом с мезонином», «Дама с собачкой»), драматургии. Оно проявилось и в отношениях с О. Л. Книппер. Чехов перенес на нее нереализованную потребность в любви. Он хотел обрести семью. И это могло получиться. Но болезнь писателя и привязанность актрисы к театру порушили замысел.
В последний период творчества Чехов обратился к драматическим коллизиям любви. Писатель изобразил две ситуации. Одна – неразделенное влечение, вызывающее страдание персонажей и неустроенность их судеб («Чайка», «Три сестры»). Другая – взаимная любовь, скованная обстоятельствами и обреченная на крах («О любви», «Дама с собачкой»).
Любовь ставит под удар устроенную жизнь и благополучие персонажей. Они оказываются перед трудным выбором. Либо отдаться чувству и пожертвовать сложившимся укладом. Либо сохранить все в неизменности, но поступиться возникшим чувством. Попытка удержать ситуацию в неразрешенности лишь осложняет положение. Возникают нервные срывы, состояние неудовлетворенности. Нереализованная любовь оборачивается внутренней болью. Чехов закрывает занавес событий перед началом их краха. Он оставляет в памяти читателя поэтический образ любви, не сниженный разрушительными последствиями.
В пьесах и рассказах Чехов подводил итог своему жизненному опыту, наблюдениям над тем, что такое любовь и как она меняет судьбу человека. Обобщения писателя трезвы и далеки от романтической идеализации. Во всех случаях любовь предстает как испытание, которое тяжело и притягательно для героев. Она порождает надежду на нечто новое, необыкновенное.
На этом фоне увлечение Чехова О. Л. Книппер было попыткой проверить свои представления. А может быть, и испытать радость единства, которую до сих пор не удалось обрести. Особенно значителен рассказ «Дама с собачкой». В нем сказались и настроения Чехова, вызванные приездом в Ялту О. Л. Книппер летом 1899 года. «Яркие, незабываемые впечатления от встреч, от поездок на Ай-Петри, в Бахчисарай и, возможно, в Ореанду, – отклик всего этого не трудно уловить в “Даме с собачкой”. Но есть тут след и других переживаний – чувства одиночества, горьких размышлений, о том, что им с Ольгой Леонардовной, как бы ни сложились дальше их отношения, суждено жить врозь»52, – отмечает Г. Бердников.
В «Даме с собачкой» любовь становится открытием и возмездием зрелому мужчине за его легкомыслие. Гуров с запозданием осознает то, чего он оказался лишен в жизни. И сейчас за его прозрением последует драма: «Голова его уже начинала седеть. И ему показалось странным, что он так постарел за последние годы, так подурнел. Плечи, на которых лежали его руки, были теплы и вздрагивали. Он почувствовал сострадание к этой жизни, еще такой теплой и красивой, но, вероятно, уже близкой к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, как его жизнь. За что она его любит так? Он всегда казался женщинам не тем, кем был, и любили они в нем не его самого, а человека, которого создавало их воображение и которого они в своей жизни жадно искали; и потом, когда замечали свою ошибку, то все-таки любили. И ни одна из них не была с ним счастлива. Время шло, он знакомился, сходился, расставался, но ни разу не любил; было все, что угодно, но только не любовь.
И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил как следует, по-настоящему – первый раз в жизни» (ПССП. Соч.X, 143).
Возможно, писатель вложил в своего персонажа прозрения, которые открылись автору на последнем этапе жизни. В письме жене Чехов сетовал, что они поздно встретились, надо было бы раньше. Значит, его отношение к О. Л. Книппер стало тоже запоздалым открытием и сожалением за все, что не состоялось.
Через этот рассказ Чехов заранее принимал все, что могла принести ему нежданная встреча, и воспринимал ее как судьбу.
- В поисках ответа
Переписка А. П. Чехова и О. Л. Книппер – это центральное звено их общения, единственно доступный нам источник диалога. По сути она является исповедью души писателя и актрисы и одновременно мистификацией. Соотношение этих основ претерпевает эволюцию, переход в семейный театр с ролевой игрой.
Вступив в брак, Чехов надеялся создать из актрисы преданную жену, обрести семейную жизнь. Но «гостевой брак» вскоре исчерпал себя; участники его оказались заложниками эксперимента.
Отношения Чехова и Ольги Леонардовны содержали в себе притяжение и отталкивание, гармонию и разлад, любовь и ненависть, милосердие и ожесточение – все, что сопутствует творческим натурам с разными характерами, культурной почвой и сложившимися привычками. Чехов представал в их союзе опытным наставником, зрелым мужчиной, готовым опекать любимую женщину. О. Л. Книппер – эмоциональной женой, мучающейся от разлуки с мужем. Чехов оказался в положении «мифического мужа», зависимого от своей болезни и раздельного существования. Оба они переживали ненормальность их положения, но актриса так и не решилась стать настоящей женой Чехова. В результате «гостевой брак» обернулся драмой надежд и разочарований.
Драма их положения в том, что писатель и актриса пожертвовали личной жизнью ради творчества. Ольга Леонардовна предпочла театр мужу. А Чехов поступился семейным укладом ради карьеры жены. В результате надежда писателя на рождение ребенка была порушена. Семья не состоялась. Отчасти компенсацией их раздельного существования стала почти ежедневная переписка и создание драматургом пьесы «Вишневый сад» (1903).
Письменное общение изначально содержало в себе искренность и искусство. Но после драматичных событий 1902 года театральность диалога усилилась. Мистификация видится в том, что писатель и актриса скрывали сложности их отношений. Оба до последнего представляли свой союз как бесконфликтный и гармоничный. В то же время Чехов страдал от одиночества, терпел физические и моральные муки, сознавал, что болезнь разрушает его здоровье и отношения с женой.
Оба знали, что после перенесенной в 1902 году операции у актрисы не будет детей, но продолжали обыгрывать эту тему до последних дней жизни писателя. В своих письмах-воспоминаниях О. Л. Книппер создавала видимость надежд на ребенка в 1903–1904 годах.
Мистификация состоит в расхождении образа жены, который Ольга Леонардовна создавала в письмах, и тем, какой она была в реальности. В письмах она представала слабой, впечатлительной женщиной, любящей мужа и мечтающей о встрече с ним. Она жаждала его признаний и заверений о том, что ни в чем не виновата перед ним. В реальности была твердой, прагматичной, упорной в достижении поставленной цели. Актриса переступала через то, что мешало ее самоутверждению и привычному укладу жизни. Ее сетования и покаянные признания мужу были внешними атрибутами, за которыми таился эгоизм и душевная черствость. Чехов знал и прощал ее вольности. Он чувствовал вину больного стареющего мужа перед молодой женой. Писатель жалел ее за неустроенность и одиночество. И потому не считал вправе посягать на свободу ее личной жизни.
Мистификация заключается в том, что переписка Чехова с женой превращалась в театр, в котором одна часть общения осталась искренней (профессиональные, бытовые вопросы), а другая становилась ритуалом, демонстрацией любовной привязанности. И чем сильнее развивалась болезнь писателя, чем острее представало его одиночество, тем явнее проступала искусственность этих признаний.
Чехов нуждался в реальной поддержке. Писатель по сути был брошен и становился обузой для жены. Ему оставалось только избавить близких от забот о себе. А жене – проводить его в последний путь.
Мистификация состоит в том, что на протяжении трех лет Чехов создавал образ жены, ваял его из притягательной для него женщины. Писатель терпеливо и умно формировал из актрисы близкого ему человека и верную подругу. Одновременно он создавал из себя образ мужа с учетом тех представлений, которые исходили от Ольги Леонардовны. Это образ любящего друга, великодушного наставника ее творческого и жизненного поведения. Молодая женщина хотела видеть в нем своего учителя, с которым она могла быть естественна и откровенна.
Писатель до последних дней жизни выдержал этот образ. Его одиночество оставалось с ним в душе, но горечь осознания этого не проявлялась ни в обиде, ни в упреках, ни в личных признаниях.
Т. Л. Щепкина-Куперник в воспоминаниях о Чехове и О. Л. Книппер отмечает: «Переписка их открывает трагические страницы их жизни. Под шутливой формой писем, обычной для него и невольно передающейся ей, кроется очень много сдержанной боли у него, очень много тоски – у нее»53.
Мистификация в том, что Чехов утаивал от близких реальное положение со своим здоровьем. Он создавал видимость благополучия, в то время как ситуация усугублялась и становилась угрожающей. Писатель успокаивал мать и сестру, убеждал в том, что с ним все нормально. И одновременно сознавал, что жизнь его идет к завершению.
* * *
Положение Чехова последнего периода вызывает чувство горечи. Он так много дал людям своим творчеством, так самоотверженно стремился помочь их существованию (поездка на Сахалин и создание книги о положении каторжан, строительство трех образцовых школ, помощь голодающим крестьянам, забота о больных учителях). Любая его деятельность (общественная и личная) была результативна и благотворна. Казалось бы, судьба должна была пощадить писателя. Но это не произошло. И даже умирать пришлось на чужбине.
Могла ли участь писателя сложиться иначе? Что изменилось бы, если бы О. Л. Книппер посвятила жизнь в браке мужу, а не карьере? Возможно, ее забота смогла бы задержать развитие болезни, создать Чехову то, что так и не довелось испытать. Увы, история не знает сослагательного наклонения; она оставляет только право на домысливание.
Сможем ли мы определить, где кончается исповедь души и начинается мистификация, где пролегает граница между реальностью и искусством? И где кончается Чехов-художник и начинается Чехов-человек? Сознавал ли сам писатель эти переходы? Или они были гранями его жизненного и художественного мышления, его движения из одной сферы в другую?
Душа писателя, как и его сознание, полна тайн. В театре отношений с актрисой скрыты загадки, которые малодоступны не только окружающим, но и самим участникам. Потому мы вправе строить только версии и обосновывать их имеющимся материалом. З. Паперный заканчивает свою книгу о любви у Чехова следующим итогом: «…мы должны признать: чеховские тайны, секреты, недомолвки во многом остались неразгаданными. Чехова можно и нужно изучать. Но его нельзя изучить. Все равно останется нечто неведомое, “под покровом тайны, как под покровом ночи” («Дама с собачкой», 10, 141) <…> И чем больше Чехов недоговаривает, тем больше он говорит сердцу читателя <…>. В нераскрытости Чехова – секрет обаяния»54. Действительно, недоговоренность Чехова – это указание на многоликость жизни, на зыбкие грани, которые незримо присутствуют в любых отношениях и не охватываются сознанием и чувством. И чтобы не ошибиться в оценках, их нужно учитывать и понимать.
Чехов был закрыт до конца. И нам не дано знать, что он мог чувствовать в последние дни. Трагизм реальности, неотвратимость и надежду, потребность в сочувствии и невозможность преодолеть одиночество? Это могло быть слишком тяжело, чтобы сказать об этом вслух. Оставалось – ограничиться намеком. И А. Блок это почувствовал.
Поведение Чехова в жизненных испытаниях вызывает глубокое уважение. Великодушие писателя к близким и жене, готовность поступиться здоровьем ради театра и общего дела, миротворчество в отношениях, наконец, твердость в соблюдении справедливости – это то, что еще предстоит постичь нам.
Судьба была благосклонна к О. Л. Книппер. Она прожила долгую насыщенную жизнь, прошла через крупнейшие исторические испытания первой половины XX века. И до конца была преданна театру. Актриса сыграла более сорока ролей, из которых наиболее значимыми для нее были роли в пьесах Чехова. 90-летие О. Л. Книппер и 60-летие творческой деятельности было торжественно отмечено в театре в 1958 году в ее присутствии.
Тайна отношений писателя и актрисы, их письменного общения, драматизм ситуации последних двух лет будут всегда интересовать тех, кому дорог Чехов. И на этом пути, возможно, их ждут открытия и основания для новых размышлений.
Примечания
29 Цит. по: Гитович Н.И. Летопись жизни и творчества А.П. Чехова. М., 1955. С. 557–558.
30 Щепкина-Куперник Т.Л. О Чехове//А.П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 256–258.
31 Бунин И.А. Чехов//А.П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 504.
32 Авилова Л.А. Рассказы. Воспоминания. М., 1984. С. 187.
33 Альтшуллер. Еще о Чехове // Л.Н. Т.68. М., 1960. С. 699.
34 Станиславский К.С. А.П. Чехов в Художественном театре (Воспоминания) // А.П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 412.
35 Телешов Н.Д. А.П. Чехов// Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 478–479.
36 Россолимо Г.И. Воспоминания о Чехове // А.П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 436.
37 Там же. С. 437.
38 Записные книжки Ал. Блока. Ленинград, 1930. С. 178.
39 Там же. С. 179.
40 Немирович-Данченко Вл. Театральное наследие. В 2-х томах. Т. 2. Избранные письма. М., 1954. С. 377.
41 Поссе В.А. <Воспоминания о Чехове> //А.П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 463.
42 Там же С. 463.
43 Довлатов С. Уроки чтения. Санкт-Петербург, 2012. С. 76.
44 См.: Дневник О.Л. Книппер в форме писем А.П. Чехову // Вокруг Чехова. М., 1990. С. 397–402. Далее ссылки на него даны в тексте с указанием источника (Дневник) и страницы.
45 См.: О.Л. Книппер-Чехова. О А.П. Чехове // А.П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 612–632. Далее ссылки на это издание даны в тексте с указанием источника (Воспоминания) и страницы.
46 Бунин И.А. Чехов // А.П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 497.
47 Авилова Л.А. Рассказы. Воспоминания. М., 1984. С. 316.
48 Альтшуллер И.Н. Еще о Чехове // Л.Н. Т.68. М., 1960. С.693–694.
49 Там же. С. 695.
50 Нагибин Ю.М. Дневник. М., 2005. С. 289.
51 «Чехов был еще тот донжуан». Интервью с С.Десницким//Литературная газета, № 12, 2021. С. 22.
52 Бердников Г. «Дама с собачкой» А.П. Чехова. Л., 1976. С. 36.
53 См: Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Ч. 2. М., 1972. С. 285.
54 Паперный Зиновий. Тайна сия… Любовь у Чехова. М., 2002. С. 316–317.
