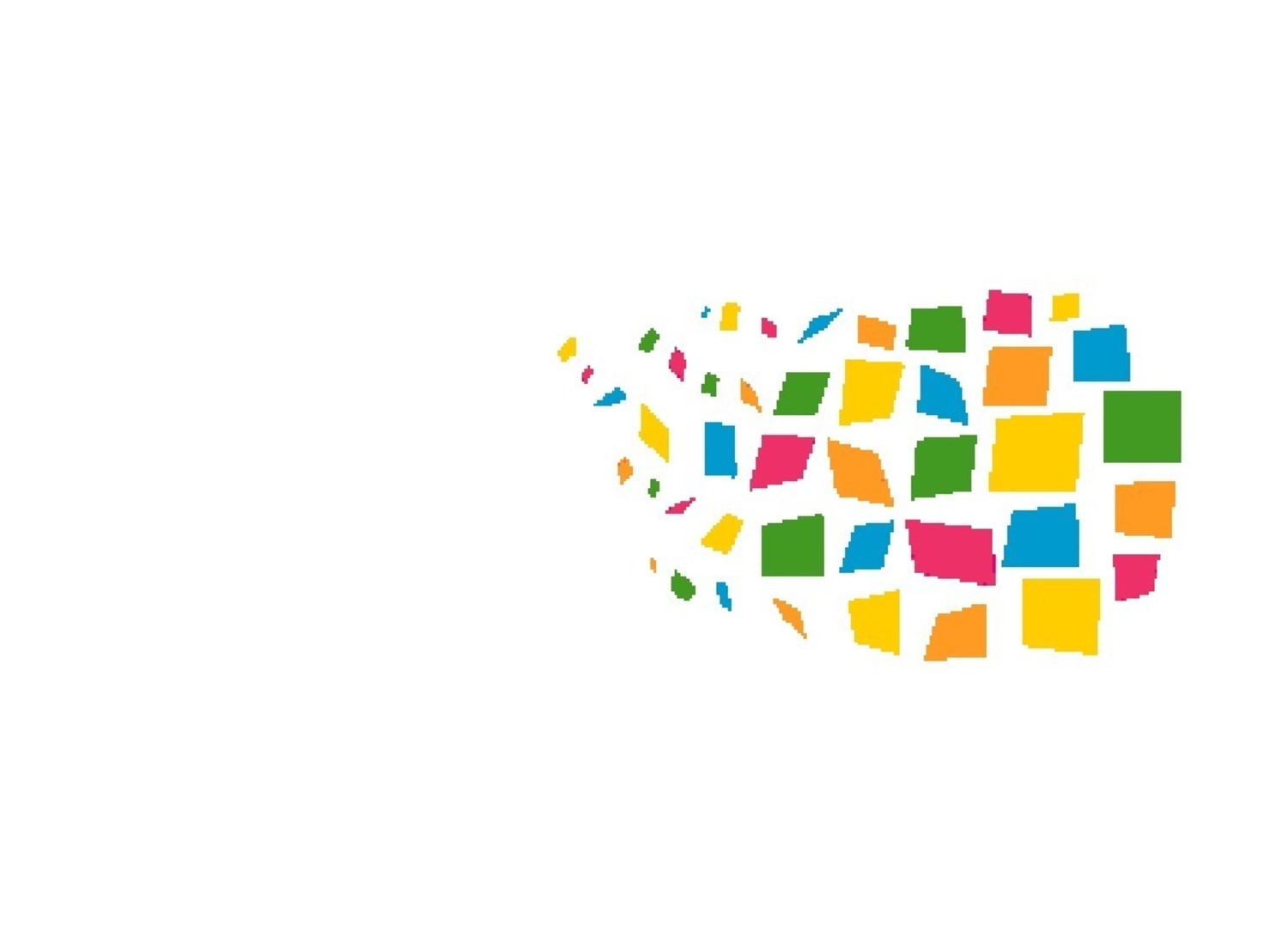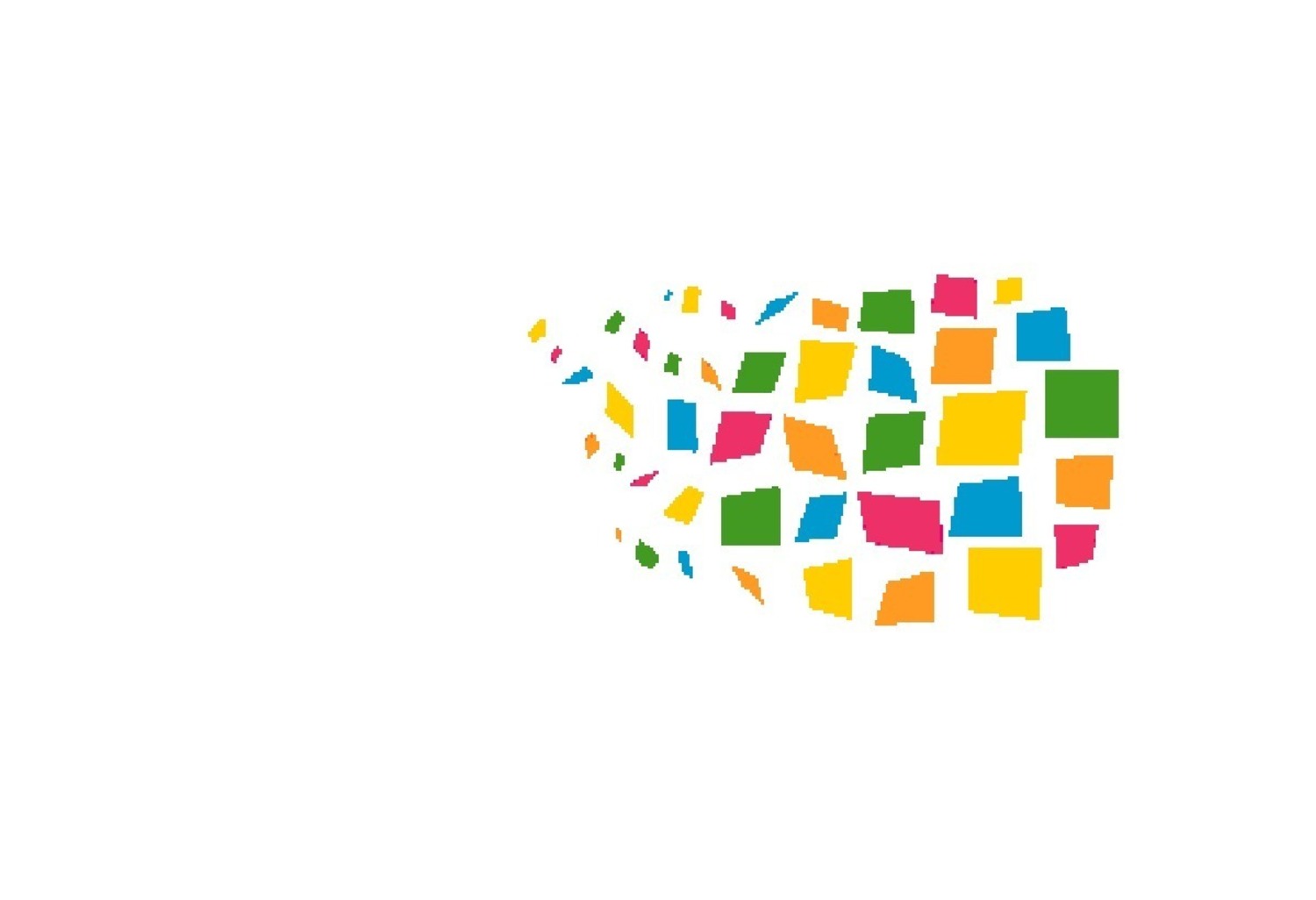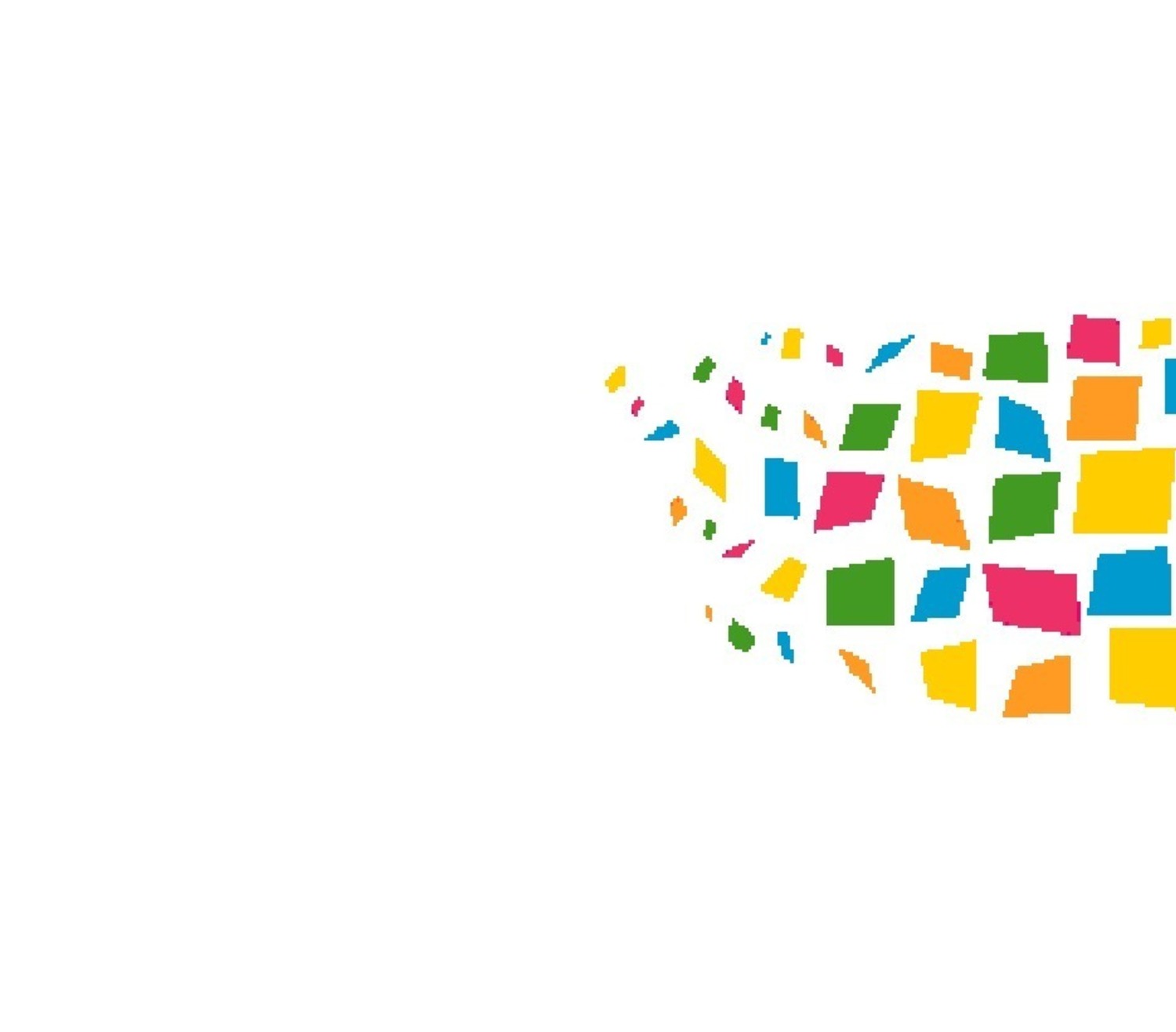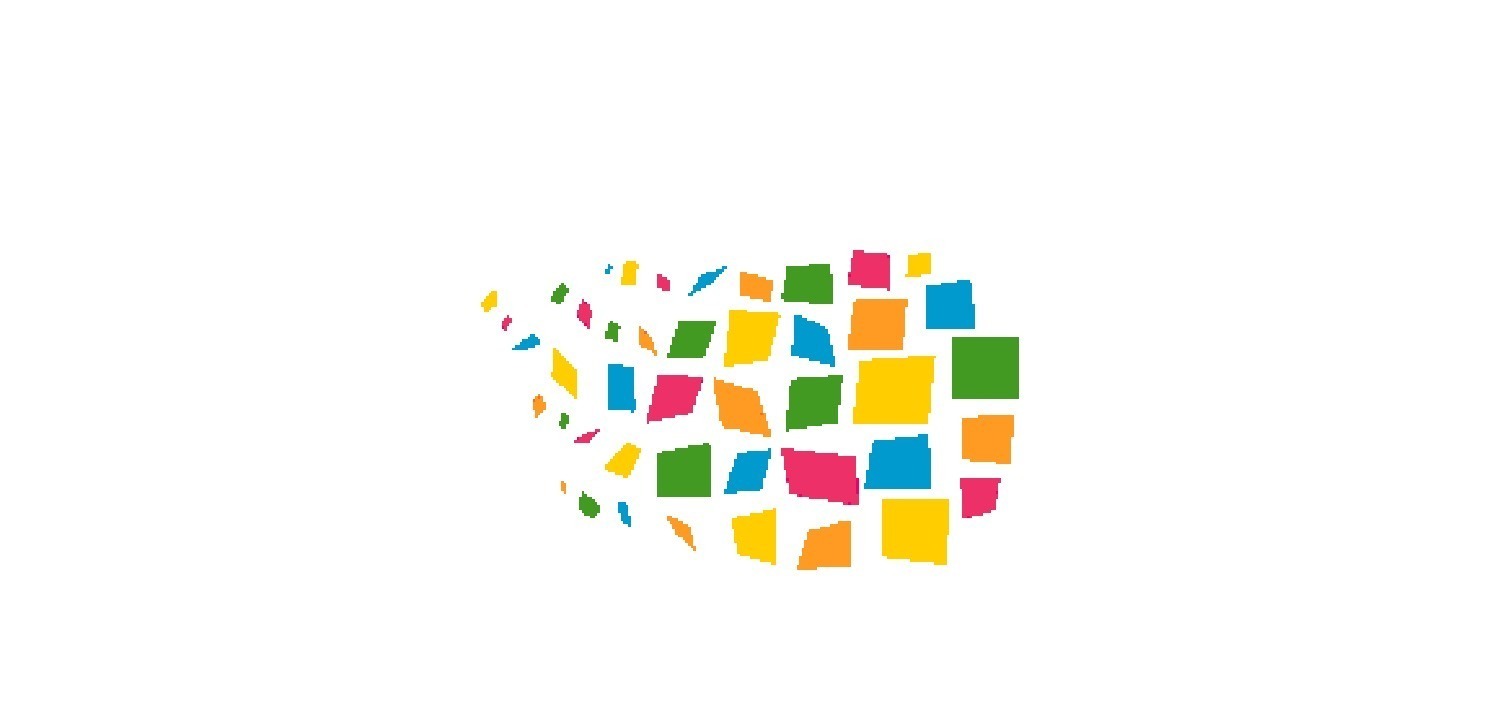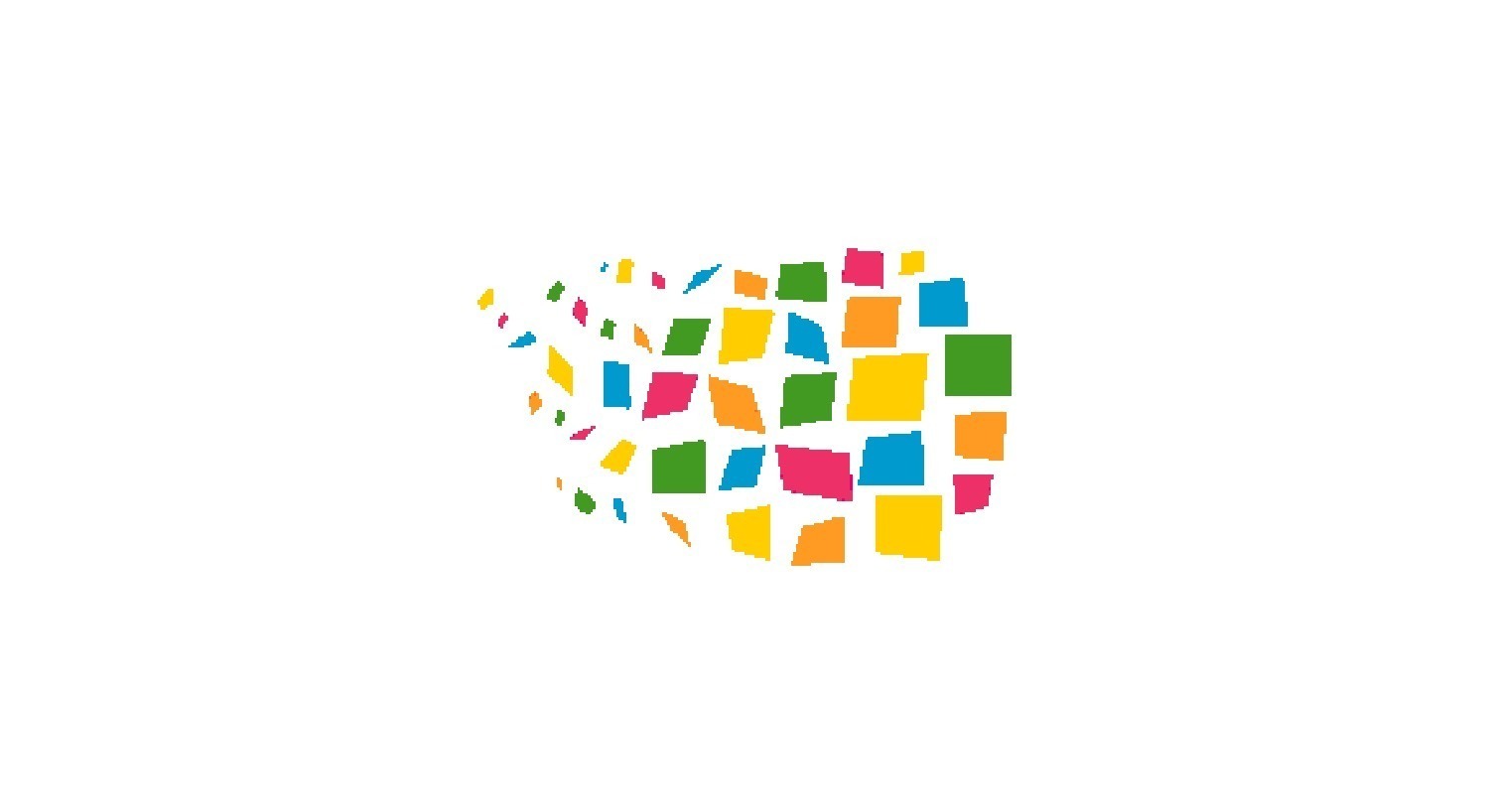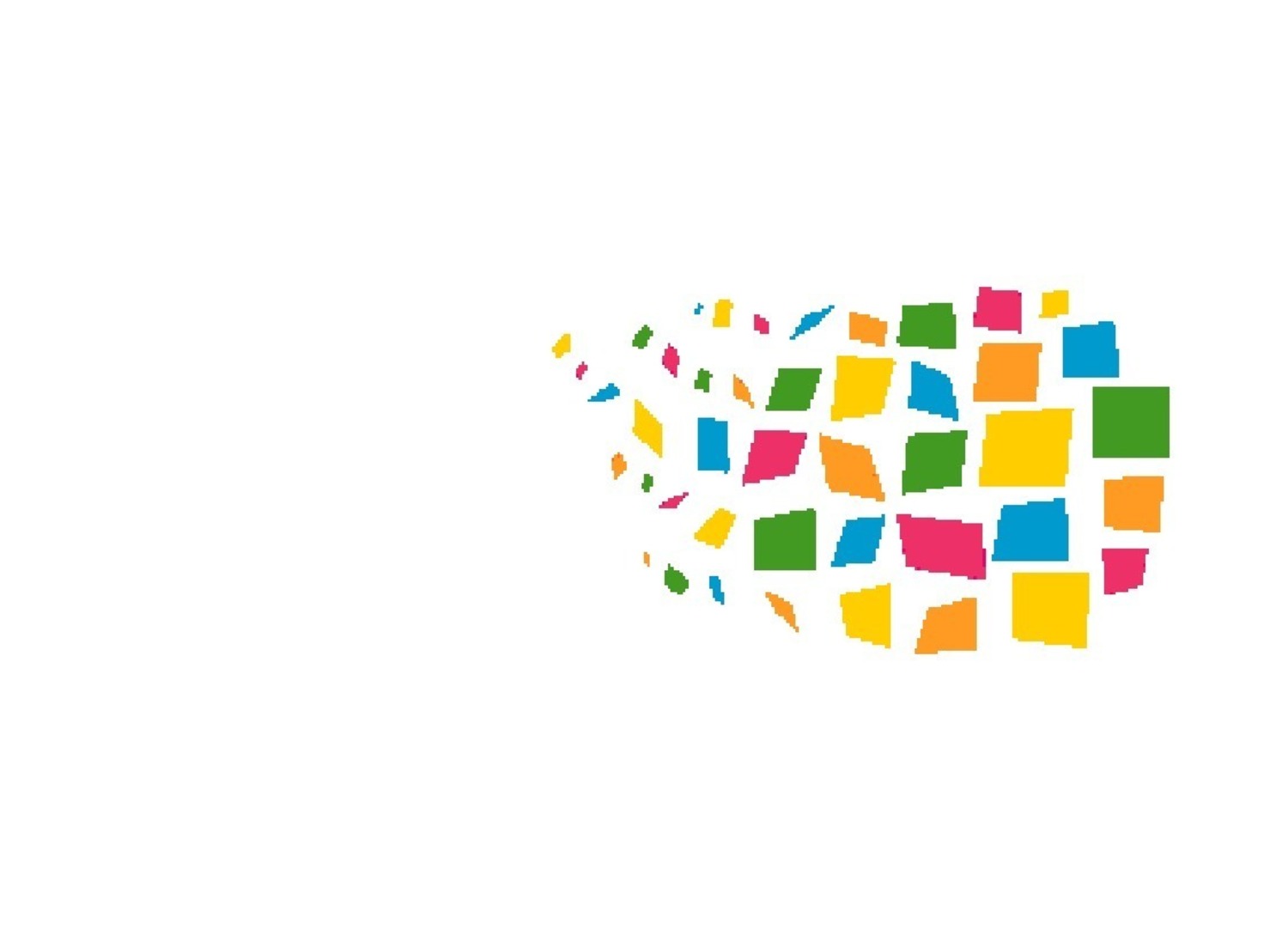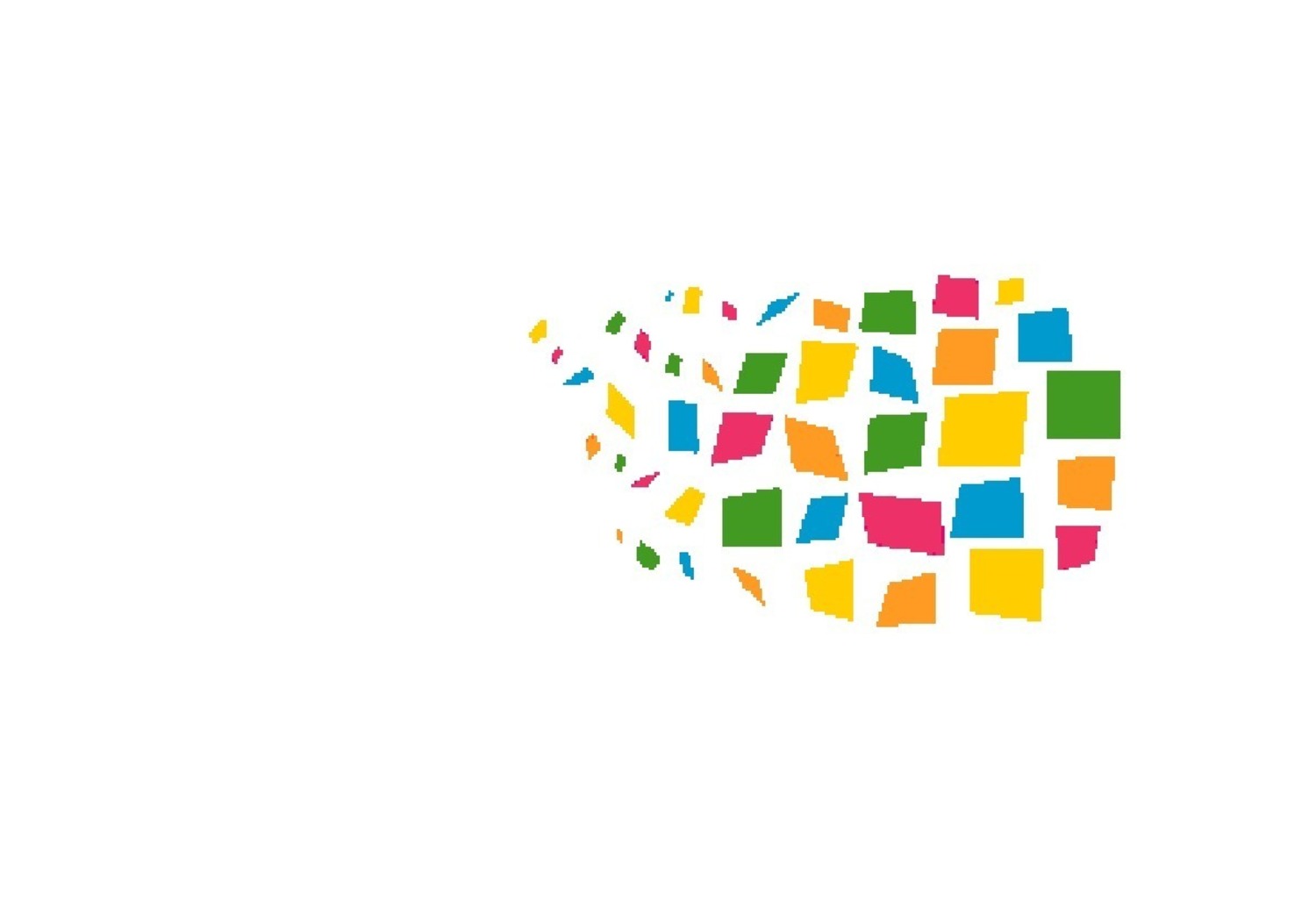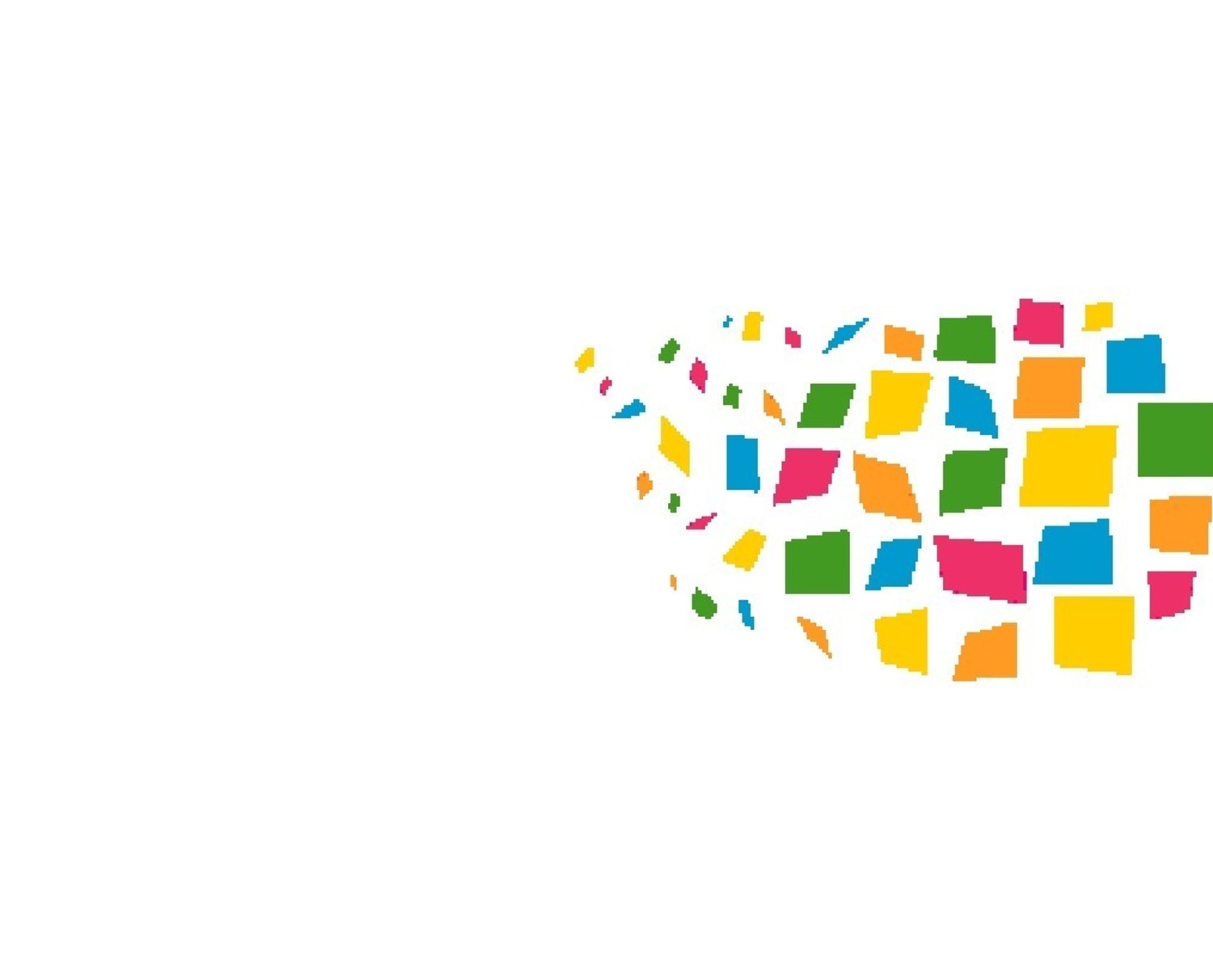№7.2022. Борис Романов. Ода Сергею Краснову
Есть у Сергея Борисовича Краснова картина «Ода взлетевшему острову»: кусок обрывистого берега, поросшего соснами, с охвостьями корней взлетает над опрокинутой землей в синих квадратах, может быть уже обезлюдевшей, над облаками. Можно и так и этак истолковывать эту живописную метафору, написанную с расчетливым мастерством художника, привыкшего грезить и размышлять с кистью в руке.
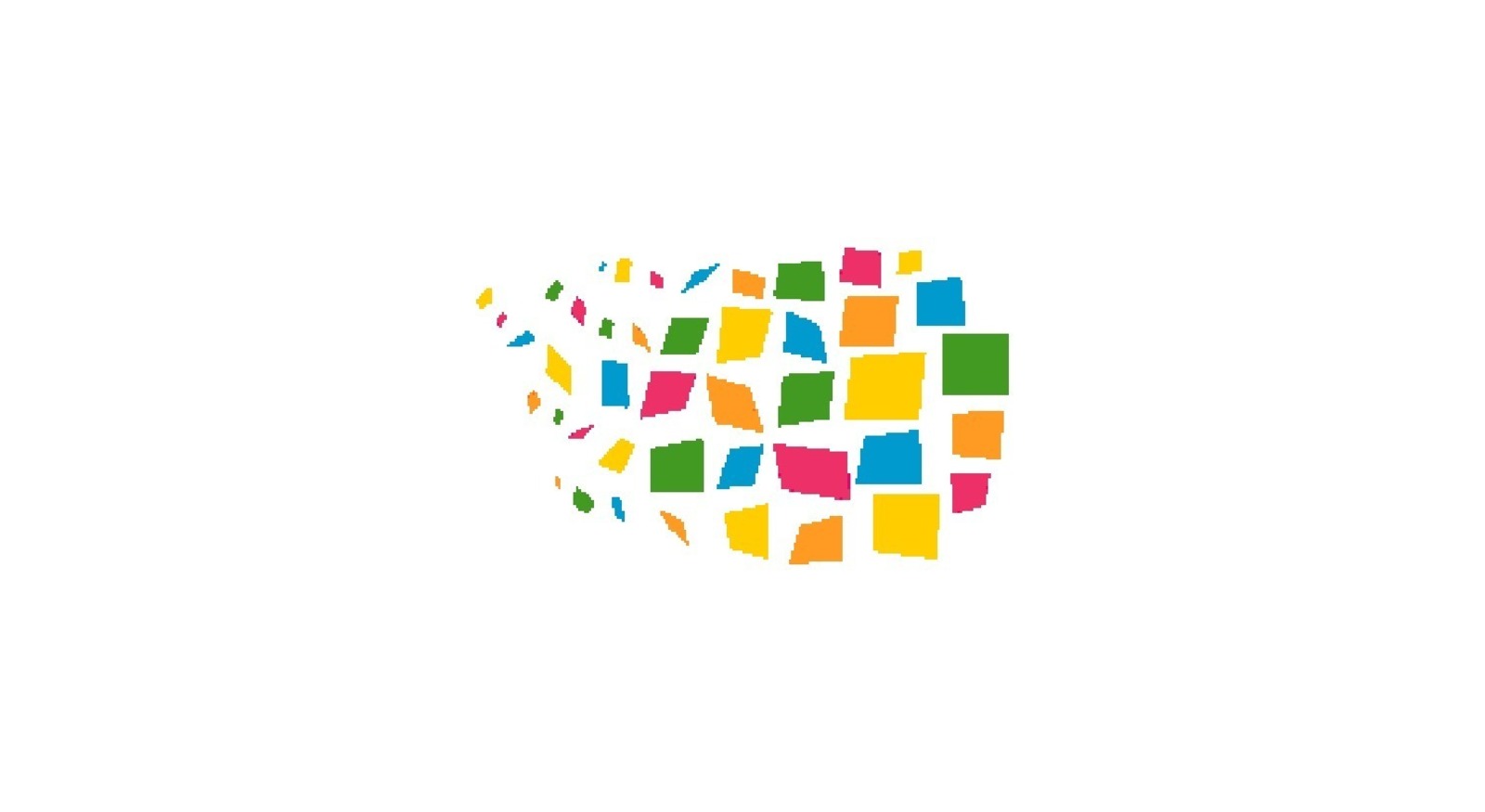
Борис РОМАНОВ
Ода Сергею Краснову
Есть у Сергея Борисовича Краснова картина «Ода взлетевшему острову»: кусок обрывистого берега, поросшего соснами, с охвостьями корней взлетает над опрокинутой землей в синих квадратах, может быть уже обезлюдевшей, над облаками. Можно и так и этак истолковывать эту живописную метафору, написанную с расчетливым мастерством художника, привыкшего грезить и размышлять с кистью в руке. Можно искать и находить традиции и школы, откликнувшиеся в полотнах Краснова, – этим занимаются искусствоведы. У них свой резон. Но я-то помню тот год, кажется 1963-й, его зимнее начало, когда руководитель изостудии уфимского Дворца пионеров Владимир Степанович Сарапулов, привычно потирая мягкой ладонью крупную бритую голову, гордо показывал выставку своего ученика.
Выставка открылась в мерцавшем зеркалами и тремя огромными, начинающимися чуть не от пола и вверху закругленными окнами в самом большом во Дворце танцевальном зале. На три стены развернулись размашисто и уверенно написанные гуашью и составленные из ватманских листов панорамы грандиозного будущего, воцарившегося на земле, в глубине океана и в космосе.
Только недавно в космос слетали Гагарин и Титов, и одновременно с ними в свой ультрамариновый и голубой космос отправился Сергей Краснов. Худой, с темным подростковым чубом, с конопушками у чуть вздернутого носа, с открытым сосредоточенным взглядом карих в крапинку глаз и неожиданным взрывчатым хохотом. Фантазер, изобретатель, мечтатель. Уже в том космосе, кроме неизбежно книжного и ученического, явилось то красновское, что потом разворачивалось в его узнаваемой живописной стилистике, в композиционной изощренности.
Скоро мы подружились. Нас было трое. Я был старшим, но верховодил младший – Евгений Куликов. Даровитый, нервный. Самый начитанный из нас. Самый целеустремленный. Чаще, чем в студии у Степаныча, мы встречались на антресолях над зеркальным залом, где помещалась мастерская художника-оформителя Ирека Богданова. Со столами с банками и склянками, с мятыми тюбиками красок, с кистями, с растянутым кумачом свеженачертанного лозунга перед красным праздником, с мольбертом, холстами, картонами и бумагами, с тем живописным и пыльным хламом, который накапливается в любой художественной мастерской. Ирек был старше нас, учился в Училище искусств и добродушно нам, школьникам, покровительствовал. Мы посиживали на промятом заерзанном диване, иногда рисовали, без конца говорили. Ирек тоже вступал в разговор и горячно, и чем горячнее, тем больше заикаясь, пытался образумить запальчивых мальчишек. Краснов не был самым красноречивым. Он чаще помалкивал.
В дни танцевальных занятий снизу взлетала музыка и руководящий голос танцмейстера Игоря Моисеевича. Тогда мы затихали. Танцоры нас не видели, а мы разглядывали сверху пары, двигавшиеся по паркету в отблесках дня и серебристых отсветах зеркал.
Встречались мы втроем и дома у Жени Куликова, в его комнате, с окном, глядевшим во двор, с раскрытым секретером в книгах и тетрадях, у которого тот сутулился вечерами, конспектируя монументальные темно-зеленые волюмы «Всемирной истории». Меня интриговали и эти тома, и голубоватые с березками томики Есенина, никогда раньше не виданные: у Жени я впервые и читал его.
Иногда Женя и Сергей, примостившись у того же секретера, с карандашами в руках придумывали и обсуждали сюжеты, набрасывая то горы с замками, то рыцарей со шпагами, то пейзажи выдуманной планеты с фигурками в скафандрах… Я смотрел, восхищался. Мои друзья были уже ловкими рисовальщиками, а я только начинал, и казалось, никогда не смогу так уверенно вести линию, так эффектно владеть штрихом.
Куликов жил в пятиэтажном доме, стоявшем почти на углу Ленина и Революционной, совсем близко от Дворца. Улица Революционная, тогда по большей части деревянная, одноэтажная, вздрагивала от частого трамвайного звона, запамятовав, что звалась Богородской, напрочь забыв и колокольный звон кладбищенской церкви, стоявшей где-то там, где белел шестиколонный портик нашего Дворца. А мы об этом совсем ничего и не знали. Даже когда на задах Дворца экскаватор стал выкапывать человеческие кости и черепа…
Скоро напротив Жениного дома начнут строить сразу три девятиэтажки. Не один раз осенними и зимними метельными вечерами мы шатались по Революционной, сворачивали на улицу Цюрупы, где на тротуары и синие сугробы падал желто-оранжевый свет занавешенных окошек горбатых домишек и тянулись ультрамариновые подзаборные тени. Смеялись и говорили о чем угодно так, как смеются и говорят в юности.
А летом дружеской троицей ездили на этюды за Белую, шли по левому лесистому и безлюдному берегу, глядя на правый, крутой, еще не придавленный бетонными коробами, на огибающие его взгорья составы из цистерн, казавшиеся громадными гусеницами, на кустящиеся каменистые уступы и белесые проплешины Воронок. Каждый рисовал что хочется, и, пожалуй, самыми яркими казались Женины этюды темперой, тогда его увлекавшей. Выбирались мы за Белую и в сентябре, и даже позже, когда рыжие стожки перед затонским леском припорашивал первый снег, а стылая вода казалась черной.
Возвращаясь, мы шли по круто загибавшейся вверх улице, за день оголодавшие, наскребя медяков, покупали буханку хлеба и килек в рыхлом бумажном кульке и с наслаждением поглощали, не оглядываясь на гаснущий бельский простор. Юность не умеет оглядываться.
Ходили на этюды мы и вдвоем с Красновым. Помню апрель, уже ростепельный конец его. Я приехал к Краснову, жившему с сестрой и родителями в одном из двухэтажных желтых домиков на улице Заводской. Воспоминание об этих домиках можно увидеть на нескольких давних красновских полотнах. Помню, что отец его, как и мой, работал на заводе. Сергей повел меня куда-то неподалеку, в перелесок, где мы акварелью писали осины, стоявшие по колено в такой же, как их стволы, зеленоватой талой воде, дробящиеся отражения дышали холодящей свежестью и рваной голубизной. Недавно я нашел свой акварельный набросок, сделанный зазябшей не очень умелой рукой, под ним дата – 26 апреля 1964-го. И увидев красновское «Предчувствие весны», вспоминал этот день, те окраинные еще тишайшие места.
В студии у Степаныча тогдашним летом вдруг узналось, что открылся худграф педучилища, куда легко поступить. Недолго раздумывая, мы вдвоем с Сережей побежали, написали по экзаменационному натюрморту и были приняты. В группе оказалось много учеников Степаныча, мы так или иначе знали друг друга, а с остальными быстро перезнакомились. В училище преобладали музыканты, и вокруг из-за дверей обоих этажей слышались звуки фортепьяно, баянов и распевок.
Я помню худенького, с торчащими ушами Льва Карнаухова, с которым приятельствую и ныне, вскоре он сделался близким другом Краснова. Помню Надежду Гурьеву и ставшего ее мужем Вениамина Вершинина, спившегося Геннадия Балагушина, ушедшего в монахи Вадима Чеглинцева, акварелиста Виктора Брохина, старательного Александра Кудимова… Художниками стали не все.
Помню преподавателей, выпускников пензенского училища: живописи и композиции – Булгакова, рисунка – высокого, угловатого, с умным и грустным взглядом Виктора Ивановича Суздальцева, крупноголового, жестикулирующего, скульптуры (хотя преподаватель и был график и живописец) – Владимира Серафимовича Китаева, придирчивого, даже желчного, – так нам казалось.
Они тоже прикосновенны к судьбе Сергея Краснова, хотя тот больше считал себя обязанным первому наставнику – Владимиру Степановичу. Он просто любил Степаныча.
Я, стараясь догнать друзей и сокурсников, с увлечением и настырностью писал ставившиеся нам натюрморты, рисовал гипсы. Сергей, скучая над учебными постановками, рвения не являл. В результате ему ставили четверки, мне пятерки… Но я всегда понимал, что он родился художником, а не отличником. Хотя и из меня отличника не получилось. Но, так или иначе, после первого курса мне и Брохину, как самым успешным, Булгаков посоветовал перевестись в Пензенское училище: «Там вы большему научитесь», написал рекомендательное письмо директору, дал адрес, где остановиться. Взглянув на работы, нас приняли на второй курс. Но, проучившись в понравившейся мне Пензе полгода, я училище бросил.
В том году мы с Красновым встречались нечасто, а в сентябре я ушел в армию и узнавал о Сергее из редких писем Куликова. Они сопровождались рисунками, изображавшими их мальчишеские забавы с пояснениями: «Так мы ходим», «Так мы ломаем шпаги», «Куликов садит Краснову шишку на лоб»... Летом они вдвоем отправились на заработки в совхоз, и, сообщая о тамошних приключениях, Женя нарисовал лошадку и сумку у седла с торчащими бутылками… Топая по вюнсдорфовскому плацу, я им завидовал.
Осенью Куликов, с медалью окончив школу, начал учиться на философском факультете МГУ, а Краснов отправился в армию, в монгольские степи.
Вернувшись из армии, он стал работать на месте Ирека Богданова – в этом, очевидно, ему посодействовал Степаныч, в той самой мастерской на антресолях, где хватало места и времени заниматься и своим, заветным. А я в ту пору работал художником стройтреста, деля мастерскую на стадионе «Труд» с Леней Абузаровым. Дворец пионеров был совсем рядом. Краснов забегал к нам, а мы к нему.
Однажды он пришел с высокой, резкой девушкой с низким прокуренным голосом. Наверное, в ней было что-то гипнотизирующее Сергея, созвучное чему-то затаенному, прорывавшемуся в нем то раскатистым гоготом, то навертывающейся на его карие глаза умиленной слезой. Ранимость и чувствительность, даже сентиментальность угадывались за его кажущейся грубоватостью, отрывистостью реплик.
Когда Сергей собрался жениться на Гале, я с бестактной самоуверенностью стал его отговаривать. Мы поссорились. Хотя все плохое и горькое сбылось, я, конечно, был не прав. Беспардонно полез в судьбу друга с непрошеными советами: она свершится, благие заговаривания бесполезны. Уразумел я это, увы, не скоро.
Потом он встретил Рашиду – преданную, понимающую. С Рашидой мы учились в одном классе вечерней школы. Наверное, повезло им обоим.
Скоро я уехал в Москву, где в 1978 году появился и Сергей, поступивший в мастерскую Евгения Кибрика при Академии художеств. Кибрик, ученик Петрова-Водкина и Филонова, заметил и отметил Краснова. Большинство стипендиатов мастерской Кибрика, как правило, прежде были его учениками в Суриковском институте. Краснов, редкий случай, явился со стороны. Правда, занимался потом Краснов у сменившего умершего Кибрика Ореста Верейского. И тот, мастер редкостной культуры и вкуса, думаю, был очень хорошим учителем.
Однажды – это был 1980 год – Сергей пригласил меня на выставку Михаила Ларионова, куда повел учеников Верейский. Первая советская выставка Ларионова – громкое событие, очевидно связанное с готовившейся московской Олимпиадой. Подобную свободу исканий в наших музеях до того демонстрировали редко. И Верейский, художник строго реалистической традиции, удачливо переживший эпоху казарменного соцреализма, немногословно говорил о главном в искусстве, как редко бывает, никому ничего не навязывая. На выставке, помнится, выделялась «солдатская серия» Ларионова, и Верейский, рисовавший во фронтовой газете, лучший иллюстратор «Василия Тёркина», может быть, находил в ней и свое. Конечно, увиденное совсем иначе. Крупная артистичная фигура Верейского двигалась перед холстами легко, не предводительствуя, но оставаясь на виду.
В академические времена Краснов между делом оформил несколько книг. Все началось с того, что я попросил его оформить мою книжку, вышедшую в 1980-м. Следом издательство стало предлагать ему другие заказы – талантливые и умелые художники нужны всегда. Но Сергей не втянулся в книжное дело: он писал картины.
В те поры мы встречались и у него, и несколько раз у меня, забегал я и в Академию на Пречистенке, тогда Кропоткинской. Когда-то несколько дней и я пожил в доме напротив белоколонного здания Академии, еще не ведая, что вскоре буду искать в тех пречистенских переулках следы Даниила Андреева.
В ту им оформленную книжку, давно мне кажущуюся неудачной, вошло стихотворение «Сергею Краснову», дружеское и вспоминательное, начинавшееся так:
Жил-поживал Сергей Краснов,
изобразитель полуснов,
художник в меру бородатый.
А мы с Красновым земляки,
Мы с берегов одной реки,
бегущей под горой покатой.
Что говорить про земляков!
Аксаков, Нестеров... Краснов –
все по заслугам знамениты…
Работая, Сергей слушал музыку. В эпоху винила и дефицита хороший проигрыватель купить было непросто, но Сергей добыл для меня такой же, как у него, и даже привез на такси в мою толстопальцевскую избенку. О красновском увлечении роком и совместном музицировании в начале семидесятых многое может рассказать его тогдашний наперсник Лев Карнаухов.
Позже, приезжая в Уфу, я всякий раз появлялся в красновской мастерской, даже как-то, засидевшись, переночевал в ней. Помню – это начало двухтысячных – зашли мы к нему вместе с Александром Гарбузом, хлебниковедом, не чуждым искусствоведению, занимавшимся преимущественно авангардом. Как раз тогда Гарбуз написал о живописи Сергея Краснова большую статью. А у меня сочинилась «Ода из мастерской Сергея Краснова». Упомянут в ней и Гарбуз, сипайловский житель. В ней ничего придуманного, только то, что увиделось из окон высотной мастерской и в красновских работах, которые автор мне показывал. Увиделось:
…по пейзажу в каждом третьем,
всё отражающем окне,
что у Сипайлова, заметим,
по-над рекой хорош вполне,
чтоб, награждаясь междометьем,
поблескивать на полотне.
Живёт у речки некий критик.
С собачкою гуляя, он
поведал, как пейзажик вытек
из снов художника…
Конечно, опять припоминались времена беспечных заречных хождений втроем вдоль Белой:
Пусть прерывает многократно
худая память свой полёт,
и отраженья беспощадно
у кромки схватывает лёд,
а там стремнина плотоядно
их отрывает и несёт...
Они выныривают снова,
где мы, как некогда, втроём –
среди молчания лесного
себя туманно узнаём.
Там и блуждают сны Краснова
среди берёз сверкнувшим днём.
Юные сны заслоняли мелькнувшие следом десятилетия. Так устроена память.
Почти каждый раз в мои приезды Краснов одарял меня, как и раньше, своей работой. Я сохранил все. Даже доучилищные его наброски. На стенах моей квартиры три красновских холста, две гуаши, большой рисунок… Поэтому я вспоминаю его, хотя бы мимолетно, почти каждодневно.
Помню, в его мастерской я встретил поэта Ивана Жданова, метаметафориста, как его называл критика. Они дружили. У Жданова есть строки, так или иначе рифмующиеся с красновскими метафорами:
В гранильном воздухе стальных новостроек
вдруг увидишь контур византийской розы –
старинный купол…
Поэты ценили работы Краснова, наверное, больше, чем ревнивые собратья. Евгений Евтушенко, приехав в Уфу и случайно увидев несколько его работ, захотел побывать в красновской мастерской. И побывал. Потом Сережа написал его портрет.
Поэтов увлекал метафоризм Краснова, умение творить на холсте мифы, превращать клок обыденности, выхваченную из нее вещь в многозначный символ. Он не впадал ни в умозрительность, ни в иллюстративность, а находил именно живописное и пластическое выражение интуициям и фантазиям, путешествуя с кистью во все новых и новых метапространствах.
Так и мой герой, Даниил Андреев, писал о метаистории, обдумывал теорию сквозящего реализма, в которой утверждал, что за всем земным сквозят иномиры.
Еще в семидесятых я побывал в Иволгинском дацане под Улан-Удэ. Там увидел двух буддийских монахов-скульпторов, приехавших из Монголии, чтобы изваять для дацана Великого Будду. Меня поразили гололобые крупные головы монахов, с неподвижными коричневыми глазами, которые глядели так нездешне и пронзительно, словно бы видели сквозь меня и за мной все сферы буддийских небес. И мне кажется, что в некоторых своих работах Сергей Краснов именно так заглядывал в метапространство, где все земное становилось небесным, открывая первообразы и сущности. Почти по Платону, которого навряд ли он читал.
О мистическом мы с Красновым никогда не говорили. Но мне верится, что он, как любой романтик (а его живопись, конечно же, романтическая, или, вернее, постромантическая), не чужд интуитивных мистических настроений. Да и его композиции, в которых появляется крест, и как христианский символ и святыня, и как проявление сакральности пространства, – скажем, в полотне «Последнее убежище св. Иеронима» – прямо говорят об этом. Или его символически многозначительный «Вольер», в котором прямо прочитывается еще и образ распятия. И другие его композиции – «Вознесение церкви», «Преображение святого Андрея»…
А цикл натюрмортов? Они часто тоже представляются неземным взглядом на полевые цветы, круглящиеся плоды, обиходные вещицы. Замечательно скомпонованные, неожиданно задуманные, прочувствованные пластически и по цвету, они кажутся содержательными высказываниями. Вода или цветы в полиэтиленовом пакете, жестяная банка «Кока-колы», повисшая над земными плодами…
Некоторые его работы, например «Атомный город» или «Пейзаж после трудовой недели», думаю, могут впечатлить и урбаниста, уверовавшего в величие «покорителей природы», и, возможно, даже больше сказать антиурбанисту. Тот явственно заметит в этих видениях, давно ставших реальностью, почти плакатное предупреждение. Башня «Атомного города» похожа на башню полотна «Модель Коба», и подобные грозные сооружения возникают и в других работах Краснова. Картины часто выстраиваются в циклы. Прямо не повторяясь, нередко однажды найденный образ художник варьирует, развивает, показывая его многозначность, раскрывая заложенную в нем метафору и неповторимую игру форм.
Но Краснов был не только концептуальным живописцем, нацеленным на определенность художественного жеста, у него не так уж мало работ, написанных с лирической непосредственностью, с прямым задушевным взглядом на пейзаж, на человека. И лучшие вещи такого рода, думается, не уступают его фантазийным композициям. В них есть то, что, по слову поэта, «и умным не подделать».
В год семидесятилетия Краснова, еще не повидавшись с ним, а лишь поговорив по телефону, я поспешил на его выставку в музее имени Нестерова. Выставка, открывавшаяся триптихом «Азбука геноцида», была и разнообразной, и цельной. Но сейчас я думаю, что она могла бы быть более обширной, более ретроспективной. Не все стороны его искусства, не все повороты его пути мы увидели.
Вообще, по-моему, несмотря на безоговорочное признание, на звание академика, в родной Уфе, которой он никогда не изменял, его оценивали с неторопливым выжиданием, с оглядкой, вслед за успехами где-то дальше и выше – в столице или в зарубежье. Не издано ни обстоятельного каталога Краснова, не появилось и серьезных исследований о нем. Верю, они будут, должны быть.
В нашу последнюю встречу Сергей подарил мне холст, названный «Горение». Много на нем черного, и клубы, вспышки, осколки красно-желтого. Можно вспомнить Апокалипсис: «И звезды небесныя падоша на землю…» Но, как мне потом показалось, это вариация или, точнее, реплика его давнего «Падения Икара». Всматриваясь в «Горение», лаконичное, почти беспредметное и все же внятно читаемое, символическое, я тогда написал стихотворение с тем же названием, посвященное ему. Я не мог предугадать, что та наша встреча станет последней, и уже после горькой вести понял, что это непонятным образом предугадало стихотворение:
Корабль входит в верхние слои,
и начинается горение –
ревут горынычи, стальные соловьи
почувствовали вдохновение.
Скворчит металл, и алый с золотым
переливаются, как роспись неземная,
искрят и крошатся над маревом густым,
над морем и над степью Кустаная.
Что скажет самодельная звезда –
чья жизнь короче, чья длиннее?
Но не вернутся никуда и никогда
пустившиеся в путь под нею.