№1.2023. Вадим Богданов Записки для сумасшедшего
Отрывок из романа «Мытник»
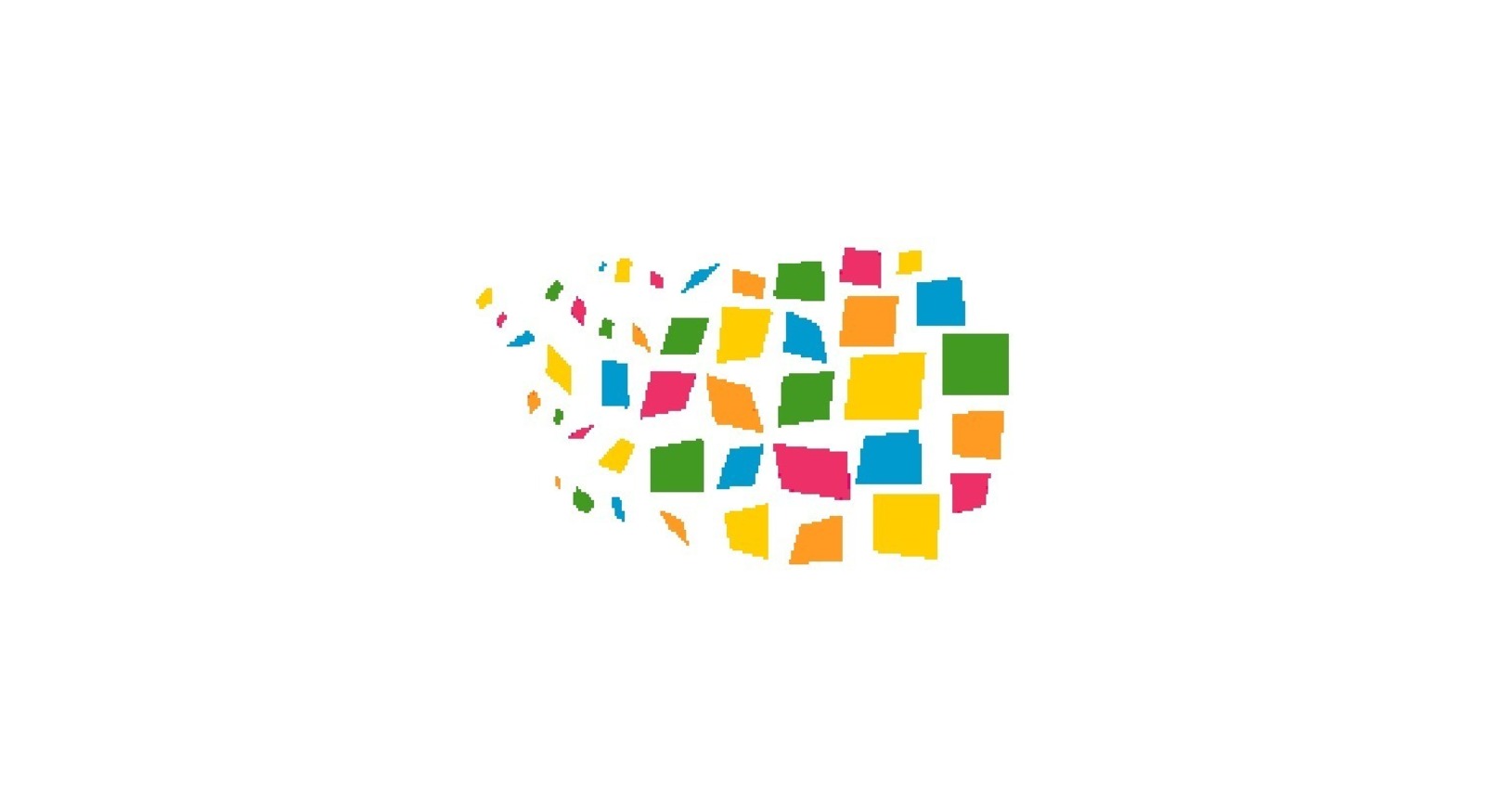
Странно – я не вижу цветных снов. Они яркие, мои сны, они раскрашенные, или, правильнее сказать, они красочные, но это иные краски – не те, о которых «каждый охотник желает знать»… Это другое. Причём если по сюжету сна необходим цвет, то я знаю – это брызнуло красным, это обожгло жёлтым или ударило белым… но это не видимый цвет, это информация о цвете, я его не вижу во сне, просто знаю – это он.
Может быть, сны это иной уровень видения? А может быть, у меня просто как-то урезано или атрофировано цветовое восприятие и это проявляется именно таким образом? Завуалированный дальтонизм с заходом в собачье черно-белое?
Я лежал, опершись спиной на огрызок каменной стены, лицо запрокинул вверх, так что камень сзади задрал каску и сильно упёр ее в лоб над самой переносицей, вызывая боль, недвусмысленно граничащую со зрением. Я сорвал каску и бросил её. Я смотрел в небо. Раскалённый РПК лежал на руках поперёк меня, жёг глаза вытертым до лоска бликующим металлом. Ослепительно больно белели камни, скалы, выгоревшая зелень, задранный разодранный в цепу комель бука. Белокипенными кулаками били мне в спину через меловой слоистый камень добела раскалённые пули.
Я смотрел в небо и видел его черным.
Я не вижу бесцветных снов.
– Вы воевали?
– Нет.
– Понятно.
Доктор помолчал, почиркал в блоке.
– Вы понимаете, где находитесь?
– В психе?
– В республиканской психиатрической больнице № 1. Вы, кажется, не согласны?
– С названием? Вполне.
– А с нахождением?
– Всё равно. А почему у вас хал другого цвета, не как у всех врачей?
– Вы имеете в виду халат? Я представляю несколько иное направление психиатрии и пользуюсь иными методами и… полномочиями, отсюда и различия в униформе.
– Вроде как другой род войск? Круче?
– Очень хорошая аналогия. – Дока заулыбался, ему понравилось. – Да, именно, что-то вроде контрразведки. Отсюда и особые полномочия.
– Ясно. Значит, другие доки со мной возиться уже не будут?
– Нет, почему же, все назначенные вам процедуры вы будете выполнять согласно предписанию лечащего врача… – Дока заглянул в блок, – Мифтаха Курматовича. Да. А мы с вами будем просто беседовать.
– Как сейчас?
– Именно. Причём я сам буду к вам приходить или назначать встречу. И не удивляйтесь, если время будет…
– Каким?
– Любым. Неурочным. Скажем так.
Дока ушёл. Кирилл вдохнул, сильно потянув носом. Ему показалось, что в воздухе притаилось что-то не то… его обычно не было и не должно было быть здесь в его палате, что-то раздражающее. Причём очень знакомое, но знакомое по совершенно иному месту. Кирилл потянул ещё раз – оно ускользало, развеивалось. Запах. Это запах. Но чего?
Драперы тихо колыхались тяжёлыми складками, как будто кто-то прятался за ними и неловко толкал изнутри. Но за тёмным бархатом никого, только ночное стекло, морозные узоры, тяжёлые переплёты и решётки. И густой сквозняк, пойманный плотной материей. Сквозняк толкался в тяжёлые силки, останавливался, скапливался, медленно опускался к полу, скользил по нему, мягко обволакивая встреченные предметы, и соразмерно и пропорционально, строго по законам термодинамы размывался стремящимся к потолку тёплым воздухом каба.
– Диффуз. – Сказал Кирилл и засунул обе ступни в тонких казённых носках в одну тапочку.
– Уставший мозг взыскует сна, как уставшее тело горизонтального положения. – Док сегодня пытался изъясняться изысканно и витиевато. Он и встречу назначил в аристократически обставленной приёмной главврача. – Сие столь же верно, как и то, что, приняв горизонтальное положение, уставшее тело засыпает, давая отдых утомлённому сосуду мыслей.
– Главное не расплескать бы оного, – подхватил-собезьянничал Кирилл, – ибо сосуд в горизонтальном положении обуславливает собственное опорожнение.
– Сие есть истина, но заметьте, что указанное содержимое покидает сосуд, лишь сообразуясь с особенностями его рельефа. Чем более витиеватые детали означенный рельеф в себе сочетает, тем более возможности содержимому остаться во внутренних его отделениях, изгибах и иных кавернах. И именно это оставшееся наполнение и представляет главный предмет нашего сегодняшнего исследования.
– Гипнить будете?
– Нет. Не я – вы.
Чёрное небо давило жаром.
Я начинал поворачиваться под ним как под массивным, но мягким и податливым прессом, я продавливал его, начав движение с головы, потом плечами, грудью, корпусом. Я поворачивался влево. Бедра завершили движение, сталкивая с меня горячий пулемёт.
О моё укрытие ударилось ещё две пули. Я начал поднимать РПК. Кинул ствол на покатину стены, примерился. Глаза почти не открывались, стиснутые ослепительно белым светом. Сквозь болью прорезанные щели я смотрел через ущелье. Там по склону все ближе и ближе среди камней и сгоревшей листвы мелькали бордовые береты. Как на ученьях. Я вас научу, долбаные читаки. Я вдарил.
Читаки пригнулись, попрятались. Машина рвалась прочь от изрыгаемых ею же самой ошмётков огня и свинца, железным сапогом била меня в плечо, требуя выпустить, прекратить жечь пороховым гаром точёную сталь. Ствол чертил кривую через воздух, камни, цепкие кусты на склоне, небо, речушку, землю. Я перестал стрелять, когда раздутый жаром ствол начал плеваться от собственного бессилия. Откинулся назад. Уставился в чёрное небо. В спину снова застучали белые пули.
– Ну-с, рассказывайте, что с вами случилось?
– Я попал в аварию. Вернее поезд, на котором я ехал, попал в аварию. Многие умерли, погибли. Да, а может быть, даже все. И я тоже.
– Что, простите?
– Я тоже умер.
– Вот как…
Доктор прошёлся по комнате. Остановился спиной к Кириллу.
– Значит, вы мёртвый?
– Совершенно правильно.
– Как произошла катастрофа?
– Не знаю, я был внутри вага, спал. Поезд вдруг взорвался, всюду огонь, воздух превратился в огонь. Ваг опрокинуло, стало корёжить, мять. Я горел, и ещё металлический кусок пропорол мне грудь. Вот так, кажется. – Кирилл провёл рукой по груди. – Да, примерно так. Чуть наискось.
– Когда это случилось?
– Летом. В самом начале. Я ехал в командировку в город… название такое весёлое… болты… гайки… Что-то в этом роде.
– Город Трёх Шурупов?
– Да. Точно.
– К вашему сведению, этот город называется Уфа. И вы в настоящее время в нём находитесь.
– Спасибо.
Помолчали.
– Покажите грудь.
Кирилл распахнул больничную робу.
– Ну и где шрам? Который чуть наискось?
– На трупе.
– Каком трупе?
– На моём.
– На вашем?
– Да. – Кирилл почувствовал в Докторе раздражение и поспешил пояснить: – Труп закопали. Вместе с ожогами и шрамом. А я не труп, я это я. Дух или душа… моя. То есть я и есть моя душа. Моя душа – это я сам. Сам я душа и есть. Моя. Душа…
– Не утруждайтесь. – Дока наклонился к Кириллу, нацелил тонкий изжелта-белый палец и чуть коснулся или, вернее, чуть не коснулся кожи. – А как вы объясните это?
– Это шрам. Старый, ещё со студенчества. Меня гопы – из Казани, наверное, приезжие – порезали в лесу под трамплом. Сначала пугали, а потом… Я очень испугался. Это оставило след на мне. На моей душе, на мне. Не сам нож, конечно, но всё, что произошло…
Кирилл понял, что говорит путано, и смущённо запыхтел. Он вдруг снова почувствовал тот запах. Теперь резче. Запах снова показался знакомым, но Кирилл не успел…
– Когда произошла ваша железнодорожная катастрофа?
– Я точно не помню… В самом начале лета. В июне.
– А год? Год какой?
– Год? Год наш, текущий. 1989-й.
Дока отстранился.
Подошёл к тяжёлой двери, взялся за ручку.
– Выходите через пять минут.
Ушёл.
Кирилл снова потянул носом, пытаясь поймать, снова почувствовать этот запах. Быстро лёг на пол. Здесь, в холодном, напоенном уличным сквозняком воздухе, он ещё чуть-чуть держался. Кирилл ловил его, ловил, как пёс, почуявший запах соперника, опасности, может быть драки, а может трусливого бегства. Но запах пропал. Исчез. В строгом соответствии с текучими законами диффуза.
– Вас зовут…
– Иногда. Обычно я прихожу сам.
– Конечно, вы же Дока.
– Доктор. Да, так меня и называйте.
– Хорошо, Дока.
– Хотелось бы, чтобы и вы назвали ваше имя.
– Кир.
– Кирилл?
– Да. Дока, может, я сяду, а то неудобно – я лежу, а вы стоите?
– Не нужно. Сейчас по распорядку сон, так что отдыхайте. Можете даже поспать.
– Хорошо.
– Вы помните, как попали сюда?
– Конечно. Меня привёз хран.
– Кто?
– Хран. Мой ангел.
– Ага. Ангел-хранитель… – Дока зашуршал блоком. – Позвольте процитировать. Пациент: фамилия – прочерк, имя – Кирилл, отчество – прочерк, год рождения и адрес – прочерки… Так… вот – доставлен жителем села Улу-Теляк Иглинского района Башкортостана, дата. Вот, видите, какая дата…
Дока поднёс свой блок к глазам Кирилла.
– Видите?
– Вижу. Конец лета.
– А год?
– 2009-й.
– Правильно. А в каком году, вы говорите, произошла ваша авария?
– В 1989-й.
– Ну…
– Что?
– Это несоответствие, разница во времени в двадцать лет с аварией и вашим появлением сначала на месте аварии у деревни Улу-Теляк, а потом у нас в клинике вас не удивляет? А, Кирилл? Не настораживает?
– Нет. Я же мёртвый. В смерти нет времени. Смерть вне его.
Дока присел на край кровати Кирилла потянулся потрогать его за плечо, но вдруг, будто опомнившись, отдёрнул руку.
– Кирилл, послушайте… Кирилл. Кирилл!
Кирилл спал.
Вставив в РПК последний барабан, я стал смеяться. Не предчувствие, но предощущение смерти вызвало противный, мелкий и утробный смех. Трусливая истерика колотила меня, трясла, крючила. Долго. Почти до смерти. Самое смешное, что всё я сам… всё сделал я сам. Я сам записался на эту дурацкую войну за совершенно чужой мне и не нужный Константинополь, сам вызвался прикрывать взвод, ускользающий сейчас за моей спиной где-то по ту сторону гребня от бордовоберетного турецкого спецназа. Я сам сейчас встану во весь рост, и белая мягкая натовская пуля пройдёт сквозь меня, высадив из спины кусок хребтины в паучьих ножках рёбер.
Я поднял РПК. Первый же мой патрон взорвался в ствольной коробке чудовищным невозможным взрывом – крышку разорвало как причудливый стальной цветок, затворная рама ударила в грудь, в крошево превратила грудину, вошла, ткнулась в хребет и успокоилась в лоскутьях пепельных лёгких.
– Дока…
– А? Да…
Доктор, прикорнувший на постели Кирилла, ошалело вскочил, завертел головой.
– Я что, уснул?!
– Да. Похоже, я тоже.
– Дьявол. Боже. – Дока засуетился. – Это нужно немедленно убрать. Я заберу с собой. Вставайте же.
Доктор стал срывать с кровати постельное белье – пододеяльник, простынь, чуть помедлил – и наволочку тоже.
– Прошу прощения. Сейчас вам всё принесут.
Выбежал из палаты.
Кирилл в недоумении сел на голый матрас. И почувствовал запах.
Это был запах мочи.
– Спали?
– Да, Дока. Вы, кажется, тоже задремали – тогда.
– Прошу меня простить за эту слабость. Надеюсь, я вам не помешал.
– Нет. Только новое бельё мне так и не принесли. Пришлось брать у хозы самому.
– У козы?
– Нет, у сестры хозяйки.
– Кирилл, скажите, когда вы спите, что вы видите?
– Ничего. Я ухожу.
– Куда?
– В эйфор.
– То есть вы чувствуете эйфорию?
– Да, инфор.
– Информацию?
– Да. В смерти сокрыты многие знания. Они открыты мне. Это приятно.
– Вы хотите сказать, что вам доступна вся информация… мира, вселенной?
– Да, но не всё одинаково приятно, и не всё интересно, и не всего хочется. Иногда натыкаешься и на хорошее, и на плохое. Но больше непонятного.
– На что это похоже?
– Инфор? Почти как обычный путь познания – блуждание в заставленной разными вещами комнате. Только в комнате горит яркий свет. И ты видишь всё сразу.
– Это всезнание? Вы знаете всё обо всем?
– Нет, конечно, я же не Бог. Я знаю то, на что упадёт мой взгляд. Если вглядываться во что-то определённое долго, то узнаешь его больше, глубже. Но зато не видишь остального. Или наоборот скользишь беглым взглядом и знаешь немного, но о многом. Ну, ещё память, конечно.
– Что – память?
– Не всё запоминаешь, и тем более не запоминаешь всё.
– А что вы знаете обо мне?
– Ничего, Дока. Пока ничего. Вас ещё нужно найти. Комната огромная, и хлама в ней под потолок.
– Звучит не очень убедительно. Мы все что-то ищем и на что-то натыкаемся. Что-то забываем или помним.
– Да, но комнаты живых почти пусты. И темны. И не у каждого есть фонарь.
– Почему это так?
– Не знаю. Такой инфор.
Доктор присел на обитую дерматином скамью. Кирилл устроился на скамье напротив.
В этот раз они встретились в коридоре между корпусами. Голые стены, ополовиненные панами, крашенные густой масляной краской, холодны. К ним хотелось прижаться горящей щекой, остыть и смотреть так, чтобы взгляд скользил над этой самой вертикальной в краске пустыней – то покрытой сетью трещин, то небольшими, подобными кожной сыпи бугорками, то разломанной и вздыбленной большими чешуями, обнажавшими многолетние крашеные пласты, по которым можно видеть, в какой цвет была окрашена эта стена в разные годы. Преимущество за жёлтым. Вертикальная жёлтая пустыня стены – переходящий в меловое белое море крашеный пан.
Неожиданно на самом краю этой пустыни из-за вертикального горизонта под немыслимым к нему углом появились два фантома. Очертания их зыбки и в то же время объёмны – они приближались. Они приближались и, приближаясь, принимали очертания совершенно определённые и пугающие – это санитары.
Увидев их, Кирилл подтянул ноги под скамью, а спиной и затылком прижался к стене. Он даже, кажется, закрыл глаза, но сквозь ресницы успел заметить, как Дока вытаскивает что-то из кармана своего хала.
Санитары прошли. Кирилл даже, кажется, почувствовал, как его задели полой халата, или это порыв воздуха от близкого движения, но все равно ему показалось, что санитары прошли к нему слишком близко – как можно дальше от доктора.
Снова пахнуло мочой.
Кирилл открыл глаза и увидел, как Дока прячет в карман странной раздутой формы пистолет.
– Скажите, Кирилл, – как ни в чём не бывало продолжил Дока, – а почему в речи вы обрубаете некоторые слова? Эйфор, инфор, хал… ещё эта пресловутая хоза… Почему?
– Не знаю, так получается. Раздражает?
– Не то чтобы сильно раздражает… Но иногда сильно. И это как-то странно.
Кирилл неожиданно развеселился.
– Веское замечание для психушки. Здесь все, как правило, странные. Кто-то воображает себя Авиценной, кто-то тюльпаном и удобряет себя собственным дерьмом, от кого-то тоже странно пахнет.
Доктор не ответил. Прижался к жёлтой пустыне, как будто лёг на вертикальную плоскость. Показал рукой рядом.
– Вы умеете видеть наяву?
Гренадёрка мокра – хоть отжимай. Латунная луда уперлась в переносицу над глазами и жгла металлом, сочащимся из-под него потом, кромкой резала кожу. Я смахнул ее наземь – ныне не до уставу. Орластая бляха ударила за то с земли нестерпимым солнечным бликом. Заряжать штуцер, согнувшись в три погибели за куском каменной стены, было сущим проклятьем. Размаха для удара не хватало, и куля заходила в ствол еле-еле. Молоток, ударяя, то и дело сбивался с шомпола, бил по рукам, осаднивая кожу.
Султанские капы-халки подбирались все ближе. Перекликивались отрывистым шайтанским карканьем. Видно, брали в остою. Редко по камню за спиной попадала свинчатка да стрела разрезала стоячий воздушный межень.
За последним ударом куля дошла до казенника. Я откинулся на жаркий меловой камень. Нужно перевести дух. Не дело палить, когда душа ходит ходуном. На миг только прикрыть ожжённые очи. Нет, не улежать – сквозь веки белый свет бьёт ещё жарче, окрашиваясь прозрачно-пламенным, огнистым. Через боль и воспалённый гной я разодрал глаза.
Я смотрел в небо и видел его чёрным.
– Значит, вы утверждаете, что вы мертвы. Так?
– Так, Дока.
– Отчего же вы не лежите в могиле или, обращаясь к религиозному мировоззрению, не находитесь на небесах или в аду?
– Не удостоился.
– Что, простите?
– Нет мне ни ада, ни рая. Жизнь прожил так, что оказался я – ни богу свечка, ни черту кочерга. До ада недогрешил, до рая недоправедничал. Поэтому дан мне ещё срок, чтобы уж определиться, что ли.
– Поэтому вы остались на земле?
– Нет. Не на земле я.
– А где же? Или… я, кажется, начинаю понимать, вы в чистилище? Наша клиника для вас это чистилище?
Кирилл пошевелил в тарелке вялую геркулесовую кашу. Сегодня они с Доком беседовали в столовой. Кирилл подумал, что запах мочи преследует его теперь даже здесь.
– Нет. – Ответил Кирилл и смело отправил ложку себе в рот.
– Что нет? Не клиника?
– Не чистилище. Это называется мытарства. И психа лишь одна часть моих мытарств.
Глядя на жующего Кирилла, Дока отодвинул свою тарелку и чай. Фарфоровая чашка задела чайную ложечку – ложка упала. Кирилл не торопясь поднял ее, повертел в пальцах и, кажется, не вернул на стол.
– Вы кушайте, кушайте, Кирилл, на меня не смотрите. У меня что-то аппетита нет.
Дока, кажется, нервничал. Он сидел напряжённый, тонкими руками касался то острого в седой щетине подбородка, то впалых щёк. Иногда вытаскивал из нагрудного кармана маленький платок и растирал по лбу вязкие капли густого, как свечной стеарин, пота. Да, он похож на свечу – жёлтую, скособоченную от собственного жара, исходящую потом свечу.
Пожав плечами, Кирилл продолжил уминать кашу.
– Герик вполне съедобный.
– Для покойного у вас завидный аппетит.
– Это видимость, Дока, всего лишь видимость. Иллюз.
Штуцер ударил в плечо веско и почти по-дружески. Белый колпак подобравшегося ближе всех турка разлетелся в кровавые лохмотья. Я нырнул за камень, и ответные выстрелы легли в мел.
Всё, теперь не перезарядить. Вынул саблю. Нет, без толку – капы-халки не пойдут сечься – ни близко, ни далеко – расстреляют с пяти шагов. А то и ранят, да на кол на смех да поругание. Хренину вам! Всё одно помирать. Жалко только, до Царьграда не дойду. Иван Александрович говорил, недалеко уж осталось – зимовать, мол, в Царьграде будем. Нет, не дойду. Ладноть! Подтянул к себе сумку. Сами их превосходительство Иван Александрович Загряжский, наш генерал-майор, уходя, оставили, может, самую последнюю в батальоне гренаду. Смех и грех – гренадёрам гренады не по артикулу стали. Но нет – врёшь, турчанин! Надкусил бумажную трубку чиненки, зажал, чтоб порох не просыпать. Только б фитиль быстрее занялся.
Выглянул из-за камня. Трое с одного конца подходят – фитиль коли подгадать, положу всех троих. Близко уже… Ну, теперь фитиль в трубку – раз, два, третьего не жди! Вскочил, отступил ногой для упору, замахнул. Глаза ослепил бьющий из руки жаркий свет и вощёная чернота раскалённого небозёма. Круглый пороховой начинок разорвался тьмою острых осколков, они вошли в лицо, в грудь, сдирая кожу, дробя кость, забивая пороховым гаром разверстую в крике глотку.
– Но почему я здесь?! Почему здесь с вами в ваших мытарствах все эти люди? Почему они здесь сидят, жуют, живут, бредят и получают свой аминазин, сибазон или релашку? Как все они, как все мы попали в ваш шизоидный идиотический мир? В ваши мытарства?! А?!
Кирилл старательно облизал ложку.
– Из всего этого следует только один вывод.
– Какой?
– Вы тоже умерли.
Стена осыпалась. Заплот разбило, бревна выворотило, растопырило, как пальцы на пятерне. Из орудийной прислуги остался я один. Выбрался из каменного крошева. Казалось, все кости поломаны, разбиты, выворочены из суставов. Мисюрка при ударе сбилась и врезалась в переносицу, застя мир белой ослепительной болью. Я отбросил ее, махнув кольчужной сетью. Кастрон скоро падёт, это ясно. Дикие выли и громоздились один на другого, вздирали вязаные лестницы, лезли муравьиным потоком. За ними ждали своей очереди янычары.
Токсоты били стрелами, но турки не замечали убитых. Аркебузиров осталось едва десяток. Стратопедарх молчал, и трубы не слышно. Мне осталось только одно.
Города больше нет. Нет крестов над Святой Софией. Пал Второй Рим – город Константинов. Погиб император. И нам незачем жить. Незачем оборонять эту старую крепость забытую самим Пантократором в этих диких горах. Но, умирая, мы заберём с собой столько, сколько сможем.
Я навалился на рычаг, поворачивая сбившийся ствол единорога. Болты скрипели, лафет расшатался, но это уже не важно – заряд остался последний. Мы успели забить его перед залпом османских бомбард. Я вколотил клинья, закрепив ствол. Фитиль ещё тлел, я одул его, следя за густеющим белым жаром, снял нагар. Замер на мгновенье.
Турки прямо передо мной. Я поднёс фитиль к запалу, отпрыгнул, зажав уши и пригнувшись. Я не услышал выстрела, потому что удар разорвавшегося ствола белым громом заложил мне уши. Я летел или лежал, не знаю – я увидел прямо над собой в молочных клубах порохового едкого гара ослепительное небо.
Небо было чёрным.
– Проснитесь же – это сразу видно. На круги мытарств попадают люди не цельные душой, потерянные – утратившие или не приобрётшие нечто важное для спасения. Это выглядит как уродство, увечность. Там, сразу после смерти я попал… это просто страшно. Изуродованные души. Здесь лучше. Хран помог. Это он мне всё объяснил и вытащил.
– Ваш ангел-хранитель? То есть, по-вашему, если человек теряет часть души, то после смерти он выглядит инвалидом?
– Можно сказать и так.
– И вокруг все мёртвые?
– Да.
– Но они же все выглядят…
– Посмотрите туда.
У тумбы с газетами сидели двое – старик и девушка.
В комнате отдыха было светло снежно-белым морозным светом, тепло и уютно от одновременного ощущения тепла и морозной свежести – тепла здесь и мороза там за окном. Было спокойно и бестрепетно. У старика не хватало руки, у девушки обеих ног.
– Да, – сглотнул Дока, – но остальные?
– Когда человек что-то теряет из себя и не может обрести вновь, или не знает как, или просто не хочет, он начинает заменять это искусственным. Вам опять нужны примеры?
Дока отрывисто кивнул.
– Хорошо. Вот смотрите, у этого молодого человека нет ступни. Не замечаете? Протез. Та тётушка без почки. А у седовласого джентльмена у окна нет сердца. Там какая-то электрическая машинка. И так у всех. У всех дефы. У всех, кто здесь находится. Если даже внешне они и целые, то внутри – калеки. Да и вы сами Док…
– Что? У меня всё есть и всё своё!
– Так ли это?
Кирилл, молча, качнул указующе головой.
Дока засмущался, прикрыл рот ладонью, застыл на секунду в робком равновесии и всё же смог – медленно, неловко, теряясь в собственных жухлых губах, запустил пальцы в рот, ухватился и вытащил розовые, в белесинах слюны, с подточенными долгим использованием зубами челюсти. Сказал изменённым слабым голосом:
– В последние годы зубы крошились и болели ужасно…
– Вот видите.
– А вы, Кирилл? Чего не хватает у вас?
Кирилл начал медленно поднимать руку. В руке чайная ложечка. Кир перевернул ложку рукояткой – кончиком к себе. Рука поднималась к лицу. Ложка нацелилась. Ускорилась. От удара не сильного, но и достаточно ощутимого голова Кирилла качнулась назад. Раздался характерный звук – стеклянный и глухой одновременно.
– У меня нет глаз.
Доктор снова пришёл ночью.
Кирилл ощупью нашёл на тумбочке очки, натянул, уставился на Дока, с усилием разлепляя глаза и задавливая сведёнными челюстями зевок. Сел, уставился на Дока, как будто мог его видеть. Как будто мог видеть сквозь почти абсолютную темноту.
Дока говорил с Кириллом. Сбиваясь и повторяясь, теряя нить и снова возвращаясь к одному и тому же. Он рассказывал.
– …и каждый раз, каждый раз я защищаю своих или хочу отомстить за них и умираю, сам себя убиваю. Будто случайно… И чёрное небо и белая земля… Почему так? Я ведь не был, никогда не был там и тогда… Турки, Балканы, Византия… откуда это у меня? Я ничего не знаю, я не понимаю… За что…
Вдруг доктор заплакал. Кирилл окончательно проснулся.
– Да что вы мучаетесь, Дока? Вы просто не хотите принять это… Вы же умерли. Тогда и там, на той войне. У мёртвых как раз путаются времена. Вот и у вас.
– Почему путаются?
– В смерти нет времени. Оно вне её. Поэтому вы одновременно можете быть и русским добровольцем в войне за Константинополь, и суворовским гренадёром в Балканскую кампанию, и славянским пушкарём при османском нашествии. Какая разница?
– Мы воевали с Турцией за Константинополь? С пулемётами?
– Значит, будем. Нет времени. Поймите! В смерти нет будущего и прошлого. У вас нет времени! Нужно всё успеть сразу.
– Что успеть?
– Понять. Вспомнить. Увидеть. Ну… что-то такое… Нужно что-то исправить. То, что не смог в жизни. Для этого даны мытарства – уравновесить то зло, что совершил при жизни добром… – Кирилл засмущался высокопарности своих слов и замолчал.
– А может быть, просто понять…
Доктор разозлился, потом, наверное, застыдился своих недавних слез и разозлился ещё больше.
– Да кто ты?! Откуда ты всё это знаешь?!
– Я уже сто раз говорил – мне мой хран объяснил. И вытащил.
Дока посопел.
– А теперь объясняешь ты – мне?
– Да.
– И даёшь выход?
Кир покачал головой.
– Путь. К спасению. Наверное… Этого я не знаю.
Дока что-то пробормотал.
– Что? – переспросил Кирилл.
– Анг. – сказал Дока. – Хран.
И ещё добавил.
– Я вспомню. Пойму. И увижу.
Перед обедом Доктор вернулся. Кирилл сидел на кровати и смотрел в мутное окно. Дока хлопнул Кирилла по плечу картонной папкой, помятой и потёртой. Кир лишь покосился на него и снова уставился в окно.
– Вставай. – Сказал Доктор. – Пойдём.
Шли по коридорам, упирались в какие-то двери, решётки, тогда Доктор доставал из своего странного хала гигантскую связку ключей и отпирал замки. Санитары сторонились их и только косились, проходя мимо, или провожали медленными взглядами с постов. Врачи навстречу не попадались – как раз пришло время их планёрки или консилиума, или как его там по-больничному… Под конец Дока открыл дверь маленькой комнатки – чулана или кладовки, надел резиновые перчатки, вошёл внутрь. Было слышно, как он ворошится в чём-то, роется будто крот. Кирилл зевал.
Наконец Доктор вынес из кладовки ворох одежды. Кирилл узнал свои джинсы-пирамиды.
– Одевайтесь, – официальным голосом произнёс Доктор и перекинул все ветхую рухлядь Киру на руки. – Вот обувь.
Доктор медленно поставил перед Кириллом короткие подшитые валенки.
Кирилл прямо в коридоре начал переодеваться. Натянул на больничные хэбэшные носки толстые шерстяные, на пижамные штаны джинсы. Всунулся в мягкий широкий свитер. Залез в валенки. Сверху – синяя фуфайка и на голову шапка-ушанка из искусственной чебурашки. Всё поношенное, но чистое, стираное больничной дезинфекционной стиркой
– Не от кутюр, но на первое время сойдёт. – Подвёл итог Доктор. – Пойдём.
Доктор пошёл впереди, покачивая своей картонной папочкой.
Повернули в короткий тамбур. Доктор отворил двойные двери. С самой последней металлической, массивной повозился дольше обычного.
– Идём, – махнул папочкой Доктор.
Они вышли на улицу. Очки Кирилла с влажного тепла больницы сразу покрылись туманом изморози, он протёр их прямо пальцами.
– Иди. – Чуть подтолкнул его Дока. – Иди, чёртов ангел. Ты свободен. Я тебя выписываю.
Кирилл топтался недоуменно. Дока сунул ему в руку свою папку.
– Тут твоя выписка. Справка, что ты нормальный. И ещё справка для милиции, чтобы ты паспорт получил. Иди. Есть куда идти-то?
– Ага. – Кирилл, наверное, даже не слышал, что сказал Дока, он во все глаза смотрел на небо, на серые здания, на солнце полуденное и низкое, на снег, где-то грязный, а где-то белый сверкающий. Кирилл забыл обо всём, он пошёл, пошёл куда-то, сам ещё не осознавая, куда и зачем, не думая, не задумываясь, а только впитывая в себя, глотая глазами, ноздрями и самим горлом это ощущение и наслаждаясь им – пьянящим и возбуждающим – свобода.
– Проща. – сказал Дока.
