Все новости
По страницам былого
23 Сентября 2020, 15:54
№9.2020. Александр Светлаков. Моё военное детство. Из цикла «Вспоминая войну »
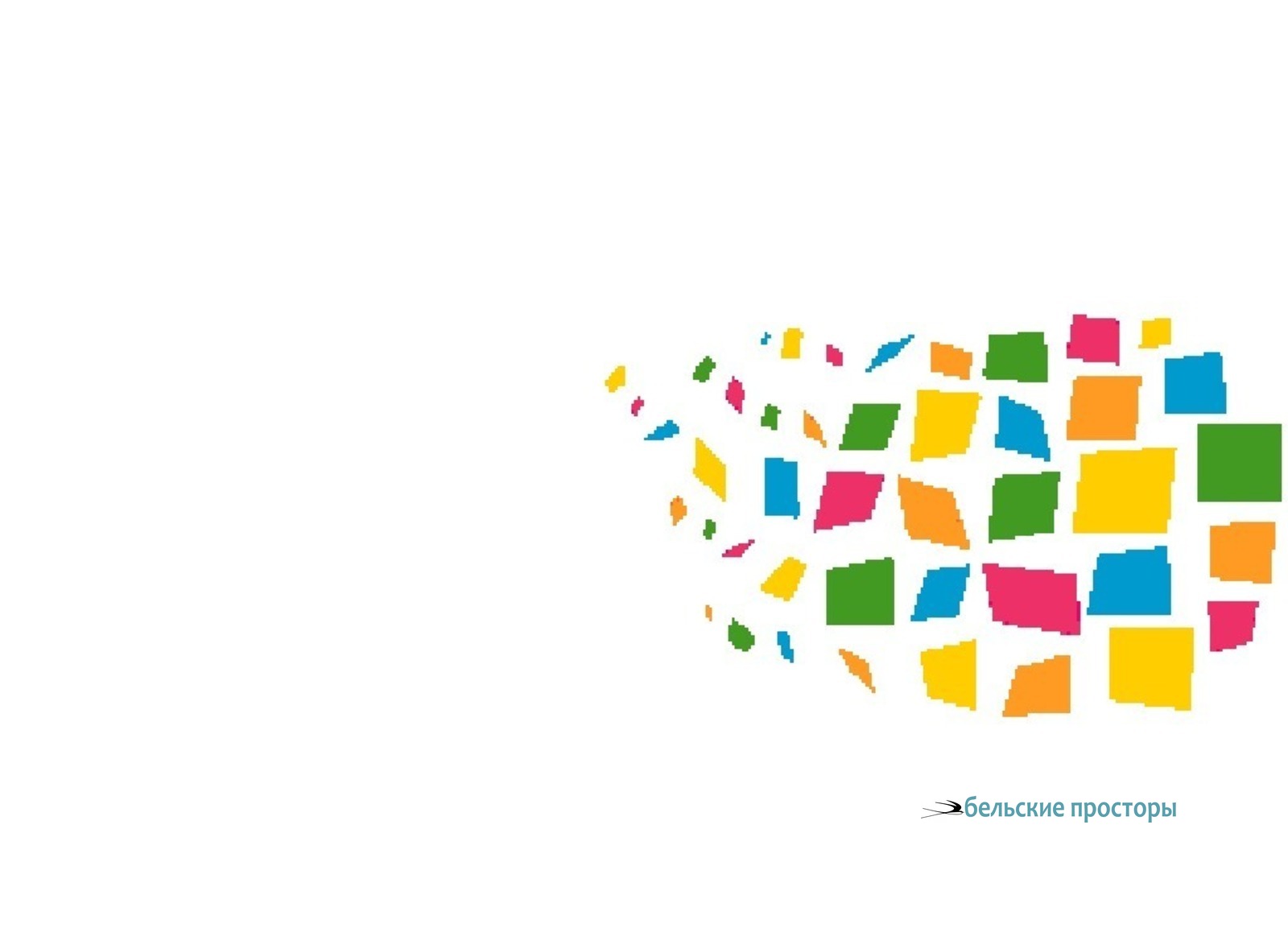
Александр Михайлович Светлаков родился 30 ноября 1940 года в деревне Загорск Иглинского района Башкирии. Окончил Уфимский автотранспортный техникум. Работал техником-механиком в «Башавтотрансе», начиная со слесаря по ремонту автомобилей и заканчивая главным инженером предприятия. Почётный автотранспортник России. Умер в Уфе 10 января 2017 года. Похоронен на Северном кладбище.
* * *
Я родился в 1940 году. В ноябре родился, а в 1941-м, в июне, началась война. Отец пошёл на фронт – я ползал. Вот мать осталась одна с десятилетней дочерью, девятилетним сыном и со мною, ползающим. Эту семью надо было кормить, воспитывать, смотреть за ними. А ещё от восхода до заката работа в колхозе. Не пойдёшь работать – лошадь не дадут. А лошадь не дадут – дров не привезёшь. А дров не привезёшь – замёрзнешь зимой. Вот за то, чтобы дали лошадь привезти дрова, вот за это она и работала всю жизнь. Ну там ещё было военное время, серьёзные требования и к колхозникам, и к рабочим. В общем, жила она. В 1942-м пришёл из госпиталя отец. Собралась вся деревня. А у нас избёнка маленькая была, пошли к Семёну Целищеву. А Семён – это сосед, муж папиной сестры, тётеньки Даши. Я всё бегал к ней: «Тётечка Дашечка, дай хоть корочку хлеба». Годы-то голодные, дома жрать нечего. Вернее, это сейчас жрать, а тогда хоть маленько пожевать корочку хлеба: «Тётечка Дашечка, дай корочку хлеба». Тётечка Дашечка, 35-летняя женщина, у самой трое таких же детей, которые просят кушать. Тем не менее она, отворачиваясь, скрывая свои слёзы, то кусочек свёклы варёной, то картошечку даст. Вот я через картошку, через усадьбу бегал к ней: «Тётечка Дашечка, дай корочку хлеба». О Семёне Аверьяновиче, человеке прекраснейшей души, я расскажу потом, там был случай.
Самовар
Ну вот, собралась у него в доме вся деревня посмотреть на первого солдата, вернувшегося с фронта искалеченным. И все бабы:
– Не видел ли моего? Не видел ли там моего?
– Да где – там?
– Да мой тоже на том фронте был.
Фронт-то, он на тысячу километров протянулся. Где там увидишь? Во всяком случае, до меня им дела никакого не было. А мне уже было около двух лет. Поставили они самовар ведра на два, потому что угощения больше никакого не было: капуста да чай, ну мёд был, потому что пчёлы были. Собрались у Семёна Аверьяновича все бабы деревни, потому что мужиков уже не было посмотреть на этого искалеченного человека, вернувшегося с фронта. Двухведёрный самовар кипит на табуретке, они за столом сидят, разговаривают. А я подошёл: самовар-то медный, блестящий, крутил-крутил его за этот кран – самовар-то возьми и свались вместе с табуреткой и со мной на пол. И вся вода, кипящая, двухведёрная – на меня. Вылить на двухлетнего ребёнка два ведра кипящей воды. Ох, спасибо тёте Варе Селезнёвой (у нас в соседях жила на краю деревни), которая единственная не растерялась. Она сказала: «Бабы, быстро домой, все яйца, которые есть, несите сюда!» По мере приноса яиц она наколола целый таз. Она в таз сливала только белок, а желток отбрасывала. И когда накопилось достаточно, они меня раздели и всего обмазали этим белком. И я через 15-20 минут был в панцире из высохшего белка яиц. Орал, не орал, я не знаю. Может, орал, а может, в шоке был; никто ничего не знает, история об этом умалчивает. Во всяком случае, до сегодняшнего дня у меня сохранились шрамы на левом боку и на спине. Это там, где, раздевая впопыхах, порвали вздувшиеся пузыри, – там остались шрамы. А где обмазали белком или кожа не успела вспузыриться, ничего не было. Никакой больницы, ничего, с ожогами не меньше 70-80 % двухлетний ребёнок выжил. Слава богу, остальное всё сохранилось: дал Бог жену, детей и внуков. Спасибо и на этом. Но вот отголосок войны не только отца, он и меня коснулся.
Тарантас
А другой случай ещё могу рассказать. Вспоминая Семёна Аверьяновича, я уже говорил, что это прекраснейшей души человек. В 1942-м голодном году, весной, отец ещё был в госпитале, я видел, что люди собирают вдоль забора траву. Что это за траву они собирали, я не знаю, наверное, как сейчас догадываюсь, крапиву. Я тоже, голодный, вышел на улицу, солнце пригревает, пошёл вдоль забора, нарвал травы, наелся. Какой – не знаю, может, той же крапивы. В общем, наелся, голод утолил. И меня после этого вздуло. Мать на работе, бабка одна дома. Вся деревня собралась, я валяюсь, как футбольный мяч, на ногах стоять не могу, падаю. Пригласили Семёна Аверьяновича: он служил раньше ветеринаром в конном полку каком-то, а здесь ухаживал за племенными жеребцами. У нас ведь тогда в колхозе была племенная ферма, где держали лошадей, на которых не работали. Они давали только племенное потомство для рабочих ферм. Здесь были племенные жеребцы. Привозили с Дона дончаков, племенных кобыл подбирали. Вот он занимался жеребцами. А жеребцам-то нужен променад. И вот он запрягал в санки или в тарантас жеребца и гонял вдоль деревни или вокруг неё. Он пришёл, видит, что я валяюсь, и деревня ничего не может сделать, одни бабы: что они сделают? Он схватил жеребца, запряг его в председательский выездной тарантас (на дубовых лотошечках стояла плетёная корзина, он был, как на рессорах, мягкий). Он знал, что если кто-то на него донесёт, то его за то, что он погубил народное имущество или взял без спроса колхозный инвентарь, могут и посадить, и загнать в тот же Карлаг или в Сибирь. Несмотря на это, он запряг племенного жеребца в председательский тарантас, бросил этот «футбольный мяч» в кошёвку, потому что оттуда я никуда не выпаду, и напрямки, по бездорожью помчал в районную больницу. По каким буеракам летел тарантас, не знаю. Но, переехав Бароновский овраг, выехав на Бароновское поле, я обмарал и дяденьку Семёна, и всю эту председательскую кошёвку, и племенного жеребца, всё, что в этой таратайке, и запросился домой: «Дядя Семён, отвези меня домой, я домой хочу!» Вот и всё лечение. Слава богу, Семён Аверьянович. Если бы он не растряс меня при такой бешеной гонке, я бы, наверное, лопнул от вздутия. Спас он меня.
Тётя Даша тоже добрейшей души человек. Но что они могли сделать? Это подневольные люди, без паспортов, без ничего. Если нужно было выехать на рынок, шли в сельсовет взять справку о том, что они, жители деревни Загорск, выезжают в город. Вот жизнь какая была.
Братья Светлаковы
Брат моего деда – Пётр Васильевич Светлаков, как его звали – дядя Пётр, был очень здоровый, сильный мужик. Ростом он был выше Ивана Васильевича и всё мечтал пойти на медведя с рогатиной, побороться с медведем. Были у дяди Петра сыновья – красавцы-мужики. Началась война, и всех четверых забрали на фронт. Муж тёти Насти Светлаковой, мой двоюродный дядя Николай был убит на фронте. Сын его с фронта пришёл с инфарктом и умер. На фронте тоже инфаркты получали, и много их было.
Сергей Петрович вернулся без ног с фронта. По двенадцать сантиметров берцовой кости осталось. Ни протез не цепляется, ничего. Были у него какие-то кожаные удлинители, через плечо их надевал. Но что он мог сделать? Он был ростом на этих удлинителях примерно с двенадцатилетнего мальчишку. Он всё делал на руках, на костылях. На руках надо подняться на табуретку, на руках надо подняться на стул, на руках подняться и сесть за стол. Всё у него делали руки. Бедный мужик! Сидя на табуретке, он мог столярничать, мог строгать, мог писать, работал учителем. К доске тоже надо подойти. А как возили его! Пурга, дорогу всю передуло, лошадь пройти не может по сугробам. Утром учителя везут ребятишки в школу. А это где-то с километр до школы. По сугробам на санках, санки перевернутся, учитель – головой в снег. А что он может сделать на своих обрубках? Руками барахтается, а они в снег проваливаются. Его поднимут, снова на санки посадят, пока до школы довезут, сами все умучаются и учителя умучают. Около печки погреется…
Он построил домишко. Потом купил дом. И ещё ученики его не слушались. Он же не может за шиворот никого взять, догнать не может, бежать не может. Все считали его неполноценным человеком. Ну, инвалид, инвалид. Боялись, уважали, но слушаться ребятишки не слушались. А в лес-то он ходить не мог. Столярничать мог, а материала у него не было. Надо же заготовить в лесу. Он просил моего отца:
– Михаил Иванович, сделай мне указку длинную, чтобы на доске показывать.
Сидел он сбоку от доски. Михаил Иванович пришёл домой и говорит сыну своему:
– Лёнь, Сергей Петрович просит указку длинную, чтобы хватало до четвёртой парты.
Лёня получил задание, пошёл, сделал. Сходил, нашёл кленовую заготовку, сделал указку. А парты стояли в три ряда по три парты. Классы небольшие были. Он сделал такую указку, что её хватало у Сергея Петровича до третьей парты. Кто начинал баловаться, он этой указкой – по башке. Он тогда вообще из-за стола не вставал, командовал только. Но указка эта была легендой. Все этой указки боялись как чёрт ладана.
Повесился мужик от такой жизни. Хотя у него были дети, но жена стала на стороне связи искать. Он дома сидит на костылях, а она уходит за ягодами с любовником. Вся деревня это видит, и ученики видят. Не выдержал мужик, повесился в своём доме на чердаке. Она от позора уехала.
Третий брат, Семён Петрович, тоже погиб на фронте. И остался один-единственный Алексей Петрович, который жил в Уфе. И у него двое детей: мои троюродные сестра и брат – Нина Алексеевна и Анатолий Алексеевич.
Выбор редакции
Новости партнеров
