Все новости
№12.2018. Круглый стол: современная молодая русская литература. Андрей Тимофеев. Игорь Савельев. Яна Сафронова. Евгения Декина. Пётр Фёдоров
Андрей Тимофеев. Современная молодая русская литература как продолжение литературы Андрей Николаевич Тимофеев родился в 1985 году в городе Салавате Республики Башкортостан. Окончил Московский физико-технический институт и Литературный институт им. Горького (семинар М.П. Лобанова). Публиковался в журналах «Наш современник», «Новый мир», «Октябрь», «Бельские просторы», «Роман-газета» и др. Лауреат премии им. Гончарова в номинации «Ученики Гончарова» (2013), премии «В поисках правды и справедливости» (2015), премии им. Кузьмина журнала «Наш современник» (2016). Член Правления Союза писателей России, председатель Совета молодых литераторов Союза писателей России. Живёт в Москве. Игорь Савельев. «литература + …»: иные стратегии молодых писателей Игорь Викторович Савельев родился в Уфе в 1983 году, окончил Башкирский государственный университет, работает журналистом (обозреватель РБК в Уфе). Автор книг прозы «Терешкова летит на Марс» (2012, второе издание 2015), «ZЕВС» (2015), «Вверх на малиновом козле» (2015), «Без тормозов» (2016), выпущенных издательством «Эксмо» (Москва) в серии «Проза отчаянного поколения. Игорь Савельев», и др. А также четырех книг, изданных в переводах на французский и английский языки. Лауреат Государственной республиканской молодежной премии им. Ш. Бабича (2013). Лауреат премии «Лицей» (2018). Член союза писателей Башкортостана, Союза писателей России и редколлегии журнала «Бельские просторы». Яна Сафронова. Миф и реальность. О прозаическом семинаре на Совещании молодых литераторов «Драматургия слова» в Уфе 3–4 ноября Яна Владимировна Сафронова родилась в 1997 году в Смоленске. Учится на четвёртом курсе Московского государственного института культуры, специальность «литературное творчество». Печаталась в журналах «Перелески», «Невский альманах», газетах «День литературы», «Российский писатель» и др. Член Союза писателей России. Живёт в Москве. Евгения Декина. Ориентация на хит Евгения Декина родилась в Прокопьевске Кемеровской области. Окончила Томский государственный университет и сценарно-киноведческий факультет ВГИК. Финалист премии «Радуга» (2016), лауреат премии «Звездный билет» (Аксенов-фест, 2016), премии «Росписатель» (2016), член союза писателей Москвы, России, международного ПЕН-центра. Пётр Фёдоров. Как вырвать детей из сетей? Пётр Ильич Фёдоров – сотрудник библиотеки БГПУ им.М. Акмуллы
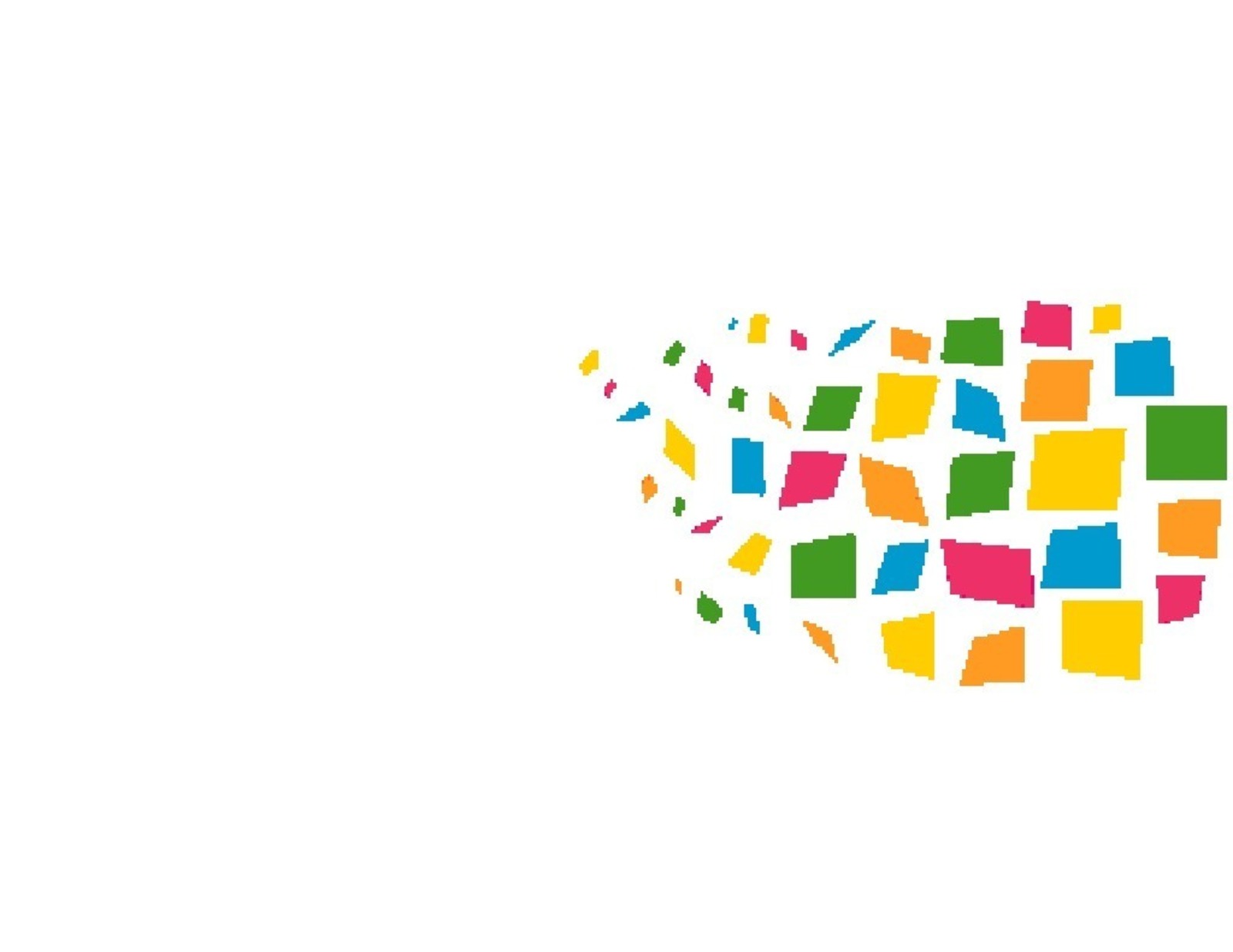
Современная молодая русская литература
Круглый стол
В рамках Всероссийского совещания молодых литераторов Союза писателей России «Драматургия слова», которое состоялось 3–4 ноября в Уфе, прошел круглый стол, посвященный проблемам современной молодежной прозы. Писатели и литературные критики обсудили отсутствие крупных авторов уровня Толстого и Достоевского и кризис чтения, давно вышедший за пределы России.
Андрей Тимофеев
Современная молодая русская литература как продолжение литературы классической
Веками существующее противостояние между западниками и славянофилами, обострённое сейчас с новой силой, всё чаще и чаще превращается на наших глазах в битву маргинальных позиций и прямолинейных поверхностных лозунгов. С одной стороны из стана западников-либералов постоянно раздаются слова, пропитанные ненавистью к России и русскому народу; с другой стороны ряды консерваторов пополняются теми, кто чутко чувствует перемену политического ветра и готов формировать свою общественную позицию из конъюнктурных соображений. Война одних с другими напоминает театр абсурда или политическое ток-шоу. Но самое главное, что ни с теми, ни с другими конструктивный диалог невозможен, а изматывающая борьба с маргинальными взглядами лишь отнимает силы (даже если эти взгляды принадлежат известным и раскрученным в чаду смутного времени персонажам).
Однако если оставить в стороне маргиналов и перейти в плоскость противостояния взвешенных позиций, заслуживающих внимания, можно увидеть, что конструктивный диалог (или, по крайней мере, обозначение мнений) возможен. И ключевой, на мой взгляд, вопрос, в котором расходятся современные либералы и консерваторы и который нуждается в плодотворной обсуждении, это вопрос о соотношении традиции и современности. А если говорить непосредственно о литературе, то о соотношении классики и текущего литпроцесса.
Для либерального взгляда классика это то, что было актуальным раньше, а сейчас уже потеряло живую ценность, и потому всякое сравнение современной литературы с классической непродуктивно – изменилось время, изменился язык, изменились проблемы и задачи. Пушкин, Достоевский и Толстой для такого взгляда – гениальные выразители своего времени, у которых можно теперь разве что учиться художественному мастерству. Выразить живую современность в её непосредственности, в её едва уловимом хаотическим движении – вот задача литературы по мысли либерального писателя или критика.
Консервативный же взгляд, напротив, ищет в традиции основу, ориентир, нравственный камертон для движения в новых исторических условиях. Время меняется, а Идеал, к которому мы стремимся, остаётся – вот главный тезис консервативной позиции. И потому, по словам Герцена (кстати, западника), «полнее осознавая прошедшее, мы уясняем современное; глубже опускаясь в смысл былого – раскрывает смысл будущего; глядя назад – шагаем вперёд». А значит, следовать за Пушкиным, Достоевским и Толстым вовсе не означает жить старым, а помогает в реальной современной жизни открывать какие-то явления и тенденции на той же глубине, на которой искали и находили их великие классики прошлого.
Два разных акцента – два разных, практически противоположных, взгляда. Один говорит о современности как о торопливом рассмотрении поверхностных явлений; другой пытается осознать глубинные процессы, происходящие сегодня, используя опыт прошлых веков. Один готов идти в любую сторону и каждый путь уважает и может признать верным; другой старается рассмотреть свет Идеала и прокладывать тропу лишь в его направлении.
Консервативный ответ на вопрос традиции и современности, взятый во всей своей полноте, без маргинальных упрощений, приводит нас к восприятию литературы как единого масштабного процесса со своими внутренними законами. Этот процесс, безусловно, невероятно глубокий и сложный, но в тоже время внутренне логичный, так что, внимательно изучив его, можно понять принципы развития литературы и даже заглянуть в будущее. Сейчас часто говорят, что настали принципиально иные времена, мир стал хаотичным, дробным и единого процесса развития существовать не может. Но это, на мой взгляд, скорее, от неумения настроить оптику, шелуху отделить от главного.
Отечественная критика (и в особенности критика 60-х – 80-х годов XX века в лице таких авторов, как Кожинов, Лобанов, Селезнёв, Палиевский) занималась напряжённым осмыслением тысячелетнего пути русской литературы именно как единого процесса, и именно в таком осмыслении (а не в простом разборе произведений различных авторов) видела своё подлинное назначение. И мы теперь можем следовать по этому проторенному пути, обнаруживая основание духовно-нравственных исканий русской литературы в её древних памятниках, таких, как «Слово о Законе и Благодати» и «Повесть временных лет»; наблюдая, как русское народное самосознание впервые во всей целостности воплотилось в личности Пушкина; как напряжённо и трагически искала русская литература возможность преодолеть «пошлость пошлого человека» в произведениях Гоголя; как пыталась «при полном реализме найти в человеке человека» в романах Достоевском; как спускалась на неведомую ещё литературе глубину человеческого характера в диалектике Толстого; как приходила к потрясающей широте народного у Шолохова; как внезапно выражала то советское, что являлось частью подлинно-русского, в лице Андрея Платонова и Леонида Леонова; как копила мудрости в военной прозе 60-ых и выражала накопленное в произведениях писателей-«деревенщиков».
«Деревенская проза» – это, пожалуй, последнее мощное явление в русской литературе на сегодняшний момент. Конечно, под «деревенской прозой» мы подразумеваем вовсе не узко-тематическую литературу о деревне и крестьянстве, а те наиболее значительные художественные произведения Василия Белова, Валентина Распутина, Виктора Лихоносова, Фёдора Абрамова, Виктора Астафьева, Евгения Носова, которые в первую очередь занимались нравственным здоровьем человека – и человека настоящего, и человека будущего. У деревенского направления были и другие цели – выражение народного самосознания, развитие и обогащение языка художественной прозы, сохранение памяти об укладе народной крестьянской жизни, решение насущных общественных проблем, но поиск и утверждение нравственного идеала было целью первоочередной.
Во избежание недоразумений здесь необходимо оговориться, что нравственный идеал, которым так поразили читателей «деревенщики» и в особенности – Василий Белов, это не образ эдакого настоящего святого, т.е. не собственно христианский Идеал, о котором говорится в Евангелии и соединения с которым здесь, на земле, достигали святые. Нравственный идеал в отечественной литературе, это понятие не религиозное, а русское, родовое, лишь проникнутое любовь и искренним принятием христианской Истины в народную жизнь. Так получилось, что наш народ, в какой-то исторический момент своего существования принявший христианскую Истину (кстати, не так уж легко, не без сопротивления), так полюбил Её и так пропитался Ею, что христианское мировоззрение стало его собственным характером, бессознательно хранящимся в нашем генетическом коде, передающимся от поколения к поколению. Это не собственно христианство, а внутренняя отзывчивость к христианским ценностям, взрыхлённая почва, готовая принять семя. Но насколько же удивительна и таинственна эта особенность, волновавшая крупнейших русских писателей и мыслителей, пленившая Достоевского, увидевшего её первое полноценное воплощение в Пушкине, – это невероятное богатство, осмыслению которого в той или иной степени посвящена вся наша литература и философия. Ведь именно это родовое стремление к нравственной целостности и спасло наш народ, когда в советский период нашей истории мы лишились полноценного знания о Боге, и чудесным образом воплотилось и в святую для нас Победу над фашизмом. И именно оно проросло в творчестве Белова, Распутина, Лихоносова и других подлинно русских писателей советского периода, и в этом смысле писатели-«деревенщики» это несомненные продолжатели традиций классической русской литературы Пушкина, Достоевского и Толстого.
Беловский Иван Африканыч – по степени нравственной целостности наследник Татьяны Лариной, Обломова, капитана Тушина. Это не праведник, а человек, близкий нам, и если не всегда является безусловным примером для подражания, тем не менее, показывает нам пример подлинной душевной чистоты. Это народный характер, в котором жизненная философия и живая жизнь слиты воедино, и потому и само «Привычное дело» так органично и являет собой не просто рассказ о жизни, но как бы саму жизнь, выплавившуюся в прозу. Напротив, другой любимый герой Белова – Константин Зорин, хоть в чём-то и похож на Ивана Африканыча по характеру, являет собой человека, выбитого из системы нравственных ценностей, раздробленного, зависшего между деревней и городом, мучительно ищущего своё, но не находящего – это, скорее, духовный наследник Онегина и Печорина. Так в творчестве Белова находит воплощение противопоставление Татьяна Ларина – Евгений Онегин, в которых Достоевский видел два типа русского человека.
Деревенское и городское для Белова – не просто уклады жизни, а воплощения нравственной цельности и нравственной раздробленности, что особенно ярко видно в сравнении женских образов Катерины и Тони, психологически спрямлённых у Белова до символов – предельной любви и предельного эгоизма. И не случайно Беловского Онегина Константина Зорина так тянет к спокойствию деревенской жизни. Но он, уже заражённый распадом, так и не может до конца приникнуть к живительному укладу жизни, дарующему желанную душевную целостность. Потому-то, скажем, в «Плотницких рассказах» Зорин не может до конца понять взаимоотношений стариков Олеши и Авинера – его «городской» поверхностный взгляд ищет лишь внешнего примирения между ними, не замечая неизмеримо более глубокой связи, которую не способны разорвать ни обиды, ни ругань. Другой пример – рассказ «Свидания по утрам», на первый взгляд, распадающийся на две различные части, неловко соединённые грубым швом. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что это вовсе не шов, а попытка в одном произведении столкнуть два мировоззрения – нравственно целостное матери Тони, пропитанное любовью к людям, и нервное, эгоистичное Зорина, обретающее лишь краткое успокоение в объятии дочери.
Идут годы, меняется эпоха. Но подлинная литература, этот сложнейший, но внутренне логичный процесс, движется вперёд. И для современных молодых писателей, о которых я хотел бы сказать несколько слов в конце своего доклада, творчество «деревенщиков» ценно не только само по себе, но имеет огромное значение как ближайший по времени всплеск русской литературы, и хоть бессознательно, но лучшие современные молодые авторы не могут не ориентироваться на это явление, как на важнейшее и знаковое. Разумеется, ориентироваться вовсе не значит обязательно писать о деревне и вовсе не значит подражать (напротив, подражание деревенщикам родило целый пласт мертвенного эпигонства). Дело в нравственном ориентире, в камертоне, которым можно поверять современную жизнь и современную литературу, – в конечно счёте, в том нравственном идеале, который всегда имела перед собой русская литература.
Но, восприняв наш родовой нравственный идеал, а вернее – открыв его в своей душе, нельзя замкнуться на изображении его, нельзя игнорировать, что современность властно приходит в нашу жизнь. В конечном счёте, подлинная литература никогда не живёт прошлым, а всегда осмысливает своё время, даже если тематически говорит о далёких от нас временах. Понять, что нового современная эпоха открывает внутри нас и как русский народ в своей целостности воспринимает текущий этап своего развития – значит разрешить вопрос об отражении своего времени максимально полно и глубоко.
Это серьёзнейшая задача, и мне хотелось бы кратко остановиться на нескольких современных молодых писателях, которых я отношу к, так называемому, «новому традиционализму», чтобы показать, как они пытаются эту задачу решить.
Когда я читаю повесть Андрея Антипина «Дядька», я ясно вижу, как в ней история деревенского мужика Мишки, ведущего бесцельную, пьяную неприкаянную жизнь и так же бесцельно и нелепо умирающего, оборачивается историей о русском народе, раздавленном трагедией 90-ых годов. Но для Антипина трагедия вовсе не в смене политического строя, а в потере ощущения высшего смысла и правды, ради которых раньше жил человек; а вот теперь, лишённый идеала и не способный удовлетвориться мещанской жизнью, гибнет весь русский народ, как гибнет главный герой повести Мишка. Это уже – серьёзно само по себе, но главное – в другом. Когда я читаю следующий рассказ Антипина «Смола», я понимаю, что передо мной не просто история об очередном деревенском мужике по кличке Пузырёк, а рассказ о внезапном обретении в этом человеке, на первый взгляд, вруне и рваче, готовности отдать последнее и распахнуть душу, казалось бы, совершенно постороннему человеку. И это качество ценно для Антипина не само по себе, а как залог того, что народ, «который поёт и плачет, и скачет через палочку на краю, но умеет остановиться и опахнуть такой искренней и нерастраченной красотой, какую ты и не подозревал в нём», не погибнет и не закончится. Т.е. автор не просто двигается от текста к тексту, но пытается решить для себя серьёзную творческую задачу: осмыслить трагедию народа и найти в глубине его нравственные силы для возвращения к жизни.
Роман Дмитрия Филиппова «Я русский», достаточно рыхлый и неровный, буквально взывающий о превращении себя в повесть путём сокращения публицистических вставок и необязательных сцен, тем не менее, в полной мере обладает серьёзностью поставленной художественной задачи. И опять-таки не сводится к истории о том, как любимая девушка главного героя была изнасилована кавказцем и как, заплатив последние деньги бандитам, тот добивается выдачи насильника, но в последний момент понимает, что не способен на убийство даже этого человека. Девушка Слава для Филиппова – идеал, олицетворяющий поруганную Родину. Но убийство для него не способ восстановить справедливость – так, мучительно пытаясь найти ответ на тот же вопрос, что и Антипин, Филиппов приходит к утверждению милосердия единственным оружием борьбы со злом, поглощающим его Родину.
Однако дело не только в том трагичном историческом переломе, который совершился с Россией в конце 80-ых – начале 90-ых годов; дело в том, что в современном мире размывается само понятие о добре и зле, которое веками хранил в себе человек. И если авторам деревенской прозы идеал виделся ясно и явно: «добро и зло отличались, имели собственный четкий образ», и лишь угадывались в людях то, что добро и зло вскоре перемешаются, что «добро в чистом виде превратится в слабость, зло – в силу», то современные писатели получили в наследство от морока 90-ых годов не только разрушенную страну, но и повреждённый нравственный облик человека. И это, безусловно, ещё один вызов, с которым новому поколению придётся столкнуться.
В наше время подчас недостаточно лишь указать на сторону добра, чтобы побудить двигаться к нему. И потом меня поражает ещё один современный молодой прозаик Юрий Лунин тем, что умеет подвергнуть тщательнейшей проверке всё, к чему обращается, и ничего не удовлетворяет его само по себе, пока он не убедиться в его подлинности. Такую проверку на высочайшем уровне психологической точности проходят у Лунина любовь к отцу в рассказе «Через кладбище», вера в рассказе «Успение», любовь к женщине и семье в повести «Клетка». В рассказах двух других прозаиков Алёны Белоусенко и Жени Декиной удивляет меня стремление и умение этих авторов органично показать преображение героя: у Белоусенко под воздействием чужой человеческой теплоты, у Декиной – путём обретения внутренней силы.
Таким образом, мы видим, что и современные молодые прозаики пытаются ставить перед собой задачи серьёзнейшие и нравственные. И в этом залог того, что русская литература не прервётся, но будет развиваться и в дальнейшем – и что уроки классики (и в частности – «деревенской» прозы) будут молодым поколением усвоены и воплощены в творчестве, а самое главное – в жизни.
Игорь Савельев
«Литература + ...»: иные стратегии молодых писателей
Сразу же я хотел бы и поспорить с Андреем Тимофеевым, потому что сводить литературу 90-х годов и, например, русский постмодернизм к тем сценам, которые он привел (из прозы Владимира Сорокина) – это то же самое, что описывать литературу конца XIX века в ключе, что она представляет собой смакование убийства невменяемой матерью новорожденного ребенка (Чехов, «Спать хочется») или породила в Европе и в мире моду на бросание под поезд (благодаря всемирной славе «Анны Карениной»).
Но я хотел бы сказать о другом, вернее, направить то, о чем говорил Андрей, в несколько иное русло. Те явления, которые он представляет как «конец большой литературы», означают, скорее, конец эпохи массового чтения художественной литературы, и это общемировой процесс. Правда, в России 90-х он оказался усилен тотальным кризисом общества. Я не буду сейчас перечислять, все мы понимаем, что произошло в 90-е, люди потеряли финансовую возможность покупать книги, журналы, возможность читать, они потеряли «физическую возможность» это делать (ты не возьмешься за книгу, если тебе не платят зарплату, нечего есть и по ночам ты идешь разгружать вагоны или таксовать, условно говоря). Рухнуло всё, что составляло инфраструктуру «самой читающей страны в мире»: подписка на журналы и книги, система книготорговли и т.д. Это совпало по времени с общемировым трендом: бурное развитие телевидения, индустрии развлечений, появление интернета, затем и смена самих механизмов восприятия информации. Не случайно психологи, педагоги сегодня говорят, что бесполезно заставлять детей читать, их мозги уже не настроены на этот тип восприятия информации, это факт эволюции. Не говорю уже про многое другое – например, в России – тот же крах цензуры, когда, условно, то, что можно было прочитать только в «Новом мире» между строк «под видом» прозы или критики, окололитературной публицистики, теперь можно было напрямую читать в любой из миллиона появившихся газет.
Вот эта «катастрофа чтения», с которой столкнулась русская литература в начале девяностых, очень на нее повялила. Эту травму болезненно приняло старшее поколение, она изменила их творчество (берем ли мы Астафьева, Распутина, Вознесенского, кого угодно). Эта катастрофа выбила из профессии многих из поколения начинавших в 80-е – 90-е. Тогдашние молодые писатели, мыслившие в матрице массового чтения, просто не были к этому готовы. Показателен будет пример Ольги Славниковой, принадлежавшей к тому меньшинству, которое позже – уже в более зрелом возрасте, в конце 90-х, в нулевых, «вернулись» в профессию. Славникова в конце 80-х была, как принято говорить, «подающей надежды» молодой писательницей Свердловска, ее открыл журнал «Урал». В 1991-м, когда в Средне-Уральском издательстве готовилась ее первая или вторая книга, новый владелец издательства заявил ей, что набор рассыпают, это уже никому не нужно, они будут печатать эротическое чтиво и детективы. Славникова ушла из писательской профессии, разочаровалась, занималась бизнесом, правда – связанным с книготорговлей, и как-то почти случайно в конце 90-х напечатала роман «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» (он писался в стол, для себя, но в какой-то момент умирающему «Уралу» оказалось физически нечего печатать), попала в букеровский шорт-лист, уехала в Москву, в общем – со второго захода стала писательницей, может быть, одна из десяти. А девять не стали. Я думаю, авторы из ее поколения, в том числе костяк сегодняшних «Бельских просторов» (Юрий Горюхин, Светлана Чураева, Игорь Фролов), могут многое рассказать и о том, как они все-таки начинали вопреки всему, и о том, сколько их сверстников были выброшены из литературы этими процессами.
Плавно подводя к современной «молодой литературе» (понятно, что границы тут могут быть довольно широкие – условно, от Захара Прилепина и Романа Сенчина до сегодняшних семинаристов), я бы обозначил в качестве главной черты не «возвращение к реализму», о котором говорит Андрей, не какие-то прочие «эстетические» явления (они слишком разнообразны, чтобы обобщать), а, скорее, один мощный социокультурный фактор. Это поколения (поколения), готовое (-вые) к ситуации «литература без массового читателя». Они выросли, а многие и родились, когда было уже так, и у них не было иллюзий, что «писатель – властитель дум», «духовный лидер масс» и так далее. Да, каждый из лучших представителей этих генераций пытается изменить это по-своему, чтобы все-таки стать тем самым «властителем дум», но он – в отличие от старших поколений еще советской закалки – не считает, что это дано ему априори. Локальность, камерность интереса к современной литературе может пониматься им как справедливая, не справедливая, но как некая данность, которая есть, и надо работать в этих условиях.
И интересно, что те самые «лучшие представители» поколения (по крайней мере, самые известные, успешные, «витринные») – почти все – сочетают собственно литературу с другими формами публичной, медийной активности. Это понимается ими как ракета-носитель, которая выносит собственно литературу, книгу на какую-то высоту, где уже можно рассчитывать на сколько-нибудь серьезное прочтение.
Здесь можно говорить о нескольких моделях. Может быть, и не стоит останавливаться подробно на примерах, потому что практически каждый успешный автор из поколения 20-летних – 30-летних (с заползанием на «сорокалетних», если уж мы затрагиваем тех, кто дебютировал в 2001 – 2003 годах) может быть включен в эту схему.
Это, например, «литература + политика». Если понимать политику широко, в том числе как яркую гражданскую активность – потому что политика классического типа была у нас отправлена на помойку: все «нулевые» годы идеологи вдалбливали в головы молодежи, что заниматься политикой не нужно, что это не прикольно, что в тренде аполитичность (забавно, а может быть, и закономерно, что Ксения Собчак, как одно из лиц этой «аполитичности нулевых», насаждаемой, в том числе, из сурковского кабинета, оказалась сегодня одним из альтернативных политических лидеров). Первыми «писателями-политиками» оказались Сергей Шаргунов и Захар Прилепин, фигуры, которые были достаточно близки друг к другу – и левыми взглядами, и стремлением к лидерству на площадях, и заигрыванием с либеральным флангом, то есть определенной «всеядностью» (например, в выборе стратегии литературного успеха, потому что сектор «Нового мира», «Букера», АСТ, переводов etc был в этом куда перспективнее идейно близкого им сектора «Нашего современника» и прочих медалей им. Шолохова). Каждый из них прошел большой политический путь – через митинги, выборы, скандалы, даже, кажется, аресты – в результате которого один сидит сегодня в кресле депутаты Госдумы от КПРФ, другой стал одним из лидеров непризнанной ДНР. У каждого из них политическая, гражданская активность хорошо работала на продажи книг. У Шаргунова текст оказался сильнее переплетен с «не-текстом», потому что его проза более автобиографична, а в чем-то и публицистична (но, с другой стороны, и у Прилепина – «Обитель» можно понимать как политическое высказывание, книгу о Леониде Леонове в «ЖЗЛ» можно понимать как политическое высказывание, и т.д.).
Интересно, что хотя сегодня политическая активность, в том числе (да в первую очередь) – протестная активность в обществе сильнее, эту нишу так толком никто и не занял. Может быть, на статус «главного писателя-политика» в нашем поколении претендует сегодня Алиса Ганиева. Свою гражданскую активность, достаточно широко известную в Москве, она сочетает с большей «политической ориентированностью» прозы: если ее первые книги («Салам, Далгат», «Праздничная гора», «Жених и невеста») были погружены в мир Кавказа, хотя и тоже не лишены гражданско-публицистической основы, то новый ее роман «Оскорбленные чувства» связан уже не с Кавказом, а с «большой Россией», и представляет собой заметное высказывание политика.
Модель «литература + кино», казалось бы, вполне естественна: писатель часто становится поставщиком «литературной основы» для кинофильмов, или выступает как сценарист, это не новость. Но в нашем поколении есть примеры, когда кино, киноязык, сама бОльшая «публичность» киноискусства влияют на прозу и на «образ писателя». Например, Денис Осокин, один из любимых моих писателей. Помню, как в 2005-м меня потрясла его первая публикация в «Октябре»: «Ящерицы набитые песком» (именно так, без запятой) – такой невообразимый симбиоз поэзии и прозы (кстати, с подобными симбиозами сейчас работает еще один яркий молодой автор – Максим Матковский). Проза Осокина, погруженная в мир, близкий к миру магических реалистов (только его материал – фольклор народов Поволжья), сколь прекрасна, столь и «не читаема», она элитарна даже по форме, у нее не может быть массового читателя. Но появилось кино, появился режиссер (Алексей Федорченко), который смог «расшифровать» эту прозу для экрана. Получившиеся фильмы – «Овсянки», «Небесные жены луговых мари» – прозвучали достаточно громко, шли в российском прокате, получали призы на мировых фестивалях, и это повлияло на то, что Осокина стали читать, издавать, то есть он не такой «камерный» автор, как был когда-то. (Кстати, автор, по прихоти публики вырастающий из «камерного» в читаемого, несмотря на то, что проза, вроде бы, не готова для этого даже формально – не такая редкая модель сегодня: вспомните «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова, «Убить Бобрыкина» Александры Николаенко).
Модель «литература + музыка» – пожалуйста, Евгений Алехин, который начинал как один из многих авторов, пишущих «под Чарльза Буковски» (публикации в «Новом мире» и «Знамени», книги в «Эксмо»), но отошел от литпроцесса и книжной индустрии, чтобы стать достаточно известным рэп-музыкантом (проекты «Макулатура», «Ночные грузчики»), и уже в этом качестве «зайти» в литературу снова. Алехин и группа молодых писателей, сотрудничающих с ним, не признают «власти корпораций» в лице «Эксмо», АСТ, книготорговых сетей, создали собственное независимое издательство («ИЛ-music»), продают книги на концертах и через фан-группы, и показатели продаж там вполне могут посоперничать с показателями начинающих авторов, проходящих через «Эксмо», например.
«Литература + эстрада» более свойственна поэтам (это и логично), и здесь образовалось свое созвездие, в котором можно перечислить не меньше десятка ключевых имен: да, люди литературы спорят о качестве стихов Веры Полозковой или Евгения Соя, но эти поэты собирают если и не «стадионы», как их предшественники из 60-х, то большие концертные залы (в том числе и в регионах) – точно. Есть опыты работы по такой модели и в прозе, например, прозаик Александр Снегирев, «выпускник» премии «Дебют» и самый молодой, если не ошибаюсь, лауреат Русского Букера, активно выступает вместе с эстрадно-литературным проектом «БеспринЦЫПные чтения».
Продолжать можно достаточно долго. Модель «литература + другая форма медийности» становится сегодня, фактически, единственной для тех, кто не только хорошо пишет, успешно издается, но и нацелен на успех у более-менее широкой читательской аудитории.
Яна Сафронова
МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ
О прозаическом семинаре на Совещании молодых авторов «Драматургия слова» в Уфе 3-4 ноября.
В рамках Совещания молодых авторов «Драматургия слова» в Уфе прошли двухдневные семинары, на которых обсуждались тексты молодых писателей. Для меня каждая такая встреча – литпроцесс в миниатюре, и эта не стала исключением. На нашем семинаре прозы были представлены самые разные тексты различного уровня качества, но все они так или иначе позволили участникам семинара и мастерам лучше понять типологию современной молодой прозы.
Из одиннадцати работ две принадлежали к сегменту так называемой «женской» прозы. Помимо общеупотребимых для этого типа рассуждений о подлой природе мужчин, тяжёлой участи женщин и фантазий о солнечном американском городке (на завтрак «капкейки», на обед «манговый фрэш», а на ужин «тёплый плед воспоминаний»), встретилось одно интересное для размышления произведение. В нём ангел и Бог задумали свести парня и девушку, наблюдали за их действиями по отношению друг к другу (внимательно считали «лайки» в соцсетях), создавали ситуации потенциальных встреч для будущих влюблённых. Безусловно, сложно было воспринимать небожителей как двух сплетничающих подружек, но вот когда повествование приобрело случайную политическую окраску, верить ему даже в рамках игры стало невозможно: «Вечно куда-то торопится. Поэтому на улице их вообще не вариант сводить. Не увидят друг друга. Он в «Молодую Гвардию» вступил, думаю, ее на работу определить в исполком «Единой России»». И подумалось: вот ведь насколько молодой автор оторван от реалий, если всерьёз пытается убедить читателя в том, что любовные истории в «Единой России» сюжетируются на небесах.
Были и робкие попытки детской литературы, скорее наброски, чем готовые рассказы. Один из авторов вынес на обсуждение прозаическую оду любимому району: он описывал дорогой для него мир Черниковки . Из всего внушительного массива текста ценной показалась единственная попытка образного преломления художественного пространства, всё остальное напомнило скорее экскурсионно-историческую справку.
Но интереснее всего дела обстояли с текстами, речь о которых пойдёт ниже. Оставшиеся шесть произведений разделились в равной пропорции, три на три. В первой «тройке» молодые писатели реалистически осмысливали мир, либо проникая в психологию своих героев, либо фиксируя приметы времени. Вторая группа справлялась с художественной задачей с помощью мифологизма, по-своему интерпретируя и реализуя мифологические и фольклорные сюжеты. Сразу оговорюсь, что «реалисты» в данном случае оказались значительно слабее. Именно произведения мифологического толка стали лучшими текстами семинара. Возможно, связано это с тем, что для молодого автора легче создать некий искусственный мир, чем художественно осознать существующую реальность.
Первый шаг на пути этого осознания – проживание и рефлексия внутреннего опыта через своего героя. Примером тому служат работы самого молодого участника семинара прозы. Предмет его литературного интереса – самоощущение героя в экстремальной ситуации: например, на похоронах одноклассницы, или в случае с обездвиженным посреди улицы человеком. Но если своего героя молодой писатель знает хорошо и показывает нам его внутренний мир с дотошной доскональностью, то когда дело касается других персонажей, впадает в нежизнеспособные фантазии по поводу того, как должны вести себя люди в стрессовом состоянии. Потому пока это лишь самосоредоточенная, углублённая в самое себя автора проза. Та же проблема возникла и у следующего «семинариста». Начинающий писатель в излишних бытовых подробностях живописал мир детства, но не смог сделать его интересным и дорогим для читателя.
Второй шаг в контексте семинара – это масштабный взгляд на происходящее с обществом, выявление его типажей и тенденций на конкретном этапе исторического развития. Но мало снять «верхний» слой, напыление времени. Мало констатировать, что современное общество потребления определяется статусом в социальной сети и некими внешними атрибутами. Хотелось бы разговора о причинах, ухода «вглубь» явления, а не только лишь иронии по этому поводу. Всё вышеперечисленное относится к прозаической подборке ещё одной писательницы, где она в саркастической манере рассказывала о молодых людях, которые живут «биткоинами», «новостными дайджестами» и «токсичными отношениями». Правда, ближе к концу своего диагностического исследования всё же «сорвалась» в историю неожиданно идиллической любви, забыв обо всём столь остроумно сказанном до этого.
Итак, отсутствие реалистических удач в семинаре ведёт к разговору о мифологизме в молодой прозе. Три лучших, на мой взгляд, текста обсуждения – это цикл зарисовок по мотивам уфимских мифов Андрея Королёва «Бабушкин сундук»; оригинальная интерпретация всем известной истории, повесть «Русалка» Татьяны Филатовой; тематически прилегающий к ней отрывок из романа «Охота на медузу» Натальи Уваровой. Все эти произведения написаны насыщенным, инверсивным поэтичным языком («Русалка» Т. Филатовой): «А я люблю косить. Идёшь по млечному от утренней дымки лугу, путаясь ногами во влажной траве, ёжишься от прохладного ветерка, а заря алеет на краю неба, прогоняя ночь. Косцы встали в линию, я – один из последних, самый младший. Зазвенели косы в траве. Взмах, и разноцветные головки цветов, полосами попадали на сырую землю. Косцы, все как один, твёрдым шагом в тишине двигались друг за другом, только косы свистели». Все упомянутые работы также несколько хаотичны, но одновременно динамичны и держат читателя в здоровом жанровом напряжении.
Думая об этих текстах перед обсуждением, я поняла, что говорить о них следует в связи, воспринимать как часть единой системы. Ведь мифологизм можно разделить на три ступенчатых типа, и движение от первой ступени к последней может стать залогом роста для молодого писателя, пробующего силы в данном направлении.
Первый тип мифологизма – создание герметичного мира, где действуют свои законы. Герой ведут себя в соответствии с ними, а психологизм заменяется мифологической моделью. «Бабушкин сундук» Андрея Королёва относится именно к этой категории. «Кадим взял саблю и несколько дней пропитывал ее потом своей лошади. Это всем потам пот, иной раз разъедавший даже людей. Этой саблей змею удалось срубить. Сделав все по правилам, он сунул труп в мешок и отправился домой. Только дома его никто не признал – напившись горного воздуха, Кадим стал карликом и даже со своей победой в руках был такой неузнаваемый, такой неродной», – то есть, существуют определённые правила, свод мифологических предписаний, которые и приводят к метаморфозе. Собственно, сама эта метаморфоза и важна, а не та психологическая ситуация, к которой она приведёт. Если распространять этот пример, то можно упомянуть молодого писателя Дениса Осокина. Герой его произведений – загадочный народ мари, живущий по своей уникальной грамоте.
Второй тип мифологизма – произведения, основанные на мифе, но преодолевающие его законами живой жизни. Таким образом в «Русалке» Татьяны Филатовой перед нами не просто переписанный фольклорный сюжет, но история о настоящей любви и самопожертвовании. Весения – в первую очередь девушка, которая не хочет навредить своему возлюбленному, и уже потом – сказочное существо. То же и с обманутой морским царём героиней романа «Охота на медуз» Натальи Уваровой. Важна не величавая потусторонность повелителя дна морского, а лирическое состояние покинутой молодой женщины, которая переживает потерю близкого человека. Известный молодой прозаик, успешно реализующий второй тип мифологизма в своих произведениях – Ирина Богатырёва. Особенно показателен её рассказ «Речной царь», написанный на похожем материале, но менее трагически заострённый.
Третий тип мифологизма – это самый высокий уровень мастерства. Его примеров не найти среди работ участников семинара, не отыскать их и в современной молодой прозе. Этот тип характеризуется познанием реальности с помощью мифа, который выполняет вспомогательную функцию. Таков, например, роман «Спящие от печали» большой русской писательницы Веры Галактионовой. Хаотичное постсоветское время передаётся посредством христианского мифа, он является событийным каркасом для многообразно отражённой распадающейся реальности. Стремление к третьему типу мифологизма – прогрессивный путь, ведущий к масштабу и художественному «утяжелению» произведения.
Молодая российская проза создаётся и развивается прямо здесь и сейчас, на подобных совещаниях и семинарах. Потому особенно важным мне кажется говорить не об абстрактных надеждах и упованиях, а работать с конкретными авторами и их текстами. То, что в произведениях участников нашего семинара чётко просмотрелась превалирующая роль мифологизма и кризис реалистического подхода, на микроуровне отражает ситуацию в целом. И это пока не самая радостная ситуация…
Евгения Декина
Ориентация на хит
В последнее время из-за бурного развития информационного общества полностью изменилась культурная парадигма – искусство стремится к визуальности, к мгновенности и простоте воплощения. Одно только появление мемов – это уже мощное изменение нашего восприятия. В этих условиях интерес к литературе среди молодого поколения упал в целом. Куда большее любопытство вызывают прикладные области литературного творчества – кинодраматургия, реклама, копирайтинг, текстовое сопровождение компьютерных игр, блогинг и журналистика. Массовая культура, которая теперь базируется на основах теории восприятия и психологических разработках, достигла очень высокого уровня технического развития. Она способна удерживать внимание воспринимающего сколь угодно долго. Вместе с тем, целиком ориентированная на развлекательность, она утратила и всяческую смысловую обязательность.
Казалось бы, в этих условиях говорить о поколении юных, тех, кто только входит в литературный процесс, скоропалительно, но очевидно, что подрастающее поколение является наиболее точным индикатором процессов, происходящих в обществе. Они чувствительнее к изменениям и настроениям, а потому быстрее улавливают основные тенденции.
Среди молодого поколения утрачивается интерес к реальности как таковой, а не только к ее осмыслению. Проблема для большинства молодых авторов именно в этом, хотя на деле она проявляется по-разному. Теперь большая часть молодых авторов изначально ориентирована на хит. С развитием интернета в свободном доступе оказалась масса псевдонаучной информации о том, как создать успешное литературное произведение, множество всяческих руководств, форматов и «образцов». Молодые авторы следуют рекомендациям и начинают подражать мировым трендам. Они сразу берутся за сложные формы и уже зарекомендовавшие себя как успешные сюжеты. Часть из них пишет фанфики, приквелы и сиквелы к известным книгам, а часть пытается создать условно свое, которое, конечно же, из-за диктата выбранного формата своим быть никак не может. Молодой автор живет в виртуальном мире сериалов и компьютерных игр, по сравнению с которыми реальность – скука и «тлен». Естественно, наблюдать за такой реальностью и осмыслять ее молодой автор не хочет, а потому продолжает множить симулякры и создавать неловкие подражания известным произведениям.
В прозе молодых авторов тоже есть выдуманные миры непродуманной и непроработанной фантастики и фэнтези. Сделать это качественно молодые авторы не в состоянии по этой же причине – нежелания обратиться к реальности. Ведь для выстраивания собственного ирреального мира необходимо обладать критическим мышлением и понимать законы функционирования мира реального. Хотя бы частично.
Мне, конечно, очень хотелось бы верить, что я ошибаюсь. Что потеря интереса к литературе – явление временное, но пока мне кажется, что мы просто бешеными темпами теряем настоящую литературу и настоящую культуру.
Пётр Фёдоров
Как вырвать детей из сетей?
4 ноября 2018 года, в День народного единства в БГПУ им. М. Акмуллы в рамках Международного молодёжного литературного фестиваля «Корифеи» прошёл «круглый стол», посвящённый проблемам молодой российской прозы. Символично, что нынешний фестиваль состоялся в Уфе в год столетия проходившего здесь Уфимского государственного совещания, которое могло остановить, но из-за разногласий и отсутствия политической воли не сумело положить конец братоубийственной гражданской войне.
Открывший обсуждение прозаик и литературный критик, председатель Совета молодых литераторов Союза писателей России Андрей Тимофеев выделил в литературном процессе последних десятилетий три направления. Если в 90-е годы ведущим литературным течением был постмодернизм, отражающий крушение социальных и нравственных идеалов, а в «нулевые» годы его место занял новый реализм, стремящийся реабилитировать советские ценности, то в последние годы отчётливо заявили о себе новые традиционалисты, пытающиеся вернуть в современную литературу традиционные религиозно-нравственные идеалы и ценности.
Известный уфимский писатель Игорь Савельев в своей речи рассказал о поисках молодыми писателями путей к ускользающим читателям. Наиболее продуктивными методами он назвал выход к читателям через политические институты и социальные сети.
Молодой московский критик Яна Сафронова главное внимание в своём выступлении уделила различным видам мифологизации в современной литературе.
Особенно злободневным для собравшихся было выступление московской писательницы Евгении Декиной, обратившей внимание на то, что современные школьники вообще ничего не читают, кроме коротких сообщений в социальных сетях.
Думается, что главной проблемой современной литературы сегодня стал вопрос о том: ради чего писать? Ради просвещения читателей или собственного самовыражения? После десятилетий засилья коммунистической идеологии наша отечественная литература бросилась в другую крайность – безыдейности и формализма. Но когда наши писатели и деятели культуры перестали просвещать своих соотечественников, их место тут же заняли другие. И если российские кинотеатры фактически оккупировал Голливуд со своей проамериканской, но всё же достаточно профессионально сделанной продукцией, то социальные сети мы сдали на откуп проходимцам. И сотрясающие нас сегодня суициды и вооружённые нападения школьников на учителей и своих одноклассников – это только первые ласточки будущего беспредела, который непременно наступит, если мы будем так же беспечно относиться к своей культуре. Ещё древние греки говорили о том, что государства гибнут тогда, когда их граждане перестают отличать хороших людей от плохих. До революции Россия была непобедимой, прежде всего, потому, что большинство её населения было воспитано на Библии и Коране. Как только в стране появилась критическая масса людей, воспитанных на иных нравственных принципах, общество погрузилось в Смуту. Та же история повторилась в 90-е годы ХХ века. Если мы не хотим новой Смуты и распада России на отдельные, враждующие между собой государства, нам надо озаботиться не столько об экономике и силовых структурах, сколько о нравственном облике нашего общества. Выдающийся советский педагог Василий Сухомлинский ещё в 60-е годы минувшего века писал о том, что «человек может научиться создавать космические корабли и атомные подводные лодки, но если он не научится любить, то останется дикарём, а образованный дикарь во сто раз опаснее необразованного». Русская классическая литература при всём своём многообразии развивалась в русле христианской культуры, проповедующей идеалы любви и милосердия.
Если современные молодые писатели не будут идти на поводу у малообразованной молодёжи, сформированной сетевой массовой культурой, а сумеют повести её за собой к подлинным духовным ценностям, то их профессиональная миссия будет выполнена, и наша литература будет вызывать не скуку, а живой и неподдельный интерес. А для этого всего лишь нужно, чтобы о литературных фестивалях местные и центральные газеты публиковали не по две строчки, а развёрнутые статьи. Чтобы на популярных телеканалах вместо пустых и скандальных передач регулярно проходили встречи с писателями, поэтические спектакли и чтение популярными артистами лучших образцов поэзии и прозы. Чтобы в гимназиях, лицеях и школах литературу не считали третьесортным никчемным предметом. Чтобы в социальных сетях тон задавали не сквернословы и графоманы, а талантливые писатели с традиционной нравственной ориентацией и чёткой гражданской позицией. Чтобы руководители всех уровней встречались не только с выдающимися спортсменами, но и с известными писателями, независимо от их возраста и места проживания. И тогда мы сможем вырвать наших детей из деструктивных социальных сетей и воспитать их достойными гражданами культурной страны.
Выбор редакции
Новости партнеров
