№7.2021. Рифхат Арсланов. Картинки уфимского детства
Рифхат Мухамедович Арсланов – художник, заслуженный деятель искусств РФ и РБ, член Союза художников России и Республики Башкортостан, профессор Уфимской государственной академии искусств
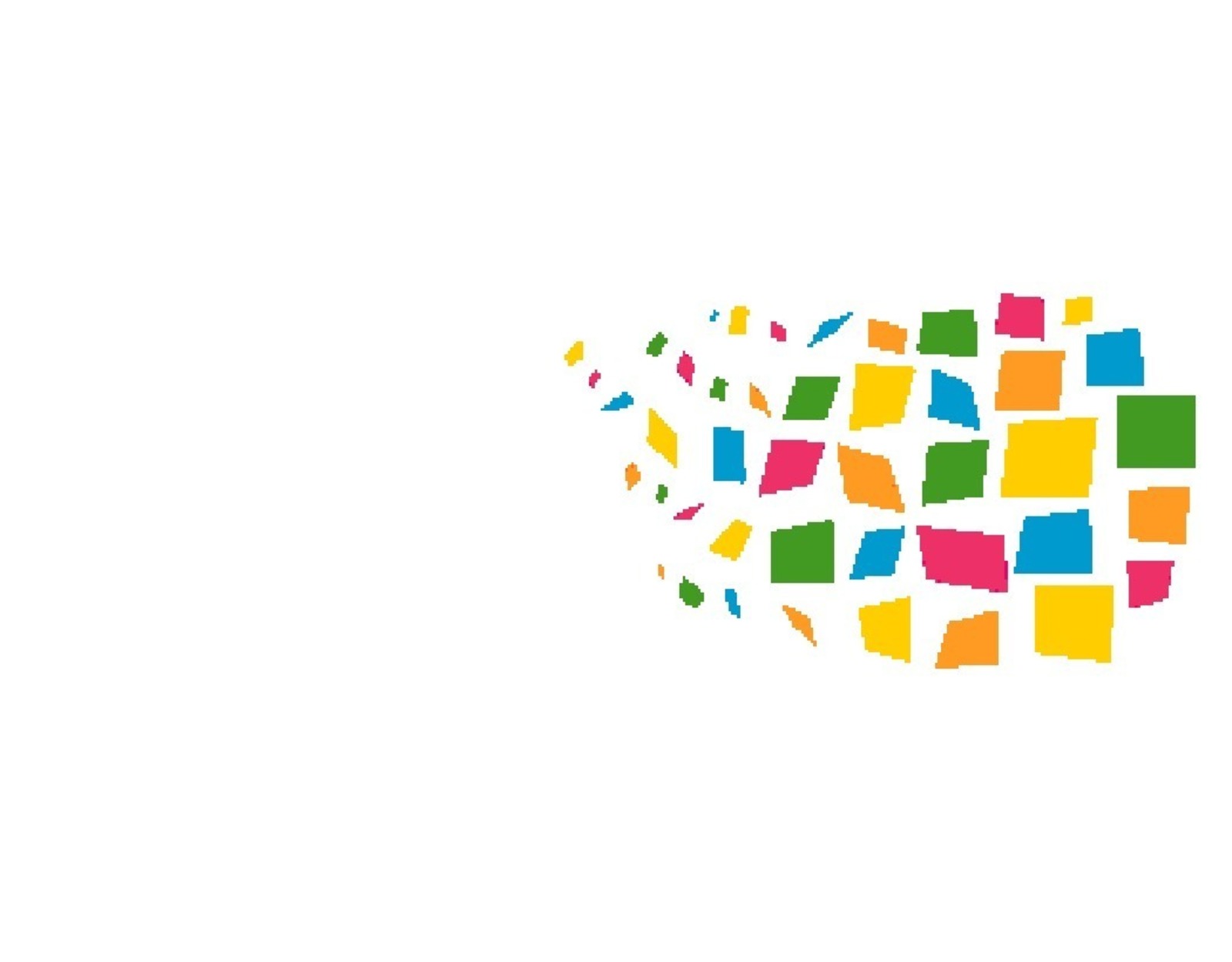
Рифхат Мухамедович Арсланов – художник, заслуженный деятель искусств РФ и РБ, член Союза художников России и Республики Башкортостан, профессор Уфимской государственной академии искусств. Народный художник РБ. Родился 8 августа 1946 г., в 1978-м окончил Московский художественный институт имени Сурикова. С 1968 г. работает в Башкирском государственном театре оперы и балета. Работы Арсланова Р. М. хранятся в Башкирском художественном музее им. М. Нестерова, в музее им. А. А. Бахрушина, в музее им. М. Глинки, в дирекциях выставок СССР, России, в музеях США, Канады, Испании, Германии и зарубежных частных коллекциях.
Рифхат Арсланов
Картинки уфимского детства
1
В Уфе, на углу Пушкина и Гафури, там, где сейчас продают соевую колбасу и напичканных гормонами и антибиотиками кур, в пятидесятые годы росли гигантские тополя. Мощные деревья отбрасывали на землю загадочные и фантастические тени.
За деревьями высился мой детский сад – бывший польский костёл. Нехитрые развлечения, манная каша и гречка на воде – в общей сложности я провел в этом учреждении полгода. Бабушка очень удивлялась, когда я, четырёхлетний, в очередной раз сбегал и оказывался дома. В тихий час, когда сон никак не брал, я разглядывал стрельчатые готические окна, лёжа на козлоногой складной койке, не догадываясь, что когда-то здесь стоял орган или просто фисгармония.
Потом я сильно заболел двухсторонним воспалением лёгких. Приезжала медсестра на обитом хрустящей кожей тарантасе. Зловеще кипятила на плитке в железной коробке шприц. Я сбегал в огород и пытался спрятаться, как зловредное насекомое среди картофельной ботвы, но меня вылавливали и всаживали один из пяти за день положенных мне уколов.
Знаменитый педиатр – почитатель чудесного меццо-сопрано моей мамы – Александр Бенедиктович Геллер сказал, что я, пожалуй, умру и, пока мама молодая, посоветовал родить мне дублера для надёжности. Помню его внушительную трость с набалдашником, и как он элегантно приходил в бабушкину халупку, где жили, помимо меня, тётушки на выданье, а также мой дядя-фронтовик, двадцати с гаком лет. У дяди осталась пуля от фашистов в легких возле аорты, так он и умер в пятьдесят лет с этим «сувениром». Дядя был красавец с монобровью и пользовался оглушительным успехом у прекрасного пола, его фронтовым трофеем была не только немецкая губная гармошка, но и прекрасная девушка, с которой он поселился в чуланчике, пока хлопчатобумажный комбинат, который находился в Гостином дворе, не выделил ему квартиру.
В доме, где я жил, висела наивная картина на фанере, доставшаяся бабушке, видимо, от её родителей. Бабушка называла её «Кыз, кёнта, бидра», то есть девушка с коромыслом и с вёдрами, полными водой, идёт к себе в белоснежную мазанку. Мелкие цветочки, похожие на испражнения мух, мерцают вокруг дома, а на зеленоватом небе – красное-половецкое, как в опере «Князь Игорь», насыщенное солнце обещает на завтра удачный набег. Примитивное зрелище, а как врезалось в память!
На праздники на здании хлебозавода вывешивали громадный портрет Сталина, обрамленный гирляндой. Хлебозавод был наше всё! Аромат такой, что даже слюнки текли! Из воинской части приходила подвода с большим фанерным ящиком, в него загружали хлеб для солдат конвойных войск. Во дворе продавали муку, но строго по нормативам. Признаюсь, меня брали напрокат знакомые и соседи, чтобы получить муку дополнительно.
Ещё нас впечатляли похороны, кладбище было рядом. Хоронили тогда великолепно и основательно: покойника сопровождала торжественная процессия, оркестр звучал за много километров до кладбища. Мы, дети, насмотревшись на ежедневные представления, на игрушечных грузовиках тоже хоронили выпавших прозрачных птенчиков, а девочки умудрялись сплетать миниатюрные венки.
Лето 1953 года было жарким, почему-то летало много бабочек-капустниц. Однажды я зашёл к соседке, и по репродуктору сказали, что Берия – империалистический шпион, а соседка Рита заявила, что Маленков надавал ему пинков. Осенью я должен был поступать в первый класс, и завуч школы № 2 стала меня экзаменовать: как зовут, откуда я и какие буквы знаю. Меня заклинило, и я молчал как белорусский партизан. Учителя стали переглядываться, и вдруг самая пожилая показала мне картинку – я визгливым и радостным фальцетом завопил: «Сталин!!!» И меня приняли! Но это уже другая история.
2
Не знаю почему, но слово РИК (Районный исполнительный комитет Уфимского района располагался по адресу: ул. Гафури, 39) у меня ассоциировалось с городом Рига, может, оттого, что у папы был однокашник по академии Гарольд Адольфович Зыринис, который ностальгировал по Прибалтике, морю, кораблям, Домскому собору, башням со шпилями и флюгерами. Тут, кстати, папа привез из Москвы шикарную книгу об эстонском искусстве, и одновременно шёл фильм «Калевала», где морские волки со шкиперскими бородками и просто крепкие лесные братья перебирали струны кантеле и задумчиво курили трубки. По малости лет мне было не важно, Эстония это или Латвия, я верил в телепортационное перемещение и действительно во сне летал в различные уголки мира, чувствуя при этом необыкновенную лёгкость.
Вот и в этот раз, стоя с ровесниками от пяти до восьми лет, я вглядывался в горизонт на западе, туда, где садится солнце и где Москва. Год назад дюжий второгодник из соседней школы, подняв меня за уши, уже показывал «Москву», но я, зажмурившись от боли, ничего не увидел. Пока мы мечтали, самый шустрый из нас – Шурик – пообещал принести пирожки, которые испекла бабуся. Но принёс почему-то только серую обветшалую коробку, наполненную маленькими пакетиками, разорвав которые, мы обнаружили много надувных шариков. Кто-то сбегал за катушкой ниток, и вот уже целый мутно-белёсый букет шаров типа винограда «дамские пальчики» трепещет на ниточках. Мы надеялись, что они улетят на небо… Но никак – пришлось сердито проткнуть все поочерёдно. На взрывы прибежал раскрасневшийся отец Шурика в семейных трусах; расстроенный и сердитый он увёл незадачливого похитителя презервативов, и за воротами мы ещё долго слышали ноющий, хныкающий голос приятеля.
Потемневший от сырости и времени РИК высился прямо за забором – слева громадный тополь, всегда шуршащий листьями перед грозой. Два его окна выходили на улицу, ночью они закрывались ставнями и прижимались железякой, штырь от которой через дырку в стене вводился внутрь и фиксировался. Зимой во время крепкого мороза наслюнявленный палец крепко примерзал к железяке. Края стёкол прикреплялись замазкой, а на зиму между двойных рам иногда подкладывали вату с блестящими битыми игрушками – для волшебства, а самые изобретательные ставили кирпич, тоже облепленный ватой, и получалась сногсшибательная композиция с сугробом.
Весной бабочки и мухи оживали, чистили хоботками мохнатые лапки, пучеглазо бились в стекло и старались улететь на волю откладывать потомство, а тот самый тополь наливался силой, выстреливая смолистую, невообразимо пахнущую кожуру почек-липучек.
Осенью в РИКе проводили выставки урожая – огромные тыквы, кукуруза различных размеров и расцветок – мы удивлялись красным, фиолетовым и синим зёрнам, пробовали на вкус, грызли сухие каменные початки.
В этих же «выставочных» залах происходили заседания судов и оглашение приговоров. Осужденных – недовольных злоумышленников – стражники забирали под стон и причитания жен и любовниц.
В РИКе также проходил процесс призыва в армию парней-колхозников: в комнате, где проводилась медицинская комиссия, окна почему-то не зашторивались, и это был бесплатный спектакль, просмотрев который, мы решили, что когда вырастем, уйдём в партизаны.
Спустя некоторое время на нашей улочке стихийно появились повозки и арбы с призывниками и провожающими – гармошки со звоночками, всё самое вкусное, которое берегли для этого торжественного случая. Песни, пляски, прощания. Запорожская сечь да и только. К вечеру ликующая толпа стала расходиться, зато оставалось самое ценное – конские яблоки. Тут же выбежали окрестные бабки собирать подарки природы.
На следующий день мы с бабушкой добавили этих самых яблок в корыто с глиной и известью и стали ногами месить раствор – незаменимый строительный материал для наружной штукатурки. За этим занятием и застала нас Римма Лазаревна Фишер – педагог по вокалу моей мамы. «Муся! – сказала она. – Пора учить сына музыке, если не на скрипке, то хотя бы на фортепиано, а месить г…но он всегда успеет!» Я как ужаленный выпрыгнул из жестяной ванны, в которой когда-то бултыхался младенцем, а тетя Римма вручила мне красивую книгу – ведь мне в тот день исполнилось семь лет! Купив пианино «Красный Октябрь», мама убила сразу двух зайцев: теперь она могла распеваться дома, а ко мне приходила Светлана Хамадуллина, тогда ещё студентка училища. У неё был свой метод: когда родители не видели, била нотами по пальцам (правда, не больно) и требовала, чтобы руки красиво располагались на клавиатуре, как будто у меня в ладонях теннисный мячик.
Через год меня повели в музыкальную школу. Завуч школы Миляуша Галеевна [М.Г. Муртазина. – Ред.] простучала ритм – я повторил, нажала на клавишу – я отгадал и подобрал звук. Зайдентрегер [Моисей Акимович Зайдентрегер (1914–1994) – музыкант, пианист, педагог. – Ред.] меня не взял: у него всегда был аншлаг. Я стал заниматься у Фариды Губайдуллиной [Фарида Закировна Губайдуллина (1919-2013) – преподаватель класса фортепиано. – Ред.]. А для моего папы наступили чёрные акустические дни.
3
Ленина, 2 (Дом специалистов) – что-то вроде «Дома на набережной» Трифонова. Смутно помню заселение моих родителей на пятый этаж. Квартира на двух хозяев, соседом оказался геолог.
Спал я на двух стульях: ведь я был воскресный сынок, который жил у бабушки и не мешал родителям оттачивать мастерство в искусстве. Так же – на два дома – проживал мой лучший друг – белоснежный немецкий шпиц Шарик, в уфимских снегах он растворялся, сливаясь с сугробами, как финский лыжник-снайпер, потом возникал неожиданно и громким лаем требовал открыть калитку бабушкиной избушки.
В Доме специалистов – двор-колодец, посередине которого была фигурка Красной шапочки в овальном водоёме; скульптурку постоянно заслоняли и задували трепещущее на ветру простыни, семейные трусы и пододеяльники на шнурах и бечёвках – на всё это я взирал из кухни. Из гостиной открывался вид на медицинский институт, в обширном дворе которого ковыляло много собак на трёх лапах, подопытные заискивающе и весело виляли хвостами при встрече со своими хирургами-мучителями.
Оазисом и джунглями моего сердца был парк имени Матросова. Он тоже был как на ладони: потрясающий и странный вход в стиле сталинского ампира, справа шедевр деревянного зодчества с намёком на модерн и провинциальную постготику – кинотеатр «Идель». Громадные лягушки изрыгали струи воды, а бильярдная, в которой в облаках табачного дыма встречались маститые артисты, художники и различные деятели, гудела, как улей бурзянской пчелы. Я незаметно прошмыгивал в комнату смеха и мужественно взирал на свои уродства, потом тихо возвращался – уже тогда, когда папа намелованными пальцами вытаскивал свой последний шар из лузы. Слева в парке было что-то наподобие маленького Версаля: фонтанчик «Дети под зонтом», под деревьями вместо барочных фигур – железобетонный Сталин клялся Ленину в верности, а на следующей мощной плите вожди уже отдыхали под сенью сосен.
Полузарытый в землю цирк-шапито потрясал своей программой. Метали ножи и прыгали через огонь братья-китайцы Ван Ю Ли, скакали лошади с отчаянными джигитами, крались львы и тигры, выползали различные гады. Потом наступала короткая летняя ночь, слоны тревожно трубили, львы с тиграми рычали и тяжело вздыхали, а кобры видимо старались выползти на волю. Я чувствовал себя великим путешественником в джунглях реки Амазонки!
Под нами на четвертом этаже жил знаменитый бас Габдрахман Хабибуллин. У него была отдельная квартира, на пианино и комодах всюду тикали десятки одинаковых красных настольных часов (видимо, дарили за шефские концерты). Голос Габдрахман-агая часто звучал по радио, он пел про генерала Шаймуратова, который в огне не горит и в воде не тонет. По ночам в этой громадной квартире часто собиралась компания наших родителей поиграть в лото. У некоторых из бочонков были смешные, понятные окружающим названия: например, вытаскивая номер 88, объявляли: «Сёстры Валиахматовы», потому как они были толстые и упитанные, или «Хисмей» при номере 77 – намекали, что у Магафура Хисматуллина ноженьки такие. Почти у всех были прозвища, но никто не обижался. Когда великий тенор Пётр Кукотов, встречая сына, объявлял: «Щиночек пришёл!» – все замирали – знали, что он не выговаривает букву «с»! Веселье продолжалось до утра. Дядя Петя, неизменный Хозе моей мамы – Кармен, часто становился после спектакля жертвой моей кровавой мести, я бросался на него со шпагой, и он красиво падал за пыльную декорацию. Внезапно из-за кулис появлялся толстяк Труевцев (тореадор Эскамилио), он добродушно хлопал нас по плечу и называл всех почему-то моралесами.
Почему я сравнил Ленина, 2, с «Домом на набережной»? Некоторые жители исчезали всерьёз и надолго, но это было до нас. Обитал в этом доме чекист N, живший с великой артисткой Башдрамы. Мой отец работал и дружил с выдающимся режиссёром Магадеевым, которого расстреляли в 1937-м. Так вот, мороз по коже: этот товарищ допрашивал и папу. И таких историй в доме было предостаточно.
4
В 1955 году меня не взяли на Декаду башкирской литературы и искусства в Москве. Считали, что я буду только мешать, но пообещали, что когда подрасту, меня обязательно вывезут на гастроли. Я опять остался со своими курами, голубями и котом. Мне было обидно и скучно, и я решил, как ковбой, метать нож в яблоню. Нож отскочил и воткнулся в руку, с тех пор шрам – память о несостоявшейся поездке.
Вот в прошлом, 1954 году у мамы был последний депутатский год, и тогда нас с бабушкой взяли в Москву. После провинциального захолустья Москва меня потрясла. Так далеко я никогда не ездил. На некоторых станциях уже стояли накрытые столы, и нужно было быстро, до прощального гудка, съесть жиденький рассольник с тремя кусками хлеба и котлетой.
Наконец, Казанский вокзал, где в депутатской комнате я впервые увидел телевизор с лупой из воды. В гостинице «Москва» был лифт, из него не хотелось выходить, а кататься, кататься, кататься до исступления.
Наши окна выходили на двор позже снесенного «Гранд-отеля», вдали на крыше «Метрополь» моргала лампочками реклама такси. Моя бабушка как молитву повторяла: «Такси – все улицы близки». А эскалатор в метро приводил её в ужас, я заранее выпрыгивал с движущейся дорожки и чётко, как маленький принц Зигфрид из Лебединого озера, подхватывал её на лету – толстую, добрую, несуразную.
Москва отмечала воссоединение Украины с Россией! На меня надели малороссийскую с кисточками вышиванку, мы выстояли очередь в Мавзолей, там, величаво зажмурившись, покоились Ленин и Сталин, было прохладно, но уютно – вожди ещё не знали, что Крым отошёл к Украине.
5
Южная часть парка имени Матросова выходила на Архиерейку – горбатые улочки круто скатывались к реке. Цветущие сады с фруктовыми деревьями опьяняли не только неистовых богомолов, но и обыкновенных агностиков, с которыми атеисты часто находили общий язык. В домах издавна жили с семьями служители культа – респектабельные священники. С поповской дочкой одна из моих тётушек дружила, обменивалась выкройками, и на праздники они обновляли свой скромный гардероб: успевали пошить новые ситцевые платья с рукавами-фонариками.
Над обрывом кукарекали петухи, щипали травку козы, по улочкам бегали разноцветные собачки, облаивая незнакомых. Псы посерьёзнее были прикреплены к стальному тросу и, как канатоходцы, скользили исключительно по вытоптанной среди птичьего горца тропинке. Так что у тех, кто появлялся здесь впервые, часто «рвались» штаны – местные собаки, особенно со щенятами, покусывали, если, конечно, не было угощения в виде косточки или твердого, как гранит, сахара.
За забором в парке – парашютная вышка: отчаянные люди готовились к смертельному прыжку. Пролетев над старыми берёзами, коренастые крепыши в надвинутых на брови восьмиклиночках или просто хилые ботаники в очках устремлялись в объятья своих дам, которые от неожиданности оставляли сочную помаду у них на щеках, на лбу и даже на рубашках. Перед прыжком отдыхающие видели марево Забелья и фундамент глупо снесенного Воскресенского собора. Гвоздь старого парка – танцплощадка, огороженная высоким на просвет забором, с таинственным освещением, как в жерле потухшего вулкана, всегда конкурировала с танцплощадкой парка имени Луначарского. Мы с приятелем втайне от родителей приезжали на велосипедах посмотреть на столпотворение молодёжи. Я оказывался в другом измерении: днём – занятия в средней и музыкальной школах, а вечером – задиристые компании, в которых если обидят и ты не ответишь, то ты полное ничтожество и печальна твоя участь. Помню, когда сгорела мечеть на мусульманском кладбище, мы с другом пошли посмотреть поближе (тогда говорили, что подожгли специально, чтобы стащить ковры, но теперь мы знаем о борьбе Хрущёва с религией), нас окружила толпа кладбищенских пацанов. Хотели поколотить, но вовремя появился местный главный шишкарь – Аминь и лениво приказал своих не трогать. Накаченные главари, виртуозы драк пользовались неизменным авторитетом подростков Трактовой и Нижегородки. К сожалению, дальнейшая судьба этих смелых и конкретных парней сложилась незавидно.
Играл оркестр и в Лунном (парк Луначарского), мне состав оркестра казался интересней – здесь часто играли «Караван» Дюка Эллингтона. Трубач по кличке Зина становился на цыпочки, когда брал высокую ноту, толкались непонятные субъекты в пиджаках с люрексом, «шестёрки» бегали за пивом, у девушек были взбитые бочкообразные причёски – а-ля «гнёзда ночных птиц» с чёлками. Шныряли неопределённые лица с полубаками и посиневшими лицами, которые ловко закидывали в карман брюк оранжево-сизый семенной огурец и вразвалку шли приглашать на танец.
Но самый «кордебалет» начинался на перекрестке у оперного театра: два потока – из Матросова и Луначарского – сливались в один мощный общий. Далее выяснялись отношения – было много обиженных и обделённых. Случались драки. Вначале приглядывались и потом шли иногда стенка на стенку уже возле кинотеатра «Октябрь». Бились азартно и весело, но по чести. Лежачих не били и ног не применяли, и шиньонов из причёсок не выдирали.
Кинотеатр «Октябрь» с живописными подворотнями многие годы был самым главным. Опять-таки там был зал, где играл среди пальм в бочках биг-бэнд и в нём солировали замечательные музыканты из оперного. На сегодня остался только Малый зал, где сейчас сберкасса, я до сих пор помню трансляцию музыки на улицу из «Серенады солнечной долины». Всё снесли (дом Михаила Нестерова, кинотеатр, гастроном), чтобы построить на этом месте безликое общежитие (позже – гостиница «Агидель»). А ещё дальше по улице, слева от почтамта, располагался целый каскад совершенно изумительно красивых домов XIX и начала XX века! И его не сохранили, зато какой-то архитектор-минималист возвел коробку коммутатора, превратив эту историческую часть улицы во двор сталепрокатного завода.
Толпа продолжала идти по улице Ленина, постепенно редея, садилась на трамваи – разъезжалась по домам. Почти ни у кого в конце пятидесятых в Уфе не было телевизоров, а о компьютерах и айфонах даже не подозревали. А с утра молодёжь уже спешила строить коммунизм...
6
В пятидесятых годах прошлого века пирамидки из банок с крабами в окнах рыбного магазина на углу Ленина и Пушкина совершенно не производили впечатления на простого советского едока. Селёдка стоила копейки, а самым демократичным рыбным блюдом считалась бочковая, мельчайшая килька, которую продавали в бумажных кульках – под водочку с пивом. Употребляли её просто: выплёвывая голову и заглатывая целиком прямо со всеми органами, смачно занюхивая чёрным ржаным хлебом. Так что денег на ветер не бросали.
Рыбный магазин был у нас на пути домой, и мы часто забегали в него. Для меня самым интересным в нём было сооружение из толстого стекла, похожее на аквариум с плавающими усатыми и неуклюжими зеркальными карпами. В кармане у меня были заготовлены кусочки белого хлеба, и почти всегда незаметно удавалось подсыпать крошки рыбкам, а потом наблюдать, как они клюют, ведь разглядеть, сидя с удочкой, физиономии крупных рыб невозможно.
Продавец упаковывала нам уже вроде уснувшую рыбу – мы приносили её домой, чтобы зажарить на подсолнечном масле, но, когда начинали их мыть от слизи, караси и карпы приходили в сознание, окончательно протрезвев в ванной, нервно резвились, хлопая жабрами и пуская пузыри, просились на свободу. Папа и я – скрытые гринписовцы, в который раз тащили ожившие дары рек в пруд парка Луначарского. Утром было тихо – лодки, прикованные цепью, замерли у причала. Рыбы, почувствовав волю, благодарно виляли хвостом и растворялись в подводном мире. После всплеска было слышно, как журчит самый настоящий родник, питающий озеро.
А ещё в парке был летний театр. Помню, в Башкирский театр драмы вернулось из Москвы мощное пополнение – Мубарякова, Юмагулов, Атнабаева, Абдразаков, Каримовы. Я смотрел их выпускной спектакль как раз в летнем театре: скрипели балконы, после оглушительных оваций мы вышли опять в летний сад, где в героических позах стояли античные скульптуры богов и олимпийцев. За ними светился ресторанчик и открытая эстрада, с подмостков которой поэт Газим Шафиков позже пафосно призывал комсомольцев совершать героические подвиги.
Давно уже нет тех гигантских тополей, на срезе которых запросто можно было расположить кабинет секретаря обкома. Тогда пух был везде – он летал, его поджигали и от него чихали. Тополь порождал моль, а моль после ваты дружно набрасывалась на шубы, свитера и бабушкины носки. В ажурной беседке продолжал играть военный духовой оркестр – исполняли старинные декадентские вальсы и бравые марши.
Но вернёмся к рыбному магазину как к точке отсчёта. Итак, двор «рыбного» был заселён пёстрой публикой. Жизнь, особенно при благоприятной погоде, протекала на свежем воздухе: сушилось бельё, выбивались ковры, хозяйки общипывали посиневших кур, а дети, собаки и коты играли в войну – как и везде. Двор рыбного магазина примыкал к одному из зданий роддома [Ленина, 10. – Ред.]. Главный корпус роддома находился на Советской площади: во время торжеств новорожденные дружно встречали демонстрантов криками «уаа-ура!» и требовали у мам повышенных порций молока. В обычные дни мамы с гордостью показывали своих чад, отцы суетились у окон роддома с авоськами, сумками и даже погремушками и своим поведением выражали вселенское счастье. Однако многодетные папы вели себя скромнее, но солиднее.
Любителям старины сразу скажу: рыбный магазин стал музыкальным колледжем, в роддоме теперь Министерство молодёжной политики, остальные здания давно уничтожены и на их месте Национальная библиотека.
От запаха следующего здания у любителей сладкого начинались судороги: в подвале его располагался цех по изготовлению пирожных и различной выпечки. Женщины в белых халатах и чепцах, похожие на пасхальные куличи, облитые белой глазурью, месили сдобное тесто – раскатывали, нарезали и вкладывали невообразимо вкусные джемы и варенья.
За кондитерской открывался проход к двухэтажному деревянному дому. Там жила Римма Лазаревна Фишер с братом и племянницей, мама часто заходила к ним, иногда со мной. Тётя Римма была некогда известной певицей и даже пела с Собиновым. Брат её сильно болел, ходил с бутылочкой и при этом курил, часто заразительно смеялся и был оптимистом. За его дочерью Нелей ухаживал Мидхат Галеев. Отойдя в сторонку, тётя Неля спрашивала у мамы: «Серьёзный ли он мужчина? Не пьёт?» Дядя Мидхат был озорной и весёлый певец, у него была шутка с бутафорской рукой, иногда он её использовал для рукопожатия. После такого приветствия Магафур Хисматуллин в изумлении подпрыгнул выше Нуреева, а режиссер Бакалейников буквально сполз в руки карателей Салавата, хотя Галеев был, кажется, в образе Пугачёва. В конце концов его уникальная рука стала желтеть и через несколько месяцев стала ярко оранжевой, как апельсин, и совсем не озадачивала.
7
После успешной декады в Москве родителям, наконец, выделили отдельную квартиру на Карла Маркса, 64, возле Солдатского озера. Квартира была просторной, но на первом этаже. Подоконники с улицы располагались на уровне сгиба рук подозрительных лиц, вечно ожидающих редкий автобус и дымящих в десятки глоток папиросами. Люмпены и маргиналы на наших окнах распивали водку или дешёвый портвейн и часто стучали в форточку – просили стакан, штопор и даже закуску, перед тем как уехать зайцем.
Но главный сюрприз этой квартиры превосходил самые фантастические грёзы – лежишь, бывало, в ванной и читаешь газету о Суэцком кризисе и вдруг – бульканье и шипение – выбивает со свистом затычку ванной, и продукты жизнедеятельности верхних соседей фонтанируют. Соседи с нижнего этажа в босховском стиле срочно образовывали конвейер полуголых грешников и весело передавали зловонные вёдра друг другу. Всё очень напоминало картину очередного круга ада.
То было время падения культа нашего вождя и борьбы за мир! В конце января вдруг стали отмечать день смерти Ленина – с флагами и с траурными лентами – до сих пор не пойму почему.
Несколько раз с сиреной проводилась воздушная тревога, и тогда мы спускались в подвал и тихо сидели, правда, без противогазов, ведь под домом было бомбоубежище. В оперном театре устроили выставку об ужасах атомной войны: всюду висели фото обгорелых японцев с радиоактивными волдырями. Радиации ещё никто не боялся, но тихо умер от лейкоза мой друг Шурик. Его бабушка подарила мне на память его любимый кортик и ещё игрушки, с которыми мы любили играть и даже устраивали из-за них потасовки. В общем, грусть-тоска.
Шёл 1956 год – уже успели взорвать «царь-бомбу» на Новой земле, Жуков провел атомные учения в Тоцке под Оренбургом, а под Челябинском тоже намечалась катастрофа покруче чернобыльской. И всё рядом с нами! Помню, ходил как чумной и часто болел, но выдержал и радиоактивно мутировал.
В 1957 году назло американцам запустили первый советский спутник, мы с папой специально выходили гулять ночью вокруг озера, чтобы разглядеть светящуюся точку нашей победы в космосе.
В 1956-м меня, наконец, взяли на гастроли в Тулу. Табор артистов с жареными курами и дымящейся картошкой осаждал поезд Уфа – Москва со старого и, казалось, вечного и прекрасного вокзала. На мне экономили, и ехал я без места – спать ложился над входом в купе там, где перевозят чемоданы.
Нас поселили с Тамарой Худайбердиной и Владимиром Григориным, они – в комнате с телевизором с дистиллированной водяной лупой, у нас – комната попроще. Дядя Володя захватил с собой из Уфы гоночный велосипед. Велик был стильный и брутальный, с прибамбасами и пузырьком для какой-то допинговой жидкости – хлебнув её, можно было запросто обогнать междугородний автобус, а вечером смачно станцевать главного головореза – хана Кончака. Весь подтянутый, как струна, с рельефными мышцами, дядя Вова производил на меня сильное впечатление, так же как, видимо, на Тамару Шагитовну, которая вечно таскала за ним его велосипед и кормила его с ложечки.
Бывал в этой съёмной квартире потрясающий острослов и душа компаний – дядя Нариман [Нариман Гилязевич Сабитов (1925– 1971). – Ред.], который, увидев меня, запросто запускал свои дирижерские пальцы в мою шевелюру и что-то там переключал, сбивая причёску. Потом он подмигивал и начинал рисовать у меня в альбоме котов со спины: удивленный кот, дрожащий кот и кот какающий. Громко возмущался, что его опять досаждают артисты – просят роли, и странно произносил их имена, например Матьхия (действительно, сын у неё был выше двух метров, часто ходил босой, потому как невозможно было достать обувь его размера). Сын Бану-апы был старше меня на два или три года, она его ласково звала «Мухран кокасы». Сабитов хохотал и говорил, что он – Бану монкасы. Тем не менее я с Алика брал пример: закажет он пиво на обед – я, десятилетний, тоже. Но мне вместо пива доставался подзатыльник от родителей. Он ходил в кино до шестнадцати, а меня с позором прогоняли билетёры, ему купили бредень, а мне нет. Зато потом мы пробирались в реквизит театра и стреляли из настоящих шмайсеров с продырявленными стволами и сражались настоящими саблями. Куда это всё исчезло – неизвестно.
В Туле был Кремль, старинная архитектура – нас, уфимцев, этого богатства лишили различные районные активисты, понятия не имевшие о культуре и пробившиеся к власти со своими кланами. Сносили, взрывали, указывали путь к светлому будущему – получали ордена и шикарные квартиры. Как-то в Туле в выходной собрались мы компанией и поехали в Ясную поляну ко Льву Толстому, но застали только его кучера, вполне адекватного. Жил гений очень даже скромно: все знают, что могила его просто холмик, зато парк – целый лес!!! Мой папа на спор устроил забег с вечным Эскамилио и неподражаемым Риголетто – Труевцевым [Михаил Иванович Труевцев (1903–?) – певец. Заслуженный артист РСФСР и БАССР. – Ред.]. Дяде Мише помешал живот, и ему пришлось выставить папе бутылку коньяка.
После гастролей я опять вернулся к бабушке с её русской печкой и с загадочным сундуком, внутри которого была приклеена фотография царя, на крышке лежала армейская дублёнка дяди, прошедшего войну. На этой дублёнке, под которой ещё была шинель для мягкости, я просидел за домашними заданиями восемь классов школы.
(Окончание в № 8)
